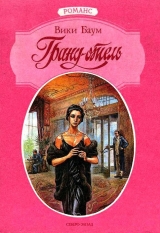
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Нет, Флеммхен вовсе не влюбилась в Крингеляйна – в жизни едва ли бывают подобные идиллии. Но в этом гостиничном номере Флеммхен чувствует что-то вроде близости и защищенности, что-то, что кажется ей более прочным, чем все прежние импровизации, случавшиеся в ее мотыльковом, порхающем существовании. Крингеляйн говорит и говорит, к нему приходят все новые и новые слова, он говорит и облегчает сердце словами, говорит о своей жизни, и ему кажется в этот час, что всю жизнь он прожил ради одного события и ради одной цели – ради чуда, которое встретилось ему сегодня, ради совершенства красоты, которое он видит перед собой, в своей постели, ради девушки, которая пришла к нему, ушла от Прайсинга и пришла к нему.
У Флеммхен не было чрезмерного самомнения. Она знала себе цену. Двадцать марок за снимок в обнаженном виде для журнала. Сто сорок марок в месяц за работу в канцелярии. Пятьдесят пфеннигов за одну машинописную страницу. Меховая шубка ценой двести сорок марок за несколько ночей в чужой постели. Господи помилуй, да откуда ей было знать свою истинную цену? Но в словах Крингеляйна она впервые открыла самое себя, увидела себя, как в зеркале, увидела прекрасную золотистую кожу, светлые золотые волосы, увидела свое тело, всю его красоту, его свежесть, его беззаботную радость и безостановочную жизнь – она открыла самое себя как запрятанное сокровище.
– Да я ведь вовсе не какая-то особенная, – смущенно пробормотала она и вспыхнула.
Когда в потоке слов Крингеляйна вдруг всплыло имя Прайсинга, Флеммхен вздрогнула от испуга. И она, и Крингеляйн за последние полчаса успели забыть о том, что произошло в залитом зеленым светом 71-м номере. Теперь же кошмар снова был здесь.
– Я туда больше не вернусь, – прошептала Флеммхен. – Наверное, его уже забрали. И меня тоже заберут. Я останусь здесь, спрячусь.
Крингеляйн нервно усмехнулся.
– Почему заберут? – Хотя он и спросил так, ему тоже было страшно. Теперь он снова очень ясно увидел перед собой Гайгерна. Гайгерн в автомобиле, Гайгерн в аэроплане, у игорного стола, в белом свете ринга. Гайгерн, наклонившийся над ним, Крингеляйном. Гайгерн, отдающий ему бумажник. Гайгерн между стеклами вращающейся двери… – Почему ты думаешь, что тебя заберут?
Флеммхен серьезно кивнула головой и наивно ответила:
– Как свидетельницу.
– Ты так думаешь? – рассеянно спросил Крингеляйн. Он смотрел на Флеммхен, но видел не ее, а по-прежнему Гайгерна. И тут Крингеляйн снова помчался на бешеной скорости вчерашнего дня. – Не бойся, не надо. Я все устрою, – быстро сказал он. – Ты… Ты ведь останешься со мной? Тебе со мной будет хорошо. Я ничего не хочу – только одного: чтобы тебе было хорошо. Останешься? У меня есть деньги. Денег нам хватит. На долгое время хватит. Я могу и еще выиграть. Мы уедем отсюда. Поедем в Париж. Или… Куда ты хочешь?
– У меня оформлена виза в Англию.
– Хорошо. Хорошо, в Англию. Куда хочешь. Все, что хочешь. У тебя будут платья. Надо, чтобы были платья и деньги. Мы будем жить сумасбродно, хочешь? Я подарю тебе деньги, которые выиграл, три тысячи четыреста марок. А потом у тебя будет еще больше денег. Ничего не отвечай, ничего не говори, молчи, просто лежи сейчас спокойно. Я пойду туда. К Прайсингу. Посмотрю, что там с ним. Ты веришь мне? Веришь, что со мной тебе будет лучше, чем с Прайсингом? Хочешь остаться со мной, а не с ним? Сейчас я схожу туда и принесу твои вещи. Положись на меня. Ничего не бойся…
Крингеляйн ушел в ванную, быстро оделся: черный пиджак, темный галстук из плотного шелка. Со странным лихорадочным и пронзительно волнующим чувством одевался он среди ночи, когда на улице совсем тихо и в отеле отключено отопление. Флеммхен сидела в кровати, прижавшись щекой к коленям. Она глубоко вздохнула. Вот сейчас у нее разболелась голова, в горле пересохло. Ей хотелось съесть яблоко и выкурить сигарету. Она взяла со столика возле кровати бутылочку с «Бальзамом жизни» и понюхала пробку, запах корицы показался ей неприятным. Крингеляйн вышел из ванной – теперь он снова выглядел как изящный, элегантный господин. А может, он таким и был, этот Отто Крингеляйн из местечка Федерсдорф, Крингеляйн, который двадцать лет кряду по требованию жены каждый день колол дрова…
– Я пошел. Никуда не уходи, лежи тихо, – сказал он, надевая пенсне. Глаза у него были светлые, блестящие и косили, зрачки казались большими и черными. У двери Крингеляйн обернулся. Снова подошел к кровати и вдруг опустился на колени. Закрыл лицо руками и что-то пробормотал. Флеммхен ничего не разобрала.
– Да. Конечно да. Конечно, – сказала она.
Крингеляйн поднялся, протер торчавшим из нагрудного кармана платком пенсне и вышел. Флеммхен услышала, как он отпер наружную дверь, как удалились его шаги по коридору. И еще она услышала очень далекую музыку из Желтого павильона, где танцевали те же люди, что танцевали там три часа назад…
Гайгерн лежит на ковре в 71-м номере. Он мертв. С ним уже ничего не может случиться. Никто на свете уже не будет его преследовать или ловить, никогда уже барон фон Гайгерн не попадет в тюрьму, и слава Богу. Он никогда не приедет в Вену, где его ждет Грузинская, и это печально. Но у этого красивого, сильного, сбившегося с пути человека была завершенная и наполненная жизнь. Он был маленьким ребенком на лужайке, мальчишкой, сидящим верхом на лошади, солдатом на войне, был борцом, охотником, игроком, любящим и любимым. Теперь он мертв. Немного влаги блестит в его волосах, по синей пижаме расплылось черное пятно, на губах – удивленная улыбка. На ногах поверх туфель у него натянуты воровские шерстяные носки, а на похолодевшей уже правой руке виден порез, память о последнем любовном приключении барона, этот порез уже не заживет…
Прайсинг тоже слышал танцевальную музыку, доносившуюся снизу, из Желтого павильона, и музыка причиняла ему немыслимые мучения. Все, о чем он думал, было подчинено джазовым ритмам, синкопам Истмен-джазбанда, которые гремели на первом этаже и проникали сквозь стены отеля. Невозможно было найти ничего менее подходящего к тому, о чем всю ночь думал Прайсинг, чем эта музыка, игравшая ночь напролет.
«Со мной – все, – думал он. – Все кончено. В Манчестер не еду. Дело с Хемницем провалилось. Меня заберут в полицию. Допрос. Следствие. Необходимая оборона… Да, это была необходимая оборона. Ничего плохого со мной не случится. Но есть зато другое. Девка. Девку допросят. Я был у нее, я отпер дверь, она и сейчас открыта…» Прайсинг сидел в противоположном двери углу комнаты на довольно странном предмете меблировки – на корзине для грязного белья, к крышке которой было приделано мягкое сиденье. Люстру Прайсинг зажег, однако обернуться и посмотреть назад не отважился. Странно, необъяснимо, но он не мог пошевелиться, не мог отвести глаза от мертвого Гайгерна – Прайсингу казалось, что стоит ему отвернуться и взглянуть на открытую дверь в соседний номер, как в ту же секунду произойдет что-то ужасное.
Дверь была открыта. «Я не имею права ее закрыть. Здесь нельзя ничего трогать, пока не придет полиция. Завтра в газетах напишут, что я был в отеле с женщиной. Мамусик обо всем узнает. И девочки, да, и девочки тоже. Господи Боже мой, Господи Боже, что будет, что со мной будет? Мамусик подаст на развод, она таких вещей не понимает, она совсем ничего не понимает. Но она будет права, она будет абсолютно права, если подаст на развод. Такое не должно было случиться, не должно… Да как я теперь этими руками коснусь моих девочек?» Прайсинг посмотрел на свои лежавшие неподвижно руки, испачканные чернилами. Ему очень хотелось пойти в ванную и вымыть руки, но он не смел отвести взгляд от убитого. Где-то далеко-далеко играли «Хелло, беби!».
«Я потеряю детей, потеряю жену. Старик выпрет меня из фирмы, это ясно как день. Он не допустит, чтобы в фирме работал скомпрометированный директор. И все из-за такой вот девки, все из-за нее. Может быть, она была в сговоре с этим парнем, заманила меня к себе, чтобы он спокойно ограбил мой номер. Вот именно. Так и скажу на суде. Необходимая оборона. Он хотел выстрелить…» Прайсинг наклонился вперед и в сотый раз уставился на руки мертвого Гайгерна. В руках барона ничего не было: правая судорожно сжата в кулак, левая, согнутая в локте, бессильно лежит на полу. Никакого оружия не было. Прайсинг встал на четвереньки и принялся искать пистолет. Ничего. Револьвер, которым ему угрожали, исчез бесследно. Или его вообще не было. Прайсинг ползком вернулся на прежнее место и тут почувствовал, что сходит с ума. Его спокойное существование лишилось прочной опоры. Это случилось в тот момент, когда он выложил на стол в конференц-зале злополучную телеграмму, с той минуты Прайсинг катился вниз по наклонной плоскости, от одной авантюры к другой. Он чувствовал, что стремительно летит вниз, что сорвался с накатанных рельсов своей жизни и падает в черную бездонную пропасть. Ему встречались люди, совершившие этот путь, и вот теперь он стал одним из них, одним из людей, которые покинули путь добра, солидных людей с респектабельным прошлым, ныне одетых в тряпье, топчущихся в бюро по трудоустройству, чего-то выпрашивающих. Он увидел самого себя – как он мыкается без работы, неухоженный, одинокий, опозоренный. Артериальное давление у Прайсинга подскочило, появилась пульсирующая боль в затылке и звон в ушах. В эту ночь несчастный Прайсинг часто с надеждой думал о спасительном кровоизлиянии в мозг. Но ничего подобного с ним не стряслось. Гайгерн был мертв, а он жил.
– Господи, – стонал он. – Господи! Мамусик, Беби, Пусик… Ох, Господи… – Ему хотелось закрыть лицо руками, но он не смел. Он боялся темноты своих ладоней.
Вот в таком состоянии застал Прайсинга Крингеляйн, когда в начале третьего – музыка как раз умолкла – осторожно постучав, вошел в номер. Губы у Крингеляйна были абсолютно белыми, зато на щеках рдели яркие пятна. Он ощущал удивительный подъем духа, настроился на торжественный и корректный тон. Он был преисполнен сознанием того, что выглядит совершенно безукоризненно в элегантном черном пиджаке и держится учтиво, как светский человек.
– Меня попросила прийти к вам дама, – сказал Крингеляйн. – Здесь, как я слышал, что-то произошло. Я хотел бы предложить свои услуги господину директору. – Лишь закончив это вступление, Крингеляйн поглядел на мертвого Гайгерна. Он не испугался. Только удивился.
Направляясь сюда из своего номера, он подумал, что все это в действительности не могло произойти, что Гайгерн жив, что Прайсинг его не убивал, что Флеммхен ему только приснилась и все еще снится. Но Гайгерн действительно лежал на полу, и Флеммхен действительно ждала Крингеляйна в 70-м номере. Он наклонился над убитым, неожиданно для себя тронутый братским, теплым чувством. Потом опустился на колени и с сильным душевным волнением ощутил запах лаванды и ароматных английских сигарет, тот самый запах, в котором Крингеляйн прожил незабываемый, особенный, блистательный день своей жизни. «Спасибо», – подумал он и вздохнул, сдерживая слезы.
Прайсинг смотрел на него мутным, бессмысленным взглядом.
– Его нельзя трогать до прихода полиции, – внезапно заговорил он, когда Крингеляйн протянул руку, чтобы закрыть своему другу глаза. Крингеляйн не обратил на эти слова внимания и совершил скромное, исполненное торжественности действие. «А мне закроет глаза Флеммхен, – мелькнула где-то в мозгу Крингеляйна мысль, которая была неподотчетна его воле. – У тебя довольное выражение. Так, значит, тебе сейчас хорошо? Это совсем не так страшно, да? Это будет не страшно. Скоро. Уже скоро».
– Вы известили полицию, господин директор? – сухо спросил он Прайсинга, поднявшись с колен. Тот отрицательно мотнул головой. – Желательно ли вам, чтобы я взял на себя эту обязанность? Вы можете располагать мной, господин директор.
Удивительно: Прайсингу сразу стало легче, едва Крингеляйн появился в номере, и еще больше полегчало теперь, когда тот вежливым тоном подчиненного предложил свои услуги.
– Да. Немедленно. Нет, погодите. Обождите немного, – прошептал Прайсинг, и тут уже было нечто от суровых, но бестолковых приказаний, которыми он изводил подчиненных в фирме «Саксония».
– Необходимо также поставить в известность о произошедшем господина старого хозяина. Угодно ли вам, господин директор, чтобы я отправил телеграмму уважаемому семейству?
– Нет! Нет! – быстро возразил Прайсинг, и его хриплый шепот был похож на крик.
– В таком случае я рекомендовал бы вам вызвать в отель вашего адвоката, господин директор. Час поздний, однако при столь чрезвычайных обстоятельствах меня, вероятно, соединят по телефону с вашим адвокатом. Вас же, очевидно, незамедлительно отправят в дом предварительного заключения. Мне не составит труда предпринять и прочие необходимые шаги. До моего отъезда.
Крингеляйн охотно предлагал свои услуги. Его пронизывало сознание своей причастности к важным событиям, а изысканные обороты речи приносили удовлетворение и казались весьма подобающими случаю. При этом он черпал безупречную вежливость, с которой обращался к подавленному и сникшему генеральному директору, из удивительного источника: Крингеляйн, маленький, но гордо выпрямившийся, стоял над ним, как победитель в борьбе, о которой Прайсинг до сегодняшнего дня не подозревал. Ничего не осталось от злобы, страха, гнева и бессилия, ничего из прежних чувств не было в сердце Крингеляйна. Быть может, лишь тень почтительности, той странной, необъяснимой почтительности, которую люди испытывают к тому, кто совершил что-то дурное, и еще Крингеляйн чувствовал жалость и свое превосходство над Прайсингом, то есть как раз то, что побуждает быть вежливым.
– Вы не сможете уехать, – шепотом ответил Прайсинг. – Ваше присутствие необходимо здесь. Вы нужны мне. Об отъезде не может быть речи. – Это было сказано резко, почти тем тоном, каким Прайсинг обычно давал отказ в предоставлении отпуска.
Крингеляйн улыбнулся бы такому тону, если бы не терзался тем, что мертвый Гайгерн навзничь лежал на ковре затылком на голом полу.
– Вас привлекут как свидетеля, – продолжал Прайсинг. – Вы должны находиться здесь, когда придет полиция.
– Свидетельские показания дать недолго. Вообще, я болен и завтра уезжаю к месту лечения, – сдержанно возразил Крингеляйн.
– Но вы знали этого человека, – быстро сказал Прайсинг. – И девку тоже знали.
– Господин барон был моим другом. Дама сразу после убийства пришла ко мне в поисках защиты, – ответил Крингеляйн языком газетной статьи. Его тщедушную грудь распирало от гордости, он с удовлетворением отметил про себя, что отлично владеет ситуацией.
– Этот человек – грабитель. Он украл мой бумажник. Бумажник наверняка найдут у него в кармане. Я к телу не прикасался.
Крингеляйн взглянул на Гайгерна; странно было видеть, что барон лежал молча, в то время как другие говорили. И Крингеляйн улыбнулся – неуверенно, неопределенно. Пожал плечами под первоклассными подплечниками из конского волоса. «Возможно, – подумал он. – Возможно, Гайгерн – грабитель. Но разве это имеет значение? В мире, где зарабатывают тысячи, тратят тысячи, проигрывают в карты тысячи, какой-то бумажник ничего не значит».
Внезапно Прайсинг словно очнулся от раздумья и резко спросил:
– Как вы сюда попали? Кто вас прислал? Фройляйн Фламм?
Так Крингеляйну стала известна фамилия Флеммхен.
– Совершенно верно. Фройляйн Фламм. Сейчас эта дама находится в моем номере. Возвращаться сюда она не желает. Она попросила меня забрать ее вещи. К приходу полиции ей надо быть одетой. Она была голой в тот момент, когда потеряла сознание.
Этот четкий ответ Прайсинг обдумывал в течение нескольких минут.
– Фройляйн Фламм будут допрашивать? – В голосе Прайсинга был слышен отчаянный страх.
– Так точно, – коротко подтвердил Крингеляйн. – Надеюсь, допрос не займет очень много времени. Завтра фройляйн Фламм уезжает со мной. Я предложил ей быть моей секретаршей, – добавил он.
От нахлынувшего чувства торжествующей радости и победы щеки у Крингеляйна побелели. Но Прайсинг в эти минуты перестал быть мужчиной, у него и в мыслях не было бороться за женщину. Он не подозревал, как много значило для Крингеляйна то, что Флеммхен ушла к нему от Прайсинга – невиданное чудо, небывалая, последняя в жизни победа…
– Вещи фройляйн Фламм в ее номере, в семьдесят втором. Следующая дверь налево по коридору, – сказал Прайсинг и попытался встать, но не смог – отказали ноги. В коленях у него была такая тяжесть, будто они были наполнены песком, ноги не слушались. И все так же лежал на полу убитый, все еще лежал здесь, на полу…
Когда Крингеляйн подошел к двери, чтобы уйти и оставить Прайсинга в одиночестве, тот резко поднял голову.
– Подождите. Подождите же, – прошептал он хрипло, сдавленным голосом, сдерживая крик. – Послушайте, господин Крингеляйн, нам надо поговорить с вами, прежде чем… прежде чем мы вызовем полицию. Я хочу сказать… Надо поговорить об этой даме. Вы сказали, что уедете с ней. Нельзя ли… Вы говорите, она сейчас в вашем номере? Нельзя ли сделать так, чтобы… Я, понимаете… Послушайте, Крингеляйн, мы с вами мужчины. За то, что здесь случилось, я понесу ответственность. Необходимая оборона, правильно? Необходимая оборона, в чистом виде. Все это ужасно, и я несу за случившееся ответственность. Но мне другое покоя не дает. Другое страшно. Нельзя ли… Надо ли, чтобы полиция узнала про эту историю с фройляйн Фламм? Ведь можно… Надо просто закрыть дверь в семьдесят второй номер. Фройляйн Фламм провела ночь с вами и ничего не знает. И вы ничего не знаете, господин Крингеляйн. И все будет в порядке. Все уладится. Вы уедете, вам не придется давать свидетельские показания, фройляйн Фламм не будут допрашивать. Скажите, господин Крингеляйн… Вы должны меня понять, вы же знаете мою жену, знаете ее почти столько лет, сколько и я. И старого хозяина – вы ведь его знаете. Вы же из нашей фирмы, господин Крингеляйн! Надо ли что-то объяснять? Мое благополучие висит на волоске, я честно признаюсь вам в этом. Из-за такой глупости, из-за какой-то юбки я могу погибнуть! Из-за ерунды! Господин Крингеляйн! Я люблю жену, я привязан к ней и детям, – тон Прайсинга стал умоляющим, словно в эту минуту он обращался к мамусику. – Вы знаете моих девочек, господин Крингеляйн. Я потеряю все, все, господин Крингеляйн, если на суде всплывет эта история с фройляйн Фламм. Я… У меня вообще ничего с нею не было. Даю вам честное слово: ничего не было, – Прайсинг только сейчас осознал это. – Помогите мне, Крингеляйн, как мужчина мужчине. Возьмите эту историю на себя. Ничего не надо делать, только молчите! Только уговорите фройляйн Фламм молчать. И все, больше ничего. Уезжайте, уезжайте куда-нибудь далеко, я дам вам… Послушайте, господин Крингеляйн! Сегодня утром у нас вышел неприятный разговор. Забудьте о нем. Вы заблуждаетесь на мой счет, поверьте, очень заблуждаетесь. Недоразумения между начальством и подчиненными везде случаются, не стоит принимать их слишком близко к сердцу. Нам ведь никуда друг от друга не деться. Все мы делаем общее дело, дорогой мой. Я хочу… Я дам вам… Вы получите от меня чек и уедете. Пойдите сейчас в семьдесят второй номер и заприте за собой дверь. Фройляйн Фламм будет молчать, и все уладится наилучшим образом. Если вас вдруг о чем-то спросят, скажете, что она всю ночь была с вами и ничего не знает, ничего не видела и не слышала. Господин Крингеляйн, прошу вас, прошу вас…
Крингеляйн слушал торопливый, почти безумный шепот, смотрел в лицо Прайсинга. Белый свет семи лампочек люстры отбрасывал на него черные тени, лицо было осунувшееся, лоб в холодном поту. Под мутными глазами набрякли мешки, непривычно голая верхняя губа дрожала, влажные от пота волосы прилипли ко лбу, изрезанному морщинами – следами тревог и служебных забот. Руки не слушались Прайсинга, он бессильно поднял их, вновь и вновь повторяя:
– Прошу вас, прошу вас, прошу вас…
«Бедняга», – вдруг подумал Крингеляйн. Неслыханная новая мысль, от нее разорвались оковы и рухнули стены.
– Моя судьба зависит от вас, – прошептал Прайсинг. Он стал просителем, он не постеснялся употребить напыщенное слово «судьба».
«А как же моя судьба? – подумал Крингеляйн. – Моя-то судьба как же?» – Но эта мысль лишь промелькнула, не обретя четкой формы.
– Вы переоцениваете силу моего влияния на фройляйн Фламм, господин директор. Если вам угодно выкручиваться с помощью лжи, делайте это в одиночку, на свой страх и риск, – холодно ответил он. – Но я рекомендовал бы вам немедленно сообщить о случившемся полиции, иначе может сложиться неблагоприятное впечатление. Я сейчас отнесу вещи фройляйн Фламм в свой номер. Семидесятый – на случай, если я вам понадоблюсь. А теперь разрешите откланяться.
Прайсинг встал. Одолел непокорность ног и поднялся. Но тут же пошатнулся. Крингеляйн поддержал его. «Бедняга, – снова подумал он. – Вот ведь бедняга!» Тяжело опираясь на плечи Крингеляйна, Прайсинг счел нужным сказать:
– Господин Крингеляйн, я готов замять историю с вашим отпуском по болезни. Я не стану узнавать, где вы разжились деньгами, на которые совершаете ваши эскапады. Я… Когда вы вернетесь в Федерсдорф, я постараюсь улучшить ваше служебное положение. Я сделаю все, что в моих силах.
Но тут Крингеляйн открыто заулыбался, даже не пытаясь сдержаться. Без всякой обиды, без признательности – он улыбался просто и легко.
– Премного благодарен. Искренне вас благодарю, – сказал он. – Искренне благодарю за доброе намерение. Но в нем нет надобности.
Крингеляйн прислонил Прайсинга к стене, и тот так и остался стоять, привалившись широкой обмякшей спиной к узорчатым обоям семьдесят первого номера. У Прайсинга было лицо человека, который сползает в ледниковую трещину.
В коридоре в этот час горели не все лампочки, а лишь каждая вторая, да еще освещена была табличка на углу, предупреждавшая: «Осторожно, ступенька!» Высокие напольные часы пробили три – старомодный звон.
В половине четвертого у ночного портье, задремавшего над утренними газетами, зазвонил телефон.
– Алло! – ответил он черной телефонной трубке. – Алло! Алло!
В телефоне долго не раздавалось ни звука. Потом кто-то откашлялся. Потом послышался голос:
– Немедленно пришлите ко мне директора отеля. В номер Прайсинга, в семьдесят первый. И вызовите полицию. Случилась неприятная вещь.
То, что происходит в большом отеле, это не завершенные судьбы, а лишь фрагменты, клочки, обрывки. За дверьми номеров живут люди – заурядные или необыкновенные, люди, переживающие подъем, и люди в депрессии, блаженство и отчаяние зачастую разделены лишь стеной. Входная дверь вертится, то, что переживает кто-то от приезда до отъезда, не представляет собой чего-то цельного. Вероятно, на свете вообще не существует цельных судеб, а есть лишь что-то приблизительное, какие-то начала, не имеющие продолжения, или, наоборот, завершения, которым ничто не предшествовало. Многое кажется случайным, но в действительности является закономерным. И то, что происходит за дверьми жизни, не бывает таким же прочным, как колонны архитектурного сооружения, и не бывает предопределенным, как композиция симфонии, или поддающимся расчету, как траектория небесного тела, – человеческое труднее схватить, чем легкие тени облаков, что бегут по лугам. И тот, кто задумал рассказать об увиденном за дверьми гостиничных номеров, обречен рискованно балансировать между правдой и вымыслом, словно на слабо натянутом раскачивающемся канате…
Взять хотя бы этот странный телефонный звонок из Праги, он раздался в отеле в первом часу ночи. Женский голос попросил, чтобы телефонист соединил ее с бароном Гайгерном, с номером 69.
– Алло! – закричала Грузинская. Она только что легла в постель – в неуютную постель знаменитого, но несовременного пражского отеля. – Алло, алло, chéri [20]20
Дорогой (фр.).
[Закрыть], ты меня слышишь?
И хотя 69-й номер в это время был пуст, хотя как раз в это время в 71-м номере на том же этаже уже случилось несчастье, из-за которого генеральному директору Прайсингу пришлось провести три месяца в предварительном заключении, лишиться директорского поста и семьи, – Грузинская все же очень ясно услышала, как любимый голос тихо ответил:
– Неувяда? Это ты, любимая?
– Алло! Добрый вечер, добрый вечер! Ты рад, что я тебе звоню? Пожалуйста, говори погромче, очень плохо слышно. Я только что вернулась из театра, все прошло хорошо, ах, да просто прекрасно! Небывалый успех, публика была вне себя. Я очень устала, но я очень счастлива, очень. Так, как сегодня, я давно не танцевала. Oh, comme je suis heureuse! [21]21
Как я счастлива! (фр.).
[Закрыть]Ты думаешь обо мне? Я о тебе все время думаю, только о тебе. Скучаю по тебе. Завтра я еду в Вену, завтра утром. Ты приедешь в Вену? Говори же, говори! Завтра в Вене, в отеле «Бристоль», ты слышишь? Почему… Барышня, барышня, связь нарушена, ничего не слышно! Ты приедешь в Вену? Завтра? Я буду ждать. Я уже велела, чтобы в Тремеццо все подготовили к нашему приезду. Ты рад? Еще две недели надо поработать, а потом – в Тремеццо. Скажи хоть слово, хоть одно слово, я совсем тебя не слышу!.. Что? Что вы сказали? Номер не отвечает? Спасибо. Передайте, пожалуйста, господину барону, что его завтра ждут в Вене. Завтра. Спасибо.
Вот такой телефонный разговор состоялся у Грузинской с пустым 69-м номером. Она лежала у себя в номере пражского отеля, подвязав подбородок резиновым бинтом, глаза еще горели от грима, сердце жарко стучало и полнилось нежностью.
– Да ведь я тебя люблю, je t'aime, – прошептала она в безмолвную телефонную трубку, когда линию уже отключили.
А рядом, в 70-м номере, в этот час от четырех до пяти утра, когда задернутые шторы начинают светлеть, Флеммхен протягивает руки и обнимает Крингеляйна. В этот единственный и нежный час она не продается, а дарит себя. Потому что впервые Флеммхен замечает, что подарить она может не просто радость, не просто удовольствие, а нечто огромное – потрясение, счастье, исполнение всех желаний. Она, словно юная мать, держит мужчину в объятиях, как дитя, которое должно насытиться. Ее пальцы касаются худой от болезни и слабости шеи Крингеляйна. «Теперь все хорошо, – думает Крингеляйн. – Болей нет. Я сильный. Усталый, да, усталый, но я не хочу спать. Я почти совсем не спал с того дня, как приехал в Берлин. Жалко тратить время на сон. Я не хочу уходить, ах, как я хочу остаться! Я не хочу перестать быть. Не хочу – ведь теперь все только начинается».
– Флеммхен, – шепчет он в юное тепло ее тела. – Флеммхен, не дай мне умереть, пожалуйста, не дай мне умереть.
И Флеммхен крепче прижимает его к себе и утешает:
– Умереть! Чепуха. И слышать не желаю. Из-за пустяковой болезни, как у тебя, так быстро не умирают Я буду за тобой ухаживать. У меня есть знакомый, на Вильмерсдорферштрассе живет, он лечит просто изумительно. Он уже вылечил много людей, которые были больны тяжелее, чем ты. Он сумеет тебя вылечить. Завтра утром пойдем к нему, он тебе что-нибудь назначит, и ты поправишься, вот увидишь. А потом сразу же уедем. В Лондон, в Париж, на юг Франции, там уже тепло. И будем целые дни лежать на солнышке, загорим и отдохнем. А теперь давай спать.
Спокойная беспечная сила и здоровье Флеммхен передаются смертельно усталому Крингеляйну, он всему верит. Он засыпает, и ему снится сияющее счастье, похожее на грудь Флеммхен и вместе с тем – на холм, поросший цветущей жимолостью.
Двумя этажами выше спит в своем номере доктор Оттерншлаг. Ему снится сон, который повторяется каждые две недели. В этом сне Оттерншлаг идет по городу, который хорошо знает, и входит в дом, незнакомый дом. Там живет женщина – у нее родился ребенок, когда Оттерншлаг был в плену. Это страшный ребенок – не его ребенок, он плачет в своей колясочке всякий раз, когда видит искромсанное лицо Оттерншлага. Но сон на том не кончается. Вот Оттерншлаг гонится за персидской кошечкой Гюрбе, бежит задыхаясь через весь город и дерется из-за кошечки на крыше с каким-то котом, у которого человеческое лицо, а в конце концов Оттерншлаг срывается с крыши и летит по горящему небу, взорванному артиллерийской канонадой, летит и падает на гостиничную кровать. В эту секунду Оттерншлаг всегда просыпается.
– Хватит с меня, – говорит он. – Сыт по горло. Сколько еще ждать? Чего ради? Все. Пора нам поставить точку – Он поднимается, берет свой чемоданчик, моет шприц, ломает ампулы – десять ампул, двенадцать ампул. Наполняет шприц, протирает спиртом руку – вся она исколота и покрыта мелкими воспаленными язвочками. И ждет. И начинает дрожать. Вся сила куда-то уходит из его рук. Не сделав укол, он выжимает из шприца морфий, просто разбрызгивает драгоценное, с трудом и обманным путем добытое средство, оставляет небольшую безопасную дозу, которую милостиво дарует своему изголодавшемуся организму. И снова ложится, засыпает и не слышит ничего, что бы ни происходило в отеле.
Около половины четвертого утра граф Рона вышел из своего постоянного номера, поднял по тревоге ночного портье. Рона действует бесшумно и осторожно, от него, как днем, пахнет одеколоном. Он идет в 71-й номер, все осматривает, отдает необходимые распоряжения. Он велит принести рюмку коньяку подавленному Прайсингу, прогоняет муху, которая кружится над мертвым Гайгерном. Несколько секунд затем Рона стоит, скрестив на груди руки и склонив голову, возле убитого. Похоже, что он молится, а может быть, он и правда молится о душе сына своего сословия, который сошел с доброго пути. «Не легко ему, видно, приходилось», – возможно, думает Рона. Потом администратор спускается в холл, садится там за своей стеклянной перегородкой и по телефону извещает о случившемся комиссара полиции Едике.
Немного позднее – на улице уже шуршат по асфальту щетки первых уборочных машин – появляются четверо в плащах, они представляют собой группу с жутковатым названием «комиссия по убийствам» Рона лично сопровождает комиссию на третий этаж. Полицейская мельница завертелась. Администрация Гранд-отеля умоляет полицейских соблюдать все меры секретности, не поднимать шума, затушевать все, насколько удастся.
Но затушевать ничего не удается. Вскоре в Федерсдорфе станет известно о случившемся. Вскоре фрау Прайсинг и ее отец, перенесший в свое время апоплексический удар, прибудут в Берлин и после кошмарных семейных сцен отрекутся от мужа и зятя. То, что он убил человека, фрау Прайсинг, хоть и не без содрогания, сможет преодолеть. А вот гнусная история с девкой, в которой Прайсинг, заикаясь и сопя, признался уже на втором допросе, – этого фрау Прайсинг ни понять, ни простить не сможет.
Что касается убитого барона Феликса Бенвенуто Амадея фон Гайгерна, то с ним ситуация неясная, однако довольно благополучная. Никто, ни один человек во всем отеле не сказал о нем дурного слова. Гайгерн не был ни под судом, ни под подозрением, ни просто у полиции на заметке. У него имелись кое-какие долги, да и происхождение его маленького автомобиля, который, впрочем, уже пошел с торгов, было довольно туманным. Но это ничего не доказывает. Гайгерн был игрок, приятель многих женщин, иногда его видели пьяным, но он всегда оставался добродушным парнем. Некоторые служащие отеля плакали, когда до них дошла передававшаяся шепотом весть о его смерти. Плачет курьер Карл Ниспе с золотым портсигаром в кармане. Он был одним из свидетелей, которых допросили в первую очередь. Карл показал, что незадолго до полуночи барона не было в его номере. Другая свидетельница, проживающая на втором этаже прямо под 71-м номером, сообщила, что приблизительно в полночь слышала стук, как бы от падения тяжелого предмета. Свидетельница обратила на него внимание, потому что возмутилась: шум среди ночи! Но что случилось в промежутке от полуночи до половины четвертого утра? Почему господин Прайсинг не вызвал полицию тотчас же? На этот счет последовали очень ясные, хоть и сдержанные показания свидетельницы Фламм и свидетеля Крингеляйна, а именно о фактах, которые уже в полдень попали во все газеты и нанесли последний удар мирной жизни генерального директора Прайсинга. Оружие существовало только в фантазии Прайсинга, его не было. Ни револьвера, ни даже маленького пистолета, какими отпугивают грабителей. Этот факт был неблагоприятным для Прайсинга. Если он солгал, что Гайгерн был вооружен, то и все прочие его показания не внушают доверия. Бумажник Прайсинга действительно нашли в кармане убитого. Однако следователь, вцепившийся в дело об убийстве, как бульдог, задал резонный вопрос: разве не мог Прайсинг подсунуть бумажник в карман убитого, чтобы придать веса своей версии об ограблении и необходимой самообороне? Поверх спортивных туфель у Гайгерна были натянуты шерстяные носки – этот факт налицо. Налицо и фотография, которую шофер Гайгерна подарил горничной с третьего этажа: опытные следователи по фотографии установили личность шофера – известного преступника-рецидивиста. Если удастся его схватить, многое, вероятно, прояснится. Но пока что господин Прайсинг сидит в камере предварительного заключения и страдает расстройством зрения на нервной почве. Ему то и дело мерещится барон Гайгерн – не мертвый, лежащий на полу, а живой; Прайсинг видит его очень близко, очень отчетливо, видит шрам на его подбородке, длинные ресницы, видит каждую пору на его лице, как в тот раз, когда столкнулся с бароном возле телефонной кабины. Прайсинг отгоняет от себя навязчивое видение, и все перед ним заволакивает багровая пелена, а потом появляется Флеммхен, фройляйн Фламм, а может, и не она, а только какой-то фрагмент – линия бедра на черно-белой фотографии в журнале, который попался на глаза генеральному директору в тот момент, когда его судьба уже покатилась под гору…








