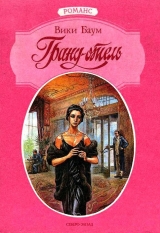
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Сергей! – позвала она. – Габриэль, Гастон! – Имена ее немногочисленных возлюбленных. Она звала и Анастасию, свою дочь, и даже Понпона, маленького внука, который жил в Париже и которого она никогда не видела. Но она была одинока, никто ее не утешил. Вдруг она вздрогнула от страха и остановилась. «Да что же я делаю? Я убежала? Из театра? Но это же невозможно. Этого не может быть. Я хочу назад». Часы на церкви пробили одиннадцать, очень медленно, очень отчетливо и близко, хотя церковной колокольни нигде не было видно. Грузинская вынула руки из карманов и бессильно опустила их – в этом движении было что-то, напоминающее смерть раненой птицы. «Слишком поздно, – говорили ее руки. – Спектакль уже заканчивается». Грузинская подняла голову и оглядела улицу, куда ее привело бегство. Она не знала, что это за улица. Над дверьми одного из домов горели синие и желтые огни, вывеска подсказала: русский ресторан. Грузинская перешла через дорогу и остановилась перед этой дверью, вытерла нос рукой, как ребенок, и задумалась. «Русский ресторан. Может быть, зайти? Там меня сразу узнают. Музыканты в красных рубахах сыграют в честь прославленной примы «Вальс Грузинской». Какая сенсация… Никакой сенсации не будет, – тут же подумала она. – Мне туда нельзя. На кого я похожа? Скорей всего, никто меня не узнает. А если узнает, да еще в таком виде…»
Она подозвала маленькие разбитые дрожки, села – лицо у нее внезапно сделалось бесчувственным и холодным. Она велела ехать в Гранд-отель.
Гайгерн по-прежнему стоял в дозоре между занавеской и шторой в 68-м номере и ждал, когда наконец монтеры-синеблузники кончат возиться на крыше. Но они продолжали работать. Они ползали туда и сюда возле оконных наличников второго этажа, орудовали плоскогубцами, разматывали провода, переговаривались, кричали «эй!» или «ага!», копошились с величайшим усердием, но упрямые прожекторы не загорались. И тем ярче был освещен фасад здания светом дуговых фонарей, огнями над всеми пятью входами отеля и бегущей рекламой на другой стороне улицы, расхваливавшей то сорта шампанского, то шоколад. Впрочем, с того момента, как Гайгерн спрятался за шторой и начал ждать, прошло, наверное, не больше двадцати минут.
И тут дверь 68-го номера отворилась. Вспыхнула электрическая люстра, и в безжалостном гостиничном свете появилась Грузинская.
С точки зрения Гайгерна, это было просто невиданное свинство, абсолютно загубленный шанс. Страх точно острым ножом прошелся по его телу вдоль ребер и живота. «Что, черт побери, понадобилось этой женщине в отеле в двадцать минут двенадцатого? Что же это творится на свете, если уже нельзя рассчитывать на то, что спектакли в театрах заканчиваются вовремя? Неудача!» – стиснув зубы, подумал Гайгерн. Неудач он боялся. И вся его сегодняшняя затея с тысячью проклятых осложнений складывалась с самого начала так, что теперь он, похоже, влип и по уши увяз в неудачах. Свет люстры пронизывал кружевную занавесь, за которой он стоял, и отбрасывал ажурную узорчатую тень на балкон. Гайгерн призвал себя к спокойствию и выдержке. Жемчужные бусы в кармане нагрелись. Они перекатывались под пальцами, как горошины. На мгновение ему показалось полнейшим абсурдом, чистой воды абсурдом то, что эта пригоршня круглых перламутрово-белых зерен стоит целое состояние. Четыре месяца выслеживать, семь метров с риском для жизни ползти по стене – а теперь, когда все опасности позади, на него опять посыпались сложности и неудачи. Нанизанные чередой опасные приключения – вот что такое его жизнь. Нанизанные на нитку жемчужины – жизнь этой балерины. В этот отчаянный момент Гайгерн с улыбкой покачал головой. Он не был мыслителем. У него часто появлялась эта удивленная и восхищенная, чуть ли не глуповатая улыбка, когда он задумывался о жизни. Жизнь была чем-то, чего он до конца не понимал. Однако же он внутренне собрался, осторожно повернулся лицом к комнате и затих.
Грузинская с минуту простояла посреди комнаты, прямо под стеклянными колпачками люстры. Лицо у нее было такое, будто она забрела сюда по ошибке. Она подождала, пока старое шерстяное пальто само не свалилось с опущенных плеч, затем, перешагнув через него, подошла к столику с телефоном. Еще несколько минут пришлось ждать, пока ее соединят с театром, потом минуты две-три – пока не позвали к аппарату Пименова. Но чудовищная усталость сделала ее ко всему равнодушной. Грузинская терпеливо ждала.
– Алло, Пименов! Да, это я. Да, в отеле. Ты должен меня простить. Да, вдруг стало плохо. Сердце, понимаешь? Начала задыхаться. Да, как тогда, в Шевингене. Нет, мне уже лучше. У вас там неприятности из-за меня, я знаю. Ну и как Люсиль? Что? Ах, значит, средне… А публика? Что ты говоришь? Я вовсе не волнуюсь, ты можешь сказать мне, если был скандал. Нет? Не было скандала? Вполне спокойно? Мало аплодировали? Да? Ты думаешь, дело в программе? Хорошо. Потом об этом поговорим. Нет, я сейчас лягу спать. Нет, пожалуйста, никого не надо. Не надо врача. И Витте тоже не надо приходить. Нет, нет, нет. Никого не надо! И Сюзетту не присылай. Я хочу покоя, только покоя. А вы поезжайте во французское посольство и, пожалуйста, извинитесь там, что я не смогла прийти. Спасибо. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи… Послушай, Пименов, передай от меня привет Витте. И Михаэлю. Да, всем передай привет. Не надо обо мне беспокоиться. Завтра все будет в порядке. Спокойной ночи!»
Она повесила трубку на рычаг.
– Спокойной ночи, дорогой, – сказала она еще раз, тихим голосом, одна, в холодном гостиничном номере.
«Сердце, значит. Ей стало плохо, – подумал Гайгерн, с трудом уловивший смысл быстрых французских слов. – И поэтому она прикатила сюда в самое неподходящее время. Да, выглядит она не слишком хорошо… Ну, ладно. Сейчас мадам ляжет спать, и тогда, будем надеяться, я смогу наконец откланяться. Только не суетиться». Он осторожно сделал шаг на балкон и посмотрел вниз. Оба синих болвана уселись на стеклянной крыше и держали совет. Они повесили себе на грудь маленькие фонарики и, по-видимому, собирались работать всю ночь. Мысль о сигаретах становилась для Гайгерна чем-то вроде навязчивой идеи. Он глубоко вдохнул пропахшего бензином сырого воздуха. Тем временем Грузинская подошла к тройному зеркалу над туалетным столиком, где стоял пустой саквояжик. В груди Гайгерна громко застучало сердце. Но Грузинская отодвинула саквояжик в сторону, даже не взглянув на него, включила лампочку над зеркалом и, схватившись руками за раму, приблизилась к зеркалу так, словно хотела в него броситься. Во внимательности, с которой она изучала свое лицо, было что-то беспокойное, жадное и жутковатое. «Странные создания эти женщины, – подумал Гайгерн, глядевший на нее сквозь занавеску. – Абсолютно непостижимые создания! Что такого она увидела в зеркале, почему лицо у нее вдруг сделалось таким жестоким?»
Сам он видел лишь красивую женщину – она была красива, вне всякого сомнения, очень красива, несмотря на размазавшийся по лицу грим. Особенно затылок. Дважды отраженный боковыми зеркалами, он отличался несравненной нежностью и изысканностью линий. Грузинская смотрела на себя как на лютого врага. Она с ненавистью смотрела на следы, оставленные временем, морщины, дряблую кожу, усталые, увядшие черты. Виски уже немного ввалились, уголки губ опущены книзу, веки под слоем синего грима иссечены мелкими морщинками и походят на смятую шелковую бумагу. Грузинская смотрела на себя долго, и ее снова начал бить озноб, еще сильнее, чем тогда, на улице. Она попыталась стиснуть зубы, но дрожь не унималась. Она метнулась к двери, повернула выключатель и погасила холодный свет люстры, зажгла торшер. Но теплее от этого не стало. Нетерпеливо и порывисто она освободилась от костюма, бросила его на пол и, оставшись в одном трико, подошла к батарее парового отопления, прижалась к выкрашенным серой краской трубам. Она не раздумывала о том, что делает, она искала тепла. «Хватит, – думала она. – Хватит. Никогда больше. Кончено. Хватит». Она дрожащими губами шептала на нескольких языках слова, означавшие неотвратимый конец. Потом прошла в ванную, сняла балетное трико, подставила руки под струю горячей воды. Вода текла на выступившие вены, пока руки не заныли от боли. Схватив губку, она принялась растирать плечи и вдруг бросила все, вернулась в комнату и сняла трубку телефона. Губы у нее так дрожали, что она не сразу смогла заговорить.
– Чаю, – сказала она. – Побольше. И побольше сахара. – И вновь подошла к зеркалу, мрачно и сурово стала глядеть на свое отражение. Но ее тело было безупречно и неповторимо прекрасно. Тело шестнадцатилетней танцовщицы: жестокий неумолимый труд всей жизни Грузинской сохранил его молодость. И внезапно ненависть, которую она чувствовала к себе, обратилась в жалость. Она обхватила руками свои плечи, погладила их матовую гладкую кожу, коснулась губами руки у сгиба локтя, поднесла ладони к маленьким, совершенной формы грудям, провела по легкому углублению под ребрами, по бедрам. Склонилась к коленям и прижалась лицом к этим несчастным, узким и выносливым коленям, словно это были ее больные любимые дети.
– Бедная, маленькая, – пробормотала Грузинская. Так, любовно, ей говорили когда-то. – Бедная, маленькая…
На лице у Гайгерна отразились сострадание и почтительность, хотя сам он об этом не подозревал. Его смутило зрелище, невольным свидетелем которого он стал. Гайгерн знал многих женщин, но ни одна из них не была так прекрасно сложена – не обладала такой хрупкостью и таким совершенством форм. И все же это было второстепенным. Растерянность и жалость вызвало в нем другое: беззащитность, дрожь, безысходное отчаяние, глубокое горе этой женщины, стоящей перед зеркалом. Хоть Гайгерн и был сбившимся с доброго пути малым, хоть и лежали у него в кармане украденные драгоценности, он вовсе не был чудовищем. Он поспешно вытащил руку из кармана, чтобы не ощущать жемчужин. Ему хотелось подхватить на руки эту маленькую одинокую женщину, унести ее куда-то, утешить, согреть, лишь бы только прекратился, Господи Боже, только бы прекратился этот ее ужасный озноб и этот почти безумный шепот…
В дверь постучал лакей. Грузинская надела пеньюар – тот самый, что в темноте так сильно напугал Гайгерна, – и стоптанные домашние туфли. Лакей деликатно просунул в полуоткрытую дверь поднос с чаем. Грузинская взяла и закрыла дверь. «Пора, время пришло», – думала она в это время. Налив чая в чашку, она взяла с ночного столика коробочку с вероналом. Проглотила одну таблетку, запила его, потом приняла еще одну. Встала, начала ходить взад и вперед по комнате, очень быстро, словно от кого-то убегала, взад и вперед, от стены к стене, четыре метра туда, четыре метра обратно.
«Зачем все это? – думала она. – Зачем люди живут? Чего мне еще ждать? Для чего такие мучения? Ох, я устала, никто не знает, как я устала. Однажды я решила, что уйду, когда настанет время уходить. Ну вот, время настало. Неужели ждать, пока меня начнут освистывать? Пора, маленькая, пора, бедная. Гру уснет. Никто не знает, как бывает холодно, когда ты знаменит. Никого у меня нет, ни единого человека. Все живут благодаря мне, но никто никогда не жил ради меня. Никто. Ни один человек. Я знала только трусов и честолюбцев. И всегда была одна. О… А кто спросит о Грузинской, если та покинет сцену? Кончено. Нет, я не буду разгуливать по Монте-Карло, не стану жирной, малоподвижной, старой, как все эти знаменитые старые бабы. «Вот видели бы вы меня, когда был жив еще князь Сергей!» Нет, это не для меня. А куда податься? В Тремеццо? Выращивать орхидеи, держать в парке двух белых павлинов, вечно расстраиваться, оттого что не хватает денег, и быть одной, совсем одной? Стать крестьянкой? Умереть? Вот оно: в конце концов – умереть. Нижинский заперт в сумасшедшем доме и ждет смерти. Бедный Нижинский! Бедная Гру! Я не желаю ждать. Время пришло. Сейчас, сейчас, сейчас…»
Она вдруг остановилась и прислушалась, как будто ее кто-то позвал. В ушах у нее уже глухо гудело от веронала, все стало безразлично, милосердное снотворное щедро дарило это безразличие. «Гастон, – вспомнила она. – Милый Гастон, когда-то ты был добр ко мне. Как молод ты был тогда! Как давно это было! А сегодня ты – министр, у тебя брюшко, борода и лысина! Прощай, Гастон! Adieu pour jamais, n'est-ce pas? [11]11
Прощай навсегда, не так ли? (фр.).
[Закрыть]Существует очень простое средство, чтобы не стареть…»
Подойдя к столу, Грузинская налила себе еще чая. Теперь она чуть-чуть рисовалась, разыгрывала роль в короткой печальной и трогательной пьесе для одной себя. В ее отчаянии и в ее решимости были грация и блеск. Она резким движением схватила коробочку с вероналом и разом вытряхнула все таблетки в чашку с чаем, затем стала ждать, когда они растворятся. Ждать пришлось бы слишком долго. Она нетерпеливо помешала в чашке ложечкой. Встала, снова подошла к зеркалу и машинально провела по лицу пуховкой – лицо ее вдруг покрылось липкой испариной. Губы уже не дрожали, на них застыла безжизненная улыбка, та улыбка, с которой она обычно выходила на сцену. Закрыв лицо руками, она прошептала:
– Боже мой, Боже мой…
Теперь она вдруг тоже почувствовала запах, что бывает на похоронах, – он поднимался от корзин с цветами и витал в комнате, умирая. Волоча ноги, Грузинская подошла к столу, на котором стояла чашка с чаем, попробовала ложечкой ее содержимое. Очень горько. Один за другим она стала брать щипчиками куски сахара, опускать их в чашку, потом еще немного подождала, пока сахар не растворился. Прошло около минуты. В тишине бешено мчались наперегонки двое часов.
И тут Грузинская встала и пошла к балконной двери. Ей было душно и хотелось еще раз взглянуть на небо. Она отдернула занавеску – и увидела перед собой тень.
– Сударыня, прошу вас, не пугайтесь! – сказал Гайгерн и поклонился.
Первое сделанное Грузинской движение было движением не испуга, но стыда. Она плотнее запахнула на себе пеньюар, задумчиво, молча глядя на Гайгерна. «Что же это такое? – словно во сне подумала она. – Кажется, когда-то это уже было в моей жизни?» Быть может, в эту минуту она даже почувствовала некоторое облегчение, потому что между нею и чашкой с растворенным в чае вероналом возникло временное препятствие. Почти целую минуту она стояла и молча смотрела на Гайгерна, ее тонкие изогнутые брови сошлись на переносице. Губы опять начали дрожать, дыхание стало стесненным и частым.
И у Гайгерна едва не застучали зубы, однако он справился с волнением. Он еще никогда не бывал в столь опасной ситуации, как теперь. Свои предприятия – их было всего три или четыре – он тщательно продумывал заранее и выполнял крайне осторожно, так что его ни разу не коснулась даже тень подозрения. И вот теперь он стоял с жемчужным ожерельем стоимостью в полмиллиона в кармане, застигнутый врасплох в чужом номере, и от тюрьмы его отделял лишь маленький белый звонок с эмалированной табличкой, на которой было написано, что для вызова прислуги следует позвонить два раза. Дикая, почти безумная ярость вскипела в Гайгерне, но он не дал ей вырваться наружу, он подавил ярость и заставил ее превратиться в спокойствие и силу. Ему стоило чудовищного напряжения сдержаться и не ударить стоявшую перед ним женщину. Он был точно локомотив под парами давлением в десятки атмосфер, готовый все сокрушить на своем пути. Но пока что он отвесил церемонный поклон. Он мог бы броситься назад, пуститься в отчаянное бегство по карнизу. Мог бы убить Грузинскую, мог угрозами заставить ее молчать. Но инстинктивно, в силу благородства, свойственного ему от природы, он, недолго думая, поклонился, вместо того чтобы убить или применить силу, и поклонился не без изящества. Он не подозревал, что лицо у него при этом побледнело до синевы, опасность ощущалась им скорей даже как что-то приятное, вроде легкого опьянения или сна, в котором куда-то падаешь все дальше и дальше, в бесконечность.
– Кто вы? Как вы здесь очутились? – спросила Грузинская по-немецки. Вопрос прозвучал почти любезно.
– Извините меня, сударыня, за то, что я пробрался в ваш номер. Я… Ужасно, что вы меня обнаружили. Вы вернулись сегодня необычно рано. Это неудача. Невезение. Я ничего не могу объяснить.
Грузинская немного отошла в глубь комнаты, не спуская глаз с Гайгерна. Включила люстру – вспыхнул яркий холодный свет. Возможно, она позвала бы на помощь, подняла бы крик, если бы обнаружила на своем балконе страшного, небритого детину. Но этого самого красивого человека из всех, кого она видела в своей жизни, – сквозь туман веронала она вспомнила его лицо, – этого человека она не испугалась. Как ни странно, больше всего ее почему-то успокоила его синяя шелковая пижама.
– Но что вам здесь нужно? – спросила она, невольно переходя на принятый в свете французский.
– Ничего. Только побыть здесь немного. Просто побыть в вашей комнате, – тихо ответил Гайгерн.
Теперь все зависело от того, сумеет ли он заговорить ей зубы, так подумал Гайгерн со слабой надеждой и набрал полную грудь воздуха. Воровские шерстяные носки, надетые поверх туфель, он незаметным ловким движением сумел потихоньку стащить с ног.
Грузинская покачала головой.
– В моей комнате? Господи, да зачем же? – сказала она своим слабым, высоким, как бы птичьим голосом, и на ее лице вдруг появилось удивленное выражение смутной надежды. Гайгерн, по-прежнему стоявший на пороге балкона, ответил:
– Я скажу вам правду, сударыня. Я не впервые нахожусь в вашей комнате. Уже не раз, уже много раз, когда вы были в театре, я приходил сюда. Дышал этим воздухом. Однажды я оставил здесь скромные цветы… Простите меня!
Чай с вероналом остыл. Грузинская слабо улыбнулась, но, заметив, что улыбается, поспешила придать своему лицу холодное выражение и строго спросила:
– Кто вас сюда впустил? Горничная? Или Сюзетта? Как вы проникли сюда?
Гайгерн пошел ва-банк. Он махнул рукой в сторону улицы:
– Оттуда. С моего балкона.
И снова Грузинскую охватило чувство, какое бывает во сне: ей показалось, что все это уже однажды было с нею. И вдруг воспоминание стало четким. В одном из летних дворцов, на юге, в Абас-Тумане, куда часто возил ее князь Сергей, однажды вечером некий молодой человек, – в сущности, мальчишка, – юный офицер, спрятался в ее комнате. При этом он рисковал жизнью – позже он погиб из-за несчастного случая на охоте, который так и остался загадкой. Это случилось тридцать лет тому назад, никак не меньше. Грузинская вышла на балкон и взглянула туда, куда показал Гайгерн, в сумерки вечера, и тут все вспомнилось ей необычайно отчетливо. Она снова увидела перед собой лицо того молодого офицера. Его звали Павел Ерылинков. Она вспомнила, какие у него были глаза, вспомнила, как два раза целовалась с ним. Ей стало холодно, и в то же время она почувствовала, что от человека, стоявшего рядом с нею на балконе, исходит тепло. Она мельком взглянула на стену здания, на эти семь метров, которые лежали между ее балконом и балконом соседнего номера.
– Но ведь это опасно, – сказала она машинально, все еще думая о молодом офицере, а не о том, что происходит теперь.
– Не очень, – ответил Гайгерн.
– Холодно. Закройте дверь, – вдруг велела Грузинская и быстро вернулась в комнату.
Гайгерн вслед за нею вошел в номер, затворил балконную дверь, задернул обе занавески и стал ждать, стоя неподвижно, с опущенными руками – исключительно приятный, скромный, немного простоватый молодой человек, способный на романтические безумства ради того, чтобы проникнуть в жилище прославленной балерины. В конце концов, у него тоже был кое-какой актерский талант, этого просто требовал род его занятий. И теперь Гайгерн играл роль ради спасения своей жизни. Грузинская наклонилась и подобрала с полу свой сценический костюм, отнесла его в ванную. На белом корсаже ярко блеснула капля крови – полированное рубиновое стекло. Посмотрев на него, Грузинская ощутила сильную острую боль. Не было вызовов. Не было скандала, когда ее партию станцевала другая балерина. Жестокая публика. Жестокий Берлин. Жестокое одиночество. Она уже несколько отвлеклась было от этой боли, но теперь боль ожила и с новой силой разрывала ей грудь. На мгновение Грузинская начисто забыла о непрошеном визитере, который чем-то напоминал покойного Ерылинкова. Но вдруг она обернулась, подошла совсем близко, почти вплотную, так, что снова почувствовала его теплоту, и спросила, не глядя на него:
– Почему вы делаете такие вещи? Зачем рискуете? Зачем вы тайком пробираетесь в мою комнату? Вам что-то нужно от меня?
Гайгерн перешел в наступление. Бросился в атаку. «Ап, Фликс!» – подумал он.
– Вы же знаете почему. Потому что я вас люблю, – сказал он тихо, не поднимая глаз на Грузинскую. Он произнес эти слова по-французски, потому что на родном языке они прозвучали бы уж совсем фальшиво, так ему, во всяком случае, казалось. Сказал и стал ждать ее реакции. «Это же просто бред какой-то», – думал он. Ему было до боли, до унижения стыдно разыгранной комедии. Безвкусицы он не выносил. Но тем не менее, если она не позовет сейчас прислугу, он, может быть, спасется…
Грузинская жадно ловила короткие французские слова. Они подействовали на нее как лекарство: прошло лишь несколько секунд, и даже озноб прекратился. Бедная Гру! Сколько лет минуло с той поры, когда она в последний раз слышала подобные слова! Вся жизнь промчалась вдруг перед ее глазами, как скорый поезд. Репетиции, тренаж, контракты, спальные вагоны, гостиничные номера, волнение перед выходом на сцену, дикое, безумное волнение, и опять репетиции, опять тренаж. Успехи, неудачи, рецензии, интервью, официальные приемы, ругань с импресарио. Три часа самостоятельного тренажа каждый день, четыре часа репетиций с труппой, четыре часа спектакля – все дни одинаковые, как близнецы. Старик Пименов. Старик Витте. Старуха Сюзетта. А кроме них – ни души, ни единого человека, ни капли тепла. Иной раз она прижимала ладони к батареям парового отопления в постылых гостиницах – другого тепла в ее жизни не было. И вот теперь, в час, когда все было кончено, когда она сводила счеты с жизнью, сводила навсегда, в этот час здесь, в ее комнате, ночью оказался человек, который произнес давно забытые слова, те слова, что когда-то она слышала столь часто. Грузинская была ошеломлена. Ей вдруг стало больно, так больно, как при родах. Но боль породила лишь две слезы, которые – наконец-то – вылились, прорвавшись сквозь судорогу всего вечера. Она чувствовала слезы всем своим телом, до кончиков пальцев, ступней, и чувствовала их в сердце. Слезы скатились по жестким от туши длинным ресницам и упали в поднятые к лицу ладони.
Гайгерн смотрел на этот внезапно явившийся феномен, – его бросило в жар. «Бедное создание, – подумал он. – Бедное создание, эта женщина. Вот, плачет… Бред какой-то…»
Когда родились две первые мучительные слезы, Грузинской стало легче. Полились легкие слезы, светлые, как дождик, теплые и вместе с тем прохладные, словно летний ливень. Гайгерну невольно вспомнились кусты гортензий в Риде – он сам не знал почему. Но вот слезы полились страстно, сплошным потоком, черным потоком, потому что растворился и потек грим, и наконец Грузинская упала на постель и разрыдалась, что-то шепча по-русски в прижатые к лицу ладони. При виде этого Гайгерн из гостиничного вора, который минуту назад был готов убить эту женщину, превратился в мужчину, высокого, добродушного, бесхитростного мужчину, который не в состоянии видеть плачущую женщину, не может равнодушно стоять в стороне. Он больше не ощущал страха, забыл о страхе начисто; самую обыкновенную жалость – вот что он почувствовал, робость – вот от чего забилось у него сердце. Он подошел к Грузинской, наклонился, опершись руками в края кровати по обе стороны маленькой плачущей женщины и принялся шептать какие-то слова. Ничего особенного он не придумал. Такими же или похожими словами он попытался бы утешить плачущего ребенка, побитую собаку.
– Бедная женщина, – говорил он. – Бедная маленькая женщина. Бедная маленькая Грузинская. Плачешь… Легче, когда плачешь, да? Ведь легче? Ну, пусть тогда поплачет бедняга, измученное, создание. Что плохого тебе сделали? Тебя обидели? Тебе приятно, что я сейчас здесь, с тобой? Мне остаться? Ты боишься? Ты плачешь от страха? Ах ты, глупенькая, маленькая…
Он отвел стиснутые руки от лица Грузинской и поцеловал их, ее руки были мокры от слез и черны, как руки маленькой девочки, и лицо тоже было грязным от грима. Увидев это, Гайгерн засмеялся. Хотя Грузинская все еще плакала, она заметила добродушное движение его плеч, свойственное сильным мужчинам, когда те смеются. Гайгерн прошел в ванную. Вернулся он с губкой в руках, осторожно вытер ею лицо Грузинской, потом вытер ей щеки полотенцем. Теперь она лежала затихшая, выплакавшаяся, покорная. Гайгерн сел на край постели и с улыбкой поглядел на нее.
– Ну как? – спросил он.
Грузинская что-то прошептала, что – он не понял.
– Говори со мной по-немецки, – попросил он.
– Ты… человек… – прошептала она. Это слово поразило Гайгерна, ударило прямо в сердце, как тугой теннисный мяч, почти причинив боль. Дамы, с которыми он обычно имел дело, не были щедрыми на ласковые слова. Они называли его «дружок», или «пупсик», или «барончик». Гайгерн встрепенулся, услыхав в этом слове голос души, он услыхал в нем что-то из своего детства, из той жизни, которую давно покинул. Но он отбросил эти мысли. «Если б у меня была хотя бы одна сигарета», – подумал он, нахмурившись. Грузинская смотрела ему в глаза со странной, ускользающей, но почти счастливой улыбкой. Потом села, дотянулась ногой до свалившейся туфли и вдруг без всякого перехода сделалась светской дамой.
– О-ля-ля! Какие сантименты! – воскликнула она. – Грузинская – и вдруг плачет? Неужели это правда? Вот так диковинка! Она уже… Уже много лет ничего подобного не знает. Мсье очень меня напугал. Мсье сам виноват, что стал свидетелем столь неприятной сцены. – Она говорила холодно, в третьем лице, пытаясь создать дистанцию, зачеркнуть внезапно прорвавшееся «ты», но этот человек уже стал слишком близким ей, чтобы можно было продолжать обращаться к нему на «вы». Гайгерн не знал, что ответить. – Просто ужасно, до чего изматывает нервы служба в театре, – продолжала Грузинская по-немецки, так как ей показалось, что он не вполне ее понимает. – Дисциплина! О, вот уж что-что, а дисциплина у нас есть. Дисциплина требует такого немыслимого напряжения сил! Ради дисциплины приходится делать то, чего совсем не хочешь. Как это по-немецки? К чему охоты нет. Знакома ли мсье усталость из-за чрезмерной дисциплинированности?
– Мне? Ну нет. Я всегда делаю то, что мне хочется, – сказал Гайгерн.
Грузинская подняла руку движением, к которому вернулась неповторимая грация.
– О да, мсье. Хочется пробраться в комнату дамы – и пробираемся. Хочется с опасностью для жизни пройти по карнизу – и мы идем. И чего же нам еще хочется?
– Курить, – честно ответил Гайгерн.
Грузинская, не ожидавшая такого ответа, сочла его очень деликатным и тактичным. Она подошла к письменному столу и, достав портсигар, протянула его Гайгерну. Она стояла возле стола в поношенном, но настоящем японском кимоно, в стоптанных комнатных туфлях, и видно было, что она вновь обрела всю свою хрупкую хрустальную прелесть, которая восхищала мир на протяжении двадцати лет. Казалось, она забыла о том, что лицо у нее заплаканное и жалкое.
– Что ж, выкурим трубку мира, – сказала она и подняла на Гайгерна глаза с тяжелыми темными веками. – А затем простимся.
Гайгерн жадно затянулся сигаретой. Ему сразу полегчало, хотя положение оставалось чертовски сложным. С жемчугом в кармане он не мог уйти из этой комнаты – это было ясно как день. Если он оставит у себя жемчуг теперь, когда она его знает, то сегодня же ночью ему придется уносить ноги, а завтра утром полиция уже пустится по его следу. Такое отнюдь не входило в его жизненные планы. Нужно было сделать все возможное, чтобы остаться здесь, в номере, пока каким-нибудь чудом жемчуг не уляжется снова на свое место в саквояжике.
Грузинская села перед зеркалом и, строго глядя на свое отражение, напудрила лицо. Проведя по щекам чем-то раз-другой, она вдруг снова стала красивой. Гайгерн подошел, встал между женщиной и пустым саквояжем на туалетном столике. Поглядев в зеркало поверх ее плеча, он улыбнулся сладкой улыбкой сердцееда.
– Что означает эта улыбка? – спросила Грузинская, также глядя в зеркало.
– Я вижу в зеркале то, чего ты увидеть не можешь, – Гайгерн просто сказал «ты». От сигареты он взбодрился и теперь был в ударе. «Главное – ни шагу назад», – подумал он и приказал себе постараться на совесть. – Опять вижу то, что видел раньше, когда стоял на балконе. – Он наклонился к Грузинской. – Я вижу в зеркале такую красивую женщину, какой не видел еще никогда. Она печальна, эта женщина. Она раздета. Она… Нет, я не могу об этом говорить, я теряю голову. Я не знал, что так опасно заглядывать в комнату, когда там раздевается женщина.
И в самом деле, когда Гайгерн произносил галантные фразы на своем старомодном, выученном в монастырской школе французском, он снова, как наяву, увидел перед собой прежнюю Грузинскую и то, как она стояла перед зеркалом. Он сразу почувствовал удивление и теплоту – как тогда, когда стоял за оконной шторой. Грузинская слушала недоверчиво. «Какой холодной я стала», – грустно подумала она, не ощущая ни малейшего волнения от пылких слов. Она чувствовала лишь глубокий стыд. Изящным наигранным движением она повернула голову на длинной шее к Гайгерну. Он обнял ее узкие плечи теплыми умелыми руками и со знанием дела поцеловал в красивую ямку между лопатками.
Поцелуй, начавшийся холодно и отчужденно, был долгим. Как горячая тонкая игла пронизал он плоть женщины, ее сердце часто забилось. Кровь стала густой и жаркой; и оно билось, да, оно билось, это остывшее сердце, оно трепетало, глаза Грузинской закрылись, ее била дрожь. Но и Гайгерна затрясло. Когда он ее отпустил и выпрямился, на лбу у него выступила голубая жила. И внезапно он ощутил эту женщину в себе – везде: ее кожу, ее горьковатый аромат, ее медленно пробуждающийся страстный трепет. «Вот дьявол!» – грубо подумал он. Руки его были голодны и тянулись к ней.
– По-моему, вам пора идти, – нерешительно сказала Грузинская, глядя на свое отражение в зеркале. – Ключ в замке.
Да, этот проклятый ключ торчал в замке, Гайгерн мог теперь уйти – если бы захотел. Но он не хотел уходить – по разным причинам.
– Нет, – сказал он и вдруг стал властным, – высокий мужчина рядом с маленькой женщиной, которая дрожала, как скрипичная струна. – Я не уйду. Ты знаешь, что не уйду. Или ты думаешь, я оставлю тебя здесь одну, наедине с чайной чашкой, в которой растворен веронал? Ты думаешь, я не знаю, что с тобой происходит? Я остаюсь. Точка.








