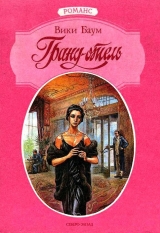
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Да. Верно, правда. Ты права, – благодарно ответил Прайсинг. – Где сейчас девочки? Я хочу с ними поговорить.
В телефоне послышались какие-то невнятные слова, потом аппарат закричал звонкими голосами:
– Привет, папусик!
– Привет, Пусик! – Прайсинг сразу повеселел. – Как дела?
– Хорошо! А у тебя как?
– Тоже хорошо. Беби тоже здесь?
Да, Беби тоже подошла к телефону – семнадцатилетний девичий голос спросил, как у отца дела и какая в Берлине погода, и привезет ли им папусик что-нибудь из Берлина, потом сказал, что расцвели крокусы и что мамусик не разрешает играть в теннис, хотя уже совсем тепло и Шмидт может привести корты в порядок, и тут мамусик тоже стала что-то говорить в трубке, а за ней и Пусик, и в конце концов телефон начал кричать и смеяться тремя голосами разом, и так шло до тех пор, пока не вмешалась телефонистка, которая попросила Прайсинга заканчивать разговор. Он еще несколько минут постоял в кабине, и ему казалось – хотя он, конечно, не сумел бы выразить этого словами, – что он держит в руках теплый квадрат солнца на подоконнике и голубой цветок крокуса.
После разговора он почувствовал себя намного лучше. Кое-кто из знакомых за глаза говорил, что Прайсинг – подбашмачник, и был недалек от истины.
В то время как Прайсинг, заказав еще один телефонный разговор, вел переговоры со своим банком – довольно возбужденно, потому что речь шла о списании сорока тысяч марок на безрассудно большой, просто безумный расход, который он на свой страх и риск поручил сделать Ротенбургеру, – все эти малоприятные десять минут, которые генеральный директор провел в телефонной кабине номер четыре, бухгалтер Крингеляйн спускался по лестницам, при каждом шаге наслаждаясь мягкостью малиновой ковровой дорожки, по которой его ботинки ступали в высшей степени аристократично. Наконец Крингеляйн подошел к стойке портье. В петлице у него снова красовался цветок, тот же самый, что и вчера вечером, – на ночь Крингеляйн поставил его в стаканчик для зубной щетки, и цветок неплохо сохранился – белая гвоздика с пряным ароматом, который Крингеляйн считал неотъемлемым признаком утонченной элегантности.
– Господин, о коем вы вчера справлялись, приехал, – доложил портье.
– Какой господин? – удивился Крингеляйн. Портье заглянул в канцелярские книги.
– Господин Прайсинг. Генеральный директор фирмы «Саксония», – сказал портье и с любопытством поглядел на маленькое остроскулое лицо бухгалтера. Крингеляйн вздохнул так глубоко, что едва не застонал в голос.
– Да, да. Хорошо. Понятно. Спасибо. А где он? – Щеки у него побледнели.
– Вероятно, в ресторане, завтракает.
Крингеляйн отошел от стойки и с усилием расправил плечи. От напряжения спину у него заломило. «Добрый день, господин Прайсинг, – думал он. – Хорош ли завтрак? Да, я тоже живу здесь, в Гранд-отеле. Представьте себе, и я. Может быть, вам это не нравится? Может быть, таким, как я, запрещается здесь жить? Ха-ха! Мы тоже имеем право жить так, как нам нравится… Ах, почему я боюсь Прайсинга? – тут же подумал он. – Он не может сделать мне ничего плохого. Я же скоро умру, мне никто не сделает ничего плохого». И снова у него появилось это диковинное чувство свободы, как тогда, в малиннике над рекой. Надувшись от храбрости, Крингеляйн смело вошел в ресторан, теперь он уже сносно ориентировался в импозантных интерьерах отеля. Он искал Прайсинга. Он хотел с ним поговорить – вот чего он хотел. У него был свой счет к Прайсингу. Именно это привело его сюда, в берлинский Гранд-отель. «Здравствуйте, господин Прайсинг», – скажет он…
Но в ресторане Прайсинга не оказалось. Крингеляйн прошел по коридору, заглянул в машинописное бюро, в читальню, попутно обследовал газетный киоск и осмелел настолько, что спросил у боя, не знает ли тот, где сейчас господин Прайсинг. Безрезультатно. Крингеляйна охватила форменная горячка, его переполняли слова, которые он непременно должен был высказать Прайсингу. Но вот он очутился на пороге помещения, где прежде не бывал.
– Извините великодушно, вы не знакомы с господином Прайсингом из Федерсдорфа? – спросил он телефониста. Телефонист молча кивнул – ответить иначе он не мог, потому что держал в зубах десяток штекеров, – и показал большим пальцем куда-то себе за спину. Крингеляйн жарко вспыхнул, тут же побледнел. Потому что в эту минуту из четвертой кабины вышел о чем-то задумавшийся Прайсинг.
И здесь произошло следующее. Крингеляйн съежился, его спинной хребет как бы надломился, голова втянулась в плечи, горделиво выпяченная грудь вдруг опала, носки ботинок повернулись внутрь, воротник рубашки взъехал на затылок, колени подогнулись, и на брюках образовались поперечные складки. За одну секунду представительный, богатый господин Крингеляйн превратился в жалкого маленького бухгалтера, в подчиненное существо, которое, казалось, начисто забыло, что через несколько недель его жизнь будет кончена, а значит, у него есть огромное преимущество перед Прайсингом, которому еще долгие годы придется молча проглатывать величайшие обиды. Бухгалтер Крингеляйн отошел в сторону и буквально прилип к стене телефонной кабины номер два, вытянулся по стойке смирно и, совсем как на службе, склонив голову, прошептал:
– Доброе утро, господин генеральный директор…
– Здравствуйте, – на ходу бросил Прайсинг, даже не взглянув на Крингеляйна. Тот еще с минуту простоял точно пригвожденный к стене, сглатывая горькую слюну, ощущая стыд. И боли внезапно вернулись, тянущие боли в наполовину ампутированном больном желудке Морибундуса. Этот орган помимо воли Крингеляйна тайно вырабатывал и вырабатывал яд медленной смерти.
Тем временем Прайсинг прошел в холл, где его уже ждал прославленный юрист, доктор права Цинновиц.
Почти два часа юрист Цинновиц и директор Прайсинг просидели над разложенными на столе документами в тихом уголке зимнего сада, который до самого обеда оставался довольно безлюдным. Директорский портфель был опорожнен, из него извлекли все содержимое, зато пепельница, наоборот, пополнялась все новыми окурками. Руки у Прайсинга повлажнели, как всегда во время трудных деловых разговоров. Доктор Цинновиц, маленький пожилой человечек с лицом китайского фокусника, наконец откашлялся, словно собрался произнести речь в суде, назидательно положил ладонь на кипу бумаг и заговорил:
– Дорогой мой, подведем итоги. На завтрашнее совещание вы придете с порядочной суммой в дебете. Курс наших акций упал, дела плохи, – юрист ткнул пальцем в короткую заметку «Берлинер цайтунг», которую им принес бой. В газете сообщалось, что курс акций «Саксонии» упал еще на семь пунктов. – Дела с акциями плохи. Психологический момент, если позволите так выразиться, для этой важной встречи выбран крайне неудачно. Вы и сами знаете: если представители Хемница завтра скажут «нет», считайте, что объединение фирм сорвалось. Завязать отношения снова вам не удастся. И вполне может быть, что при нынешней ситуации они вам скажут «нет». Я не утверждаю этого стопроцентно, но это возможно, и более того – вероятно.
Прайсинг слушал нетерпеливо, нервничал. Его сбивали с толку правильные обороты речи юриста. Цинновиц всегда говорил так, будто выступал на заседании правления фирмы, даже если был один на один с собеседником. Когда он упирался костяшками пальцев в столешницу, легкий плетеный столик в зимнем саду мгновенно превращался в покрытый зеленым сукном торжественный стол конференц-зала.
– Что же делать? Дать отбой?
– Ни в коем случае. Это произвело бы наихудшее впечатление, – возразил Цинновиц. – К тому же еще не известно, выиграете вы или проиграете, если отложите переговоры на более поздний срок. Отложив переговоры, вы можете упустить последние еще имеющиеся шансы.
– Какие? – спросил Прайсинг. Он не мог избавиться от глупой привычки задавать вопросы, ответ на которые знал и сам. Из-за этого любой разговор с Прайсингом затягивался до бесконечности и становился одновременно и педантичным, и запутанным.
– Вам они известны не хуже, чем мне, – ответил Цинновиц, и его слова прозвучали как выговор. – Речь все время идет о положении дел с англичанами. Манчестерцы, то есть манчестерская фирма «Берли и сын», – вот где, по-моему, находится слабое звено. Хемницкие трикотажники жаждут захватить английские рынки сбыта. «Берли и сын» владеет огромной частью рынка, они постоянно получают крупные заказы на поставку трикотажных изделий, но сами-то они готовые изделия не производят, на их заводах производится только сырье, так что они охотно взялись бы за экспорт своего хлопчатобумажного сырья в Германию, а готовые изделия ввозили бы в Англию, закупая их в Хемнице. Почему они просто сами не займутся этим, вы, дорогой мой Прайсинг, знаете не хуже меня. Хемницкое предприятие, по мнению англичан, недостаточно надежно, недостаточно твердо стоит на ногах. Англичане попятились, потому что испугались – слишком непрочный базис. Другое дело, если АО «Саксония» сольется с «Хемницким трикотажем». Манчестерцы многого ждут от этого объединения. По-видимому, они считают, что в ваше, извините, мой дорогой, довольно вялое предприятие после объединения вольются свежие силы, а чересчур предприимчивые господа из Хемница, напротив, умерят свои аппетиты. Отсюда следует, что «Берли и сын» заинтересованы в вас лишь постольку, поскольку вы намерены объединиться с хемницкими трикотажниками. Те же, в свою очередь, согласятся на объединение лишь тогда, когда вы провернете вашу сделку с фирмой «Берли и сын» и, соответственно, выйдете на британский рынок. Дело за вами. Они ждут, что вы заключите договор на оптимальных условиях. Если вам угодно знать мое мнение, я считаю, что все переговоры до сих пор велись крайне неразумно, поэтому мы и зашли теперь в тупик. Кто вел переговоры с манчестерцами?
– Мой тесть, – быстро сказал Прайсинг. Это было неправдой, и Цинновиц, неплохо информированный о всех перипетиях борьбы за власть в «Саксонии», знал, что это неправда. Он провел по столу ладонью, как бы отметая ответ Прайсинга. «Не будем об этом говорить», – вот что означал его жест. Цинновиц продолжал:
– Я когда-то знал их как облупленных, хемницких трикотажников, – юрист любил ввернуть иной раз словцо из времен своей военной службы, когда он был капитаном запаса. – Я могу с точностью доложить вам о том, что они сейчас думают. Швайман полностью отказался от идеи слияния с «Саксонией», Герстенкорн еще колеблется. Почему? Концерн «SJR» разведывал, не хотят ли хемницкие трикотажники самостоятельно заняться продажей, то есть не объединяться с кем-то, а самим продавать свою продукцию. Конечно, Швайман и Герстенкорн остались бы в совете директоров, получали бы просто дополнительную оплату за эту деятельность, им не пришлось бы рисковать, как сейчас. И наоборот: если бы удалось провернуть дело с Берли, тогда – но это только мое личное, субъективное мнение – тогда они были бы вынуждены отказаться от сотрудничества с концерном «SJR» и объединиться с вами. Вот так складывается ситуация у них. А вот о ваших взаимоотношениях с манчестерцами я мало осведомлен. Ваш тесть написал мне об этом довольно расплывчато.
Прайсинг опять внес путаницу в стройный ход мыслей советника юстиции:
– Предложение со стороны «SJR» действительно последовало или это пустые слухи? Сколько они предложили Хемницу? – спросил он.
– Собственно говоря, это не имеет прямого отношения к делу. – Цинновиц уклонился от ответа, потому что не знал. Прайсинг крепко стиснул в зубах сигару и задумался. «Это имеет отношение к делу», – думал он. Но какое – этого он не мог понять.
– Дела с Берли складываются не так уж плохо, – неуверенно заговорил он.
– Но, по-видимому, не так уж и хорошо, – живо возразил адвокат. Прайсинг потянулся к своему портфелю, отдернул руку, потом все-таки взял портфель, другой рукой вынул изо рта сигару – ее конец был вдрызг изжеван – и наконец, с третьего захода, он вытащил на свет Божий синюю папку, в которой лежали письма и телеграммы.
– Здесь – текущая переписка с Манчестером. – Быстро сказав это, он протянул юристу папку. В следующую секунду он уже пожалел о том, что сделал. Ладони Прайсинга снова покрылись липкой пленкой пота. По привычке он машинально хотел было повертеть на пальце обручальное кольцо, но сейчас кольцо сидело слишком плотно.
– Очень вас прошу, это строго между нами! – добавил он умоляющим тоном. Цинновиц лишь мельком взглянул на него поверх края листка, и Прайсинг умолк. Теперь было слышно только отдаленное позвякиванье столовых приборов – в Большом зале ресторана накрывали столы к обеду. Запах был, как во всех отелях мира незадолго до обеда: запах золотистого жаркого, который до обеда пробуждает аппетит, а после обеда становится невыносимо противным. Прайсинг почувствовал, что проголодался. Он мимолетно вспомнил о мамусике, – должно быть, сейчас она вместе с девочками сидит за обеденным столом.
– Н-да. – Цинновиц отложил в сторону папку с письмами и задумчиво, но вместе с тем рассеянно уставился Прайсингу в переносицу.
– Ну что? – спросил Прайсинг. Спустя несколько мгновений Цинновиц вновь заговорил тоном адвоката в заседании суда:
– Я возвращаюсь к исходному пункту наших рассуждений. Пока что переговоры с фирмой «Берли и сын» нельзя считать оконченными. Следовательно, у нас есть весьма существенный шанс: мы можем попытаться оказать давление на хемницких партнеров. Если же мы отложим переговоры с ними и Берли выйдет из игры, что представляется весьма вероятным, исходя из содержания его письма от… от двадцать седьмого февраля, то мы этот шанс упустим. И тогда у нас вообще не останется шансов. Тогда мы уже не будем сидеть сразу на двух стульях, как теперь, а окажемся между стульями, на полу.
Внезапно лоб Прайсинга багрово покраснел – красное пятно расплылось по наморщенному лбу, выступили жилы. С ним порой случались такие приступы дикой ярости, подпрыгивало давление, запальчивая злость рвалась на волю.
– Все это болтовня! От нее никакого толку. Мы должны добиться слияния, и точка, – почти крикнул он и стукнул по столу кулаком. Доктор Цинновиц немного выждал, прежде чем ответить:
– По-моему, «Саксония» не обанкротится и в том случае, если слияние не состоится.
– Конечно. Разумеется. Я и не говорю о банкротстве. Но нам придется во многом себя ограничить. Мы должны будем уволить рабочих прядильного цеха. Нам придется… Ах, да что уж там говорить. Я должен добиться объединения. Ради этого я и приехал сюда. Должен добиться – и точка. В этом деле есть… есть еще и внутренние пружины. Речь идет о сферах влияния в пределах нашей фирмы. Понимаете, о чем я говорю? В конце концов, вся наша фабрика построена благодаря мне, мной все было организовано. И за это полагается награда. Старик дряхлеет. А мой деверь меня не устраивает. Я говорю с вами совершенно откровенно. Вы ведь знаете этого парня? Мы с ним не сработаемся. Малец приехал из Лиона с такими замашками, которые мне не по нутру. Я не люблю блефовать. И не выношу очковтирателей. Я заключаю контракты на солидной основе. И не строю карточных домиков! И пока что я на своем посту, и придется им со мной считаться!
Доктор Цинновиц с острым любопытством смотрел на генерального директора, который сказал больше того, за что мог отвечать.
– В нашей отрасли вы имеете репутацию в высшей степени корректного предпринимателя, – заметил он вежливо, с некоторым сожалением. Прайсинг опомнился. Он взял со стола папку и суетливо затолкал ее обратно в портфель.
– Итак, мы с вами сошлись на том, что переговоры состоятся завтра, – продолжал Цинновиц. – Мы постараемся, насколько возможно, ускорить подписание предварительного договора. Если бы я знал еще… Послушайте, – сказал он после минутной паузы, во время которой что-то обдумал, – не могли бы вы дать мне кое-какие письма из вашей папки? Самые многообещающие, те, что были написаны в начале всей этой истории. Сегодня после обеда у меня беседа со Швайманом и Герстенкорном. Не вредно будет, если… Я, конечно, покажу им не всю переписку, а только отдельные письма.
– Это невозможно, – ответил Прайсинг. – «Берли и сын» требуют от нас строжайшего соблюдения коммерческой тайны.
Цинновиц только усмехнулся.
– Все воробьи в Берлине уже чирикают о вашей коммерческой тайне, – сказал он. – Впрочем, воля ваша. Hic Rhodus, hic salta [7]7
Здесь Родос, здесь прыгай (лат.).То есть: здесь покажи себя. (Примеч. пер.).
[Закрыть]. Если мы извлечем выгоду из переговоров с манчестерцами, то дело еще можно спасти. Это единственный пункт, в котором можно привести в равновесие ваши порядком пошатнувшиеся взаимоотношения с хемницкими трикотажниками. Надо как бы невзначай, ненароком подсунуть Швайману одно-два письмеца. Мы их тщательно отберем, не сомневайтесь. Сделаем копии. Но решать – вам. Ответственность несете вы.
Опять на Прайсинга взваливают ответственность! А ведь он еще не переварил сорок тысяч марок, которые на свою ответственность выделил Ротенбургеру для покупки акций; эти сорок тысяч так и давили тяжелым камнем под ложечкой – у Прайсинга и в самом деле на нервной почве началась изжога, а в висках жарко застучала кровь.
– Не нравится мне это. Темное дельце, – сказал он. – Ведь переговоры с Хемницем мы начали давно, гораздо раньше, чем завертелась эта петрушка с Берли. И я ни словом не обмолвился о ней Герстенкорну. И вдруг дело примет новый оборот. Если в Хемнице сочтут, что мы придаток английской фирмы, – а, похоже, к тому идет, – то какой я вообще найду предлог, чтобы показать им нашу переписку с англичанами? Нет уж. Я на такое не пойду…
«Туп, как баран», – подумал доктор Цинновиц и, щелкнув замком, закрыл свой портфель.
– Ну что ж, – сказал он, слегка поморщившись, и встал.
И вдруг Прайсинг все переиграл.
– У вас есть человек, который мог бы перепечатать несколько писем? Я, пожалуй, поручил бы вам сделать три-четыре экземпляра под копирку. Оригиналы останутся у меня. – Прайсинг произнес это быстро и так громко, словно хотел кого-то перекричать. – Нужен надежный человек, который умеет держать язык за зубами, – продолжал он. – Кроме того, мне нужно кое-что продиктовать, кое-какие соображения, которые понадобятся мне на переговорах. Здесь, в отеле, есть машинистки, но они меня не устраивают. У меня такое впечатление, будто они выбалтывают все коммерческие тайны здешнему портье. Я хочу заняться делами вскоре после обеда.
– К сожалению, все работники моей канцелярии в это время заняты, – холодно и немного удивляясь ответил Цинновиц. – У нас сейчас разрабатывается сразу несколько больших дел, и мои люди уже которую неделю работают сверхурочно. Впрочем, погодите-ка! Я же могу прислать к вам Флеммхен. Это именно то, что вам нужно. Я вызову ее по телефону.
– Как, вы сказали, ее зовут? – Прайсингу чем-то не понравилось странное, похожее на прозвище имя.
– Флеммхен. Фламм-вторая. Сестра моей секретарши фройляйн Фламм, мы ее зовем Фламм-первая. Фламм-то первую вы знаете? Она служит у меня уже лет двадцать. Флеммхен тоже часто для нас печатает, когда канцелярия не справляется с объемом работы. Я и в служебные поездки брал ее с собой, если старшая сестра почему-либо не могла поехать. Она очень работящая, да и неглупа. Копии нужны мне к пяти часам. И тогда я обо всем переговорю с вашими хемницкими партнерами. За ужином, совершенно неофициально. Пускай Флеммхен принесет копии лично мне, в канцелярию. Сейчас я пойду поговорю по телефону с Фламм-первой и попрошу ее прислать сюда сестру. На какое время вы назначили завтрашние переговоры?
Доктор Цинновиц и генеральный директор Прайсинг, два корректного вида господина с двумя изрядно потертыми портфелями в руках, вышли из зимнего сада, миновали коридор и прошли в холл, где множество похожих на них людей с такими же, как у них, портфелями вели такие же разговоры. Но кое-где в холле уже мелькали и дамы; свежие после ванны, по-утреннему свеженадушенные, с аккуратно подкрашенными губами, они с элегантной беспечностью натягивали перчатки, перед тем как выйти через вращающуюся дверь на улицу, где серый асфальт уже был омыт желтым солнечным светом.
Направляясь через холл к телефонным кабинам, Прайсинг услышал вдруг, как кто-то назвал его имя. Бой номер 18 бежал по коридору и звонким, по-мальчишески ломким голосом выкрикивал:
– Господин директор Прайсинг! Господин директор Прайсинг из Федерсдорфа! Господин директор Прайсинг!
– Сюда! – окликнул боя Прайсинг, протянул руку и принял телеграмму. – Извините, – сказал он Цинновицу, на ходу вскрыл депешу и начал читать. Под волосами по голове у него пробежал холодок, он машинально надел шляпу. В телеграмме значилось: «Договор с фирмой «Берли и сын» окончательно отклонен. Бреземан».
«Нет смысла. Незачем вызывать секретаршу, доктор Цинновиц. Нет смысла. С Манчестером все кончено, – думал Прайсинг, но сам тем временем по-прежнему шел в направлении телефонных кабин. Он сунул телеграмму в карман и стиснул ее в кулаке. – Нет смысла. Незачем копировать письма». Он хотел произнести эти слова вслух, но не произнес. Откашлялся – в горле все еще першило от паровозной угольной сажи после вчерашнего переезда в паршивом поезде.
– Смотрите, погода-то разгулялась. Славно, – сказал он.
– Пора уж, март на исходе, – ответил Цинновиц. Выйдя в холл, он разом отбросил все мысли о делах и превратился в самого обыкновенного человека, который с интересом поглядывает на женские ножки в шелковых чулках.
– Сейчас освободится вторая кабина, – объявил телефонист, подняв голову от красных и зеленых штекеров.
Прайсинг прислонился спиной к обитой чем-то мягким двери телефонной кабины и бездумно уставился в ее застекленное окошечко, за которым виднелись чьи-то широкие плечи. Цинновиц что-то говорил, но смысл слов не доходил до Прайсинга. В его мозгу кипела лютая ярость на Бреземана, на эту скотину, так называемого доверенного, который присылает шефу подобные телеграммы как раз в то время, когда важнее всего не раскисать, не сдаваться, ибо на завтра назначена серьезнейшая встреча. Скорей всего, к телеграмме приложил руку старик-тесть, злобный слабоумный старик, который, должно быть, теперь торжествует: на-ка, получай, вот тебе сюрприз, покажи, годишься ли ты вообще на что-нибудь. Генеральному директору Прайсингу было обидно до слез. Нервы после бессонной ночи в поезде пошаливали, голова трещала от забот, совесть была неспокойна из-за всех этих темных афер и сомнительных моментов. Он попытался привести мысли в порядок, но мысли кружились и ускользали. Стоявший рядом доктор Цинновиц с видом бывалого прожигателя жизни рассказывал о новом ревю, где все девицы танцевали в чем-то серебряном и все вокруг тоже сверкало серебром. Дверь кабины, к которой, ища опоры, прислонился плечами Прайсинг, толкнула его, потом мягко, но решительно открылась, и из кабины вышел очень высокий симпатичный и приветливый молодой человек в синем плаще. Он ничуть не рассердился на то, что кто-то помешал ему выйти, – напротив, вежливо попросил извинения за беспокойство. Прайсинг рассеянно взглянул на молодого человека и очень близко и отчетливо увидел его лицо, каждую черточку, каждую линию. Он в свою очередь извинился, буркнул какую-то банальную фразу. Цинновиц уже уселся в кабине и как раз просил позвать к телефону Фламм-вторую. Флеммхен, добросовестная старая дева, должна напечатать копии писем, хотя в этом уже нет никакого, абсолютно никакого смысла. Прайсинг отлично понимал, что, пока не поздно, надо остановить Цинновица, дать отбой, но энергии, чтобы это сделать, у него уже не осталось.
– Порядок, – сказал Цинновиц, выходя из кабины. – Она придет в три часа. Пишущих машинок в отеле хватает. В пять часов копии будут лежать у меня на столе. Перед началом переговоров я вам протелефонирую. Все будет в порядке, уж мы им зададим перцу, не сомневайтесь. До свидания и приятного вам аппетита.
– До свидания, – сказал Прайсинг, глядя на вращающиеся стекла двери, которая вытолкнула адвоката на улицу.
Там, за дверью, было солнечно. Там продавал фиалки маленький бедный человечек. Там никому не было дела до слияния фирм, осложнений с договорами. Прайсинг вынул руку из кармана, другой рукой вытащил из судорожно стиснутых пальцев листок телеграммы, который сжимал все время, пока Цинновиц разговаривал по телефону, и позже, когда адвокат выходил на улицу, садился в такси. Прайсинг сел за один из столиков в холле, аккуратно разгладил телеграмму, сложил и спрятал во внутренний карман своего добротного темно-серого пиджака.
Телефонный звонок раздался в пять минут четвертого. Он разбудил генерального директора, который прилег немного вздремнуть после обеда. Прайсинг вскочил с шезлонга – ботинки, воротничок и пиджак он снял и теперь чувствовал себя неуютно и сиротливо, как нередко чувствуешь себя после такого вот случайного недолгого сна в гостиничном номере. Желтые шторы были задернуты, в комнате стояла сухая жара, воздух сильно нагрелся, потому что вовсю работали батареи центрального отопления. На правой щеке у Прайсинга отпечатался узор привезенной из дома подушки. Телефон заливался нетерпеливым звоном.
– Дама, пришедшая к господину директору, ожидает в холле, – доложил портье.
– Попросите ее подняться в мой номер, – сказал Прайсинг и одной рукой начал торопливо приводить в порядок свой костюм.
И что же? Вежливо, в корректной форме ему вдруг навязывают непредвиденные осложнения. У отеля были незыблемые принципы и суровые законы. Взявший трубку старший администратор Рона, извинившись и сочувственно усмехаясь, сообщил о них Прайсингу. В отеле не разрешалось принимать дам в номерах, и, к сожалению, – сказал Рона, – он даже для господина директора не может сделать исключения.
– Ах, Господи Боже ты мой! Да не собираюсь я принимать никаких дам! Это моя секретарша, мы с ней будем работать. В конце концов, вы же ее видели… – Прайсинг пришел в раздражение. Насмешливость – телефонная – Роны только возросла. Он учтиво попросил господина директора поработать с дамой в машинописном бюро отеля, которое специально оборудовано всем необходимым для работы и открыто в любое время. Прайсинг гневно швырнул трубку на рычаг. Он был вне себя от злости: нарушались его привычки, да еще так беспардонно! Он вымыл руки, прополоскал рот, справился со строптивой запонкой воротника и галстуком, затем спустился в холл.
В холле сидела Флеммхен, Фламм-вторая, сестра фройляйн Фламм-первой. На всем белом свете не нашлось бы двух столь непохожих между собой сестер. Прайсинг помнил Фламм-первую: она была вполне благонадежной особой с безобразными крашеными волосами, в нарукавнике на правой руке и бумажной манжете на левой. С неизменно кислой миной эта секретарша преграждала нежелательным посетителям дорогу в кабинет адвоката Цинновица. У Фламм-второй, или Флеммхен, не было ни малейших признаков подобной благонадежности. Она непринужденно развалилась в мягком кресле и, по-видимому, чувствовала себя как дома; положив ногу на ногу, она покачивала туфелькой из блестящей синей кожи и, судя по всему, была настроена от души поразвлечься. Вообще, ей было никак не больше двадцати лет.
– Меня прислал доктор Цинновиц. По поводу копий. Я – Флеммхен, которую он вам обещал, – без всяких церемоний сказала она.
Губы у нее были подкрашены небрежно, как бы в спешке, да и то, видимо, лишь в угоду требованиям моды. Когда Флеммхен встала, оказалось, что ростом она выше Прайсинга, длинноногая, с туго затянутым кожаным пояском на удивительно тонкой талии. Фигура у нее была превосходная. Прайсинга охватила ярость – этот болван Цинновиц поставил его в идиотское положение. Теперь Прайсинг понял, почему у старшего администратора отеля возникли подозрения. В довершение всего от девицы еще и духами несло. Прайсингу захотелось отправить ее домой.
– По-моему, не стоит попусту терять время, – сказала Флеммхен. Голос был низкий, чуть хрипловатый. Такой голос часто бывает у маленьких девочек. У Пусика, то есть у старшей дочери генерального директора, в детстве был такой же голос.
– Так вы, значит, и есть сестра фройляйн Фламм? Я с ней знаком. – Слова Прайсинга прозвучали не только удивленно, но, пожалуй, даже грубо.
Флеммхен выпятила нижнюю губу и дунула на непослушную прядь волос, спадавшую ей на лоб из-под маленькой фетровой шляпки. Золотистый завиток легко взлетел вверх, потом плавно опустился на лоб. Прайсинг, сам того не желая, обратил на него внимание.
– Сводная. Сводная сестра, – сказала Флеммхен. – От первого брака нашего отца. Но у нас с сестрой очень хорошие отношения.
– Да-да…
Прайсинг тупо смотрел на девушку. Так это она должна сделать копии писем, которые уже не нужны, с которыми покончено, которые не имеют смысла, не имеют значения. Несколько месяцев он добивался сближения с фирмой «Берли и сын», создавал комбинации – он не мог перестроиться вдруг, в одну минуту. Он просто был неспособен вот так запросто взять да отбросить за ненадобностью давно начатое дело. «Договор окончательно отклонен. Бреземан». Окончательно. Письмо к Бреземану тоже сейчас продиктую, крепкое письмо. И старику, насчет сорока тысяч. Если эти из Хемница завтра увильнут, значит, сорок тысяч, которыми он жертвует ради удержания курса акций, можно считать, пошли псу под хвост.
– Ладно. Идите за мной в бюро, – насупившись сказал Прайсинг и первым пошел в коридор. Флеммхен насмешливо улыбнулась, заметив толстую складку жира у него на затылке.
Еще издали был слышен стук пишущих машинок, походивший на треск миниатюрного пулемета, с равномерными промежутками звякали звоночки. Когда Прайсинг открыл дверь, из бюро повалил табачный дым, он выползал в коридор огромной синей змеей.
– Ничего себе акустика! – сказала Флеммхен и наморщила нос с круглыми дырочками ноздрей.
В помещении бюро быстро ходил из угла в угол, заложив руки за спину и сдвинув котелок на затылок, какой-то человек, он диктовал по-английски, квакая, как американец. Это был менеджер известной киностудии. Бросив на Флеммхен быстрый оценивающий взгляд, он продолжал диктовать.
– Ну нет. – Прайсинг с силой захлопнул дверь. – Здесь я работать не буду. Мне нужно отдельное помещение. В этом отеле вечно палки в колеса ставят!
Теперь уже Прайсинг шел следом за Флеммхен, возвращаясь в холл. Он был вне себя от злости и, все больше разъяряясь, вдруг заметил, что от вида мягко покачивающихся бедер Флеммхен у него начинает шуметь в голове.
В холле на девушку тоже глазели. Она представляла собой великолепную особь женского пола, тут не было никаких сомнений. Прайсингу действовало на нервы то, что он вынужден идти через весь холл бок о бок с этой привлекавшей всеобщее внимание красоткой, и поэтому он попросил ее подождать и один направился к Роне. Прайсинг решил добиться, чтобы ему выделили отдельное помещение для работы, где можно чувствовать себя спокойно. Флеммхен, совершенно равнодушная к устремленным на нее взглядам – Господи, до чего же она к этому привыкла! – довольно небрежно напудрила нос, потом, стоя посреди холла, мальчишеским жестом вытащила из кармана пальто маленький портсигар и закурила. Прайсинг приблизился к ней с таким видом, будто подходил к зарослям крапивы.








