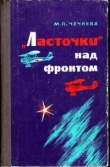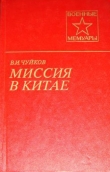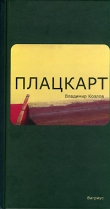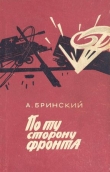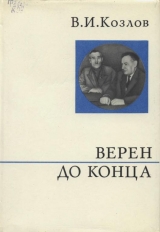
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
– Будешь в бригаде «Тесово» помощником Силантия Клишевича, – сказал я Василевской. – Человек он пожилой, мешать тебе любезностями не станет.
Ольга засмеялась.
– Я не на гулянку сюда приехала.
– Комсомолка? Где раньше работала?
– Комсоргом была, у себя, в совхозе «Капацевичи».
– Это хорошо. Значит, и спрос с тебя будет больше.
Поселили мы девушек-комбайнерок в общежитии при МТС. Жили они в одной комнате: и Ольга, и Анна Протасеня, такая же высокая, светловолосая, и маленькая чернявая шустрая Анна Явсейчик, и спокойная серьезная Шура Маголина.
У девушек всегда было чисто, постели аккуратно прибраны, на тумбочках, застеленных белыми салфетками, летом стояли букеты полевых цветов. Пол вымыт, половички выбиты. На собраниях мы всегда ставили «девичью» в пример мужчинам.
Ясно, что приезд женщин-механизаторов был большим событием у нас в Кулаках. Многие приходили посмотреть на них: «Баба за рулем!» Сразу, конечно, нашлись и «кавалеры»: без родителей девчата живут, да еще не худо зарабатывают. Почему бы не погулять? Так что нам еще приходилось и ограждать их от особо назойливых ухажеров.
Часто заезжал я на поле, проверял, как трудятся девчата. Старались они. Однако так ладно, как у мужчин, у них пока не получалось. Конечно, им всегда помогали бригадиры, механики, это давало повод некоторым горлопанам говорить: «Зря бабам доверили технику. Ихнее дело у печки стоять да детей нянчить».
Был у нас тракторист Сосновский. Нос кверху, волосы торчком, но себя считал парнем хоть куда и все увивался вокруг девчат. Только почему-то ни одна не хотела с ним гулять. Так этот разобиженный «жених» и на собрании кричал:
– Угробят нам эти «ударницы» машины!
Тем не менее, когда к нам в МТС пришли новые комбайны, первой на самостоятельную работу мы перевели Ольгу Василевскую. И не ошиблись. Она научилась хорошо управлять машиной и все повышала и повышала выработку. Это заставило многих насмешников закрыть рот.
Как-то заходит ко мне в кабинет главный механик, красный, взволнованный.
– Чуть беды не нажили с девчатами, Василий Иванович.
– Что случилось?
– Да Ольгу чуть не затянуло в комбайн.
– Покалечило?
– Обошлось.
– Как же это вышло?
– Юбки-то длинные, захватило подол.
Я сейчас же вызвал Николая Клочкова, сел в машину и поехал на тот участок, где убирали пшеницу.
Степной корабль Ольги важно, плавно шел по загону. Она уверенно держала штурвал и меня издали встретила улыбкой. Я посмотрел, хорошо ли Ольга регулирует хедер, низко ли срезает хлеб. Работала она спокойно.
Когда комбайн остановился, чтобы выгрузить из бункера зерно на подъехавшие подводы, я как мог спокойнее спросил:
– Что это у тебя тут вышло?
Она покраснела:
– Да так!..
– Ну-ну, я ведь слыхал.
– Во время работы переходила от трактора к комбайну, и юбку захватило карданным валом. Перебросило с одной стороны на другую. Отделалась испугом.
Опять улыбнулась, а лицо при воспоминании побелело-побелело. Вижу, перепугалась сильно, значит, тряхнуло ой как!
Проследил я, как разгрузили бункер, отъехали подводы на ток, и вернулся в Кулаки. Мне все было ясно: Ольгу спасло лишь то, что юбка оказалась старой, порвалась. А будь это, скажем, андарак – национальный белорусский наряд из очень крепкой материи, – могли бы и похоронить свою лучшую комбайнерку.
После этого мы всех девушек заставили носить спецодежду. Была она у них давно, да они стеснялись ее надевать, боялись насмешек.
Постепенно к девушкам совсем привыкли. Больше того, они хорошо повлияли на мужчин. Чего греха таить: мужчины на язык невоздержанны – и в поле, и в мастерских, и в столовой частенько можно было услышать крепкое слово. Боролись, конечно, с этим, даже на собраниях вопрос не раз поднимали, да все без толку.
Присутствие же скромных, серьезных девушек невольно сдерживало и механизаторов и приезжавших на усадьбу колхозников. Да и в общежитии установился порядок. Мужчины теперь уже не ложились одетыми на застланную кровать, не разбрасывали окурки по всей комнате, даже бриться стали чаще. Кому охота, чтобы тебя поднимали на смех?
Со временем Старобинская МТС стала своего рода технической базой района. У нас был и значительный парк сельскохозяйственных машин, и грузовики, и хорошо оборудованные ремонтные мастерские.
Со стороны может показаться, что быть директором МТС – это значит заключать договоры с колхозами, отвечать за обработку полей, за своевременный ремонт тракторов, комбайнов, – словом, хозяйничать. Все перечисленное входило в мои обязанности, но этим дело не ограничивалось. Райком привлекал нас к общественной работе так же, как мы привлекали агрономов, учителей, механизаторов.
Я не ждал, когда меня нагрузят. Выступал на районных, областных партконференциях, на пленумах, делал доклады на колхозных собраниях, проводил политбеседы. Я не знал, что кое-кому в Старобине не нравилась моя активность, расценивали это как стремление выдвинуться.
Работы было очень много – не до кривотолков. Мы пахали целину. Не только в буквальном смысле – поднимая залежи, осваивая болота, корчуя кустарники, – а и в переносном: пахали целину частновладельческого землепользования.
Мы, коммунисты, и беспартийные массы, что шли за нами, – все вместе творили новую историю деревни.
Мы на ходу набирались опыта и, не побоюсь сказать, умнели на ходу, крепли, с каждым днем чувствовали себя уверенней.
Мы не только пахали, косили, обмолачивали зерно, мы строились. Работа шла на два фронта. Государство отпускало нам большие кредиты, и мы в Кулаках воздвигали на своей усадьбе кирпичное здание ремонтных мастерских. За короткое время построили четыре гаража, здание конторы МТС. Кроме того, клуб для рабочих и, сверх плана, баню.
Вид усадьбы МТС менялся на глазах.
Деньги нам давали щедро. Считалось, что мы получаем и стройматериалы, во всяком случае, нам их планировали. А вот доставать их по нарядам приходилось нелегко. Да это и неудивительно. По всей громадной, необъятной стране от Негорелого до Амура такое поднялось строительство, что кирпич, цемент, балки, лес, скобы, гвозди, листовое железо, черепицу и прочий «строительный хлеб», пожалуй, труднее было достать, чем хлеб ржаной, а, как известно, и ржаной-то отпускали по строгим нормам.
Получишь на руки наряд и бегаешь с ним высунув язык по разным районным, областным и республиканским снабам. Ответ чаще всего один: «Откуда мы вам возьмем стройматериал? Ждите, когда получим».
Так же мы бедствовали в то время с запчастями для тракторов, комбайнов. Со всем, вплоть до баббита для подшипников. Но мы всегда как-то умудрялись выкручиваться.
И вот однажды, когда я нигде не мог получить стройматериалы, поехал я в райком. У нас в районе был новый первый секретарь – Боярченко. Приехал к нему, рассказал о своих бедах и попросил помочь. В кабинете находился и второй секретарь – Жуковский.
– Лесу тебе надо? – переспросил Боярченко. – Может, ты считаешь, что у нас в райкоме лес растет? И кирпичи мы тут обжигаем? У тебя же в наряде сказано, куда обращаться.
Объяснять я секретарям ничего не стал: оба они отлично знали, как туго у нас со стройматериалами.
– В Старобине есть лесопилка, – сказал я. – Дайте хоть пяток кубометров тесу. Очень нужно.
– Туда бы и обращался. Ты что-то, Козлов, все двери путаешь.
– Они на вас показывают: «Райком разрешит – дадим».
Сидел Боярченко за своим столом с видом человека, перегруженного важнейшими государственными делами. Жуковский ходил по кабинету, и я поймал на его тонких губах ядовитую усмешку. В разговор он не вмешивался.
В Старобине Боярченко появился совсем недавно, но мы уже поняли его стиль. Ходил, как и большинство районных работников, в полувоенной форме: гимнастерка защитного цвета, галифе, хромовые сапоги. Голос у Боярченко был грубый, сильный, говорил он обычно командирским тоном, возражений не терпел. Свободно мог перебить человека репликой, оборвать, а то и высмеять. Очень любил, чтобы выступавшие на собраниях ссылались на его высказывания, цитировали его.
Кое-кто это уловил и быстро попал в милость. Я знал, как держатся некоторые районные «незаменимые» работники: по каждому поводу бегут к начальству, поступают только так, как им указывают.
Такой привычки у меня лично не было. Я с юности привык сам за все отвечать. Партия доверила – действуй. Сумеешь поднять свой участок – честь тебе и хвала. Не справишься, завалишь – уступи место другому. Вот эта-то самостоятельность, видимо, не понравилась кое-кому из нового руководства райкома.
– Я ведь не для своего дома стройматериалы ищу, – напомнил я.
– Тогда бы мы с тобой совсем по-другому заговорили.
Я понял, что ничего не добьюсь, и собрался уходить. Жуковский спросил:
– А что ты там строишь, Василий Иванович?
Я перечислил все, недоумевая, неужели второму секретарю не известно, что сооружают у райкома под самым, можно сказать, носом? «Что, – думаю, – за этим таится?» Ломать голову долго не пришлось.
– И баню? – спросил Жуковский таким удивленным тоном, будто впервые об этом слышал. – Она ведь вроде в смете у тебя не стоит?
– Не предусмотрена. Это уж наша собственная инициатива.
– Помыться захотелось, – с явной насмешкой сказал Боярченко. – Попариться, веничком обмахнуться, на полке полежать кверху пузом.
И он и Жуковский засмеялись. Я не нашел причины для обиды:
– А почему бы и не так, Степан Николаевич? Рабочему человеку после трудового дня сам бог велел кости попарить.
– Может, вы еще там у себя парикмахерскую соорудите?
– И это бы не худо.
Независимый тон мой не понравился Боярченко. Он нахмурился, надул губы:
– Живете в Кулаках, будто в собственном княжестве. Как ни позвонишь, тебя все в конторе нет.
– Значит, на полях. В колхозах.
– Руководитель обязан бывать и в конторе. Как у тебя день распланирован?
«Проверку, – думаю, – устраивает? Ну что ж, районный партийный руководитель имеет на это право».
– Мы люди деревенские, – начал я, словно бы полушутя, поддерживая обычную товарищескую беседу, – Просыпаюсь с петухами. В шесть часов уже на ногах и сразу на усадьбу МТС. Если хотите застать меня в кабинете, то прошу в первую половину дня. А уже после обеда, как правило, выезжаю в тракторные бригады.
– Катаешься, значит? – с усмешкой спросил Боярченко.
– Катаюсь. Иногда и гощу дня два-три в какой-нибудь артели. Если там какой конфликт и просят моей помощи.
– Гастролером живешь, – подытожил Боярченко, опуская последнюю часть моего ответа. Повернувшись к Жуковскому, продолжал: – Мне говорил помощник мой… Шевченко. «Прыткий, – говорит, – у нас директор МТС. Вчера видал его на собрании в «Луче коммуны» Чепелевского сельсовета. Покачнулся вдруг прямо на сцене, вывели его под руки. Ну, думаем, слег наш Козлов. Глядь, а он назавтра уже на полях колхоза «Третий решающий» под Зажевичами». Так, что ли, Василий Иванович?
Бессистемное питание, постоянное напряжение нервов действительно расшатали мое здоровье, и у меня начались приступы каменно-почечной болезни. Но какое дело до моей болезни Боярченко? Мне все больше не нравился его тон. Я поднялся и сказал, что мне пора домой.
– Стараюсь поспевать туда, где я нужен. А катаемся мы все, Степан Николаевич. Вам ведь тоже приходится?
– Приходится. Но все-таки ты… командир тяжелой артиллерии. Твое место на батарее. Все время нельзя разъезжать, на то у тебя есть заместители, штат специалистов.
– Каждый работает, как умеет.
С тем я и уехал.
Нехорошо у меня было на сердце. Давно ли я входил в райком, как в родной дом? Я старался не надоедать Николаю Андреевичу Воронченко мелкими неполадками, заботами и беспокоил его лишь в крайних случаях.
Но если уж являлась настоящая нужда, к примеру как теперь со стройматериалами, я ехал в райком с надеждой, крепкой верой, что меня обязательно правильно поймут, откликнутся. Если в чем неправ – поправят. Но встречать ухмылкой, издеваться? Нет, я к такому отношению не привык…
Лесу я, конечно, все-таки достал.
Да и как мне было его не достать, если он позарез нужен? Все колхозы района зависели от наших машин, каждому мы старались помочь, неужели бы они отказались поддержать свою МТС? Ведь от ее мощности, благоустройства зависела и обработка полей, в конечном счете – урожайность.
Все это я растолковал Ивану Кондратьевичу Горячко, председателю «Нового быта», заехав к нему в Метявичи. В правлении мы сидели вдвоем.
– Выручай, – говорю. – За нами добро не пропадет.
– Знаем, Василий Иванович. Да как это сделать? – задумался он.
– У вас же в «Быту» лес есть.
– Есть. Так ведь мы сами его не рубим. Запрещено. Сухостоем лишь да гнильем пользуемся для топки. Леса местного значения – это не наша собственность. Себе на сани да оглобли вырезать не можем. Узнают в Старобине – в суд потянут.
– Это мне все хорошо известно, Иван Кондратьевич, – говорю. – Ответственность полностью беру на себя.
Горячко помедлил.
– Что же, тогда общее собрание надо скликать.
Нечего говорить, что колхозники, когда я объяснил, для чего нужен лес, меня поддержали.
Мы привезли техника-строителя, тщательно сделали выборку деревьев, срезали их и перетащили тракторами к себе на усадьбу.
Когда впоследствии об этом узнал Боярченко, он здорово рассердился, но сделать уже ничего не мог. Во-первых, было поздно: бревна обтесывали на усадьбе МТС. Во-вторых, все по закону, комар носа не подточит. Да Боярченко и чувствовал: едва ли бы кто его поддержал, попробуй он представить данный случай как мое самоуправство, анархизм.
Стройматериалы расходовали так экономно, что хватило и на баню. Я понимал, что вот за нее-то мне могут «прищемить хвост», но это меня не смутило. Почему, действительно, баню считать ненужной роскошью? Пора же перестраивать деревенский быт!
Баню мы построили отменную, из толстых бревен, теплую, с отличной каменкой, просторным предбанником. В наших краях ничего подобного никогда не бывало. У меня сердце радовалось.
«Пускай, – думаю, – намылят нам за нее голову, зато есть где ополоснуться».
В первую же субботу баню хорошенько натопили. Милости, мол, просим, товарищи, после работы попариться с веничком березовым. Новые цинковые шайки к вашим услугам, в мастерских жестянщики наделали их предостаточно, – приходите!
Очень хотелось мне и самому попариться. Да заработался в этот день, мотался по колхозам и домой на усадьбу попал только затемно.
Отказавшись от ужина, побежал в баню, кляня себя по дороге: «Запоздал! Надо же!» Вижу – свет горит: работает еще. Обрадовался. Зашел, спрашиваю истопника:
– Есть, Тихоныч, вода?
– Сколько хотите, Василий Иванович. Можете хоть поплавать. Налейте под самый полок, да и ныряйте.
Не пойму, то ли Тихоныч шутит, то ли сердитый.
– Что, – говорю, – так? Народу мало пришло?
– Вас первого вижу. Признаться, я остолбенел.
– Ну хоть кто-то… обновил баню?
– Заходил было механик, а купаться не стал. Белье, говорит, забыл чистое. Взялся за дверь да с тем и был здоров.
С трудом верил я своим ушам. Вот это здорово! Хоть бы из любопытства, что ли, заглянули! Экий народ.
Конечно, я знал, что в окрестных деревнях люди раньше жили и небогато, и не очень опрятно. Мылись раза два в год: под рождество да перед пасхой. Нагревали в чугунах воду ну и плескались в избе.
Пришлось мне самому опробовать новостройку. Никогда я так не купался, один на всю баню.
Смешно сказать, но кое-кто потом судачил: «Вот Козлов как живет! Для одного себя распорядился баню вытопить. Дровищ сколько пожег!»
Я-то мечтал, что открытие бани станет радостью для всех окрестных деревень. Ан не вышло. Оказывается, и за это с умом браться надо.
На следующую субботу объявили банный день. Специально из-за этого я никуда не поехал, решил сам за всем проследить. Баню снова жарко натопили, ждем. Час проходит, другой опять никто не идет. Я, понятно, нервничаю. Курю папиросы, меряю кабинет из угла в угол. Выйду во двор, гляну на баню. Стоит, как сирота. Опять одному мыться?
Вызываю шофера:
– Заводи, Николай, полуторку, езжай за людьми. Вези всех в баню.
– А если не согласятся?
– Какой же ты директорский шофер? Сумей сагитировать.
– За шиворот, что ли, тащить?
Уехал.
Слышу, проурчал мотор под окном. Приехали.
Спустя какое-то время захожу я со свежим бельем в предбанник. Мужчин порядком, даже на скамьях все не могут поместиться, кое-кто на корточках присел у стены. Курят, жмутся, уже наплевали на пол.
– Вы что, на посиделки сюда? – спрашиваю. Переглядываются, улыбаются смущенно.
– Женщин тут, – говорю, – нету, раздеваться можете смело. Стесняться нечего. Если кто не совсем чистый после работы, так на то и баня.
Опять никто ни с места. Прячут от меня глаза. «Пример надо показывать», – думаю.
– Что ж, начну первый, – говорю. – Это долг руководителя. Только парку мне потом поддадите, да попрошу веничком постегать. Ну вот хоть ты потрудись, Игнат Семеныч, а потом я тебя обхожу.
А постегать веничком – это уже, значит, надо раздеться. И когда этот тракторист с видом обреченного, вроде бы посмеиваясь над собой, стал раздеваться, его примеру последовали и другие.
Поглядел я, всем был полный смысл хорошенько помыться.
– А ну-ка на полок, – командую. – Кто смелый?
Взял березовый веничек, ошпарил крутым кипятком, хлещу одного. Ежится.
– Больно? – спрашивают его товарищи и смеются.
– Прохватывает! – отвечает.
Хохот громче.
– За что вы его так, Василий Иванович? Наверно, за то, что в баню не хотел идти.
– Нет, – смеюсь. – Пашет мелко. «Балалайки» оставляет. Вот я теперь в бане и буду устраивать разносы. Так отхлещу – впредь неповадно будет портачить!
Весело стало в бане. Тракторист спрашивает меня:
– А вас, Василий Иванович, так же хлестать?
– Дело твое, – отвечаю. – Только ты ведь знаешь, как критикуют «сверху» и как критикуют «снизу»?
За шутками так напарились, что выглядели будто вареные раки.
Много на другой день было разговоров о хорошей «баньке», какую директор устроил рабочим. Те, кто не пришел мыться, пожалели.
Народ потянулся. Особенно нравилась баня женщинам. Этих и упрашивать не пришлось.
Кстати, расскажу и о кинокартинах.
Клуб свой мы еще не закончили, и фильмы смотреть можно было только в Старобине, за десять километров. Никто туда не шел: далеко. Как же это, думаю, у нас остается народ в такой непросвещенности? Иные, особенно из стариков, еще ни разу в жизни картину не видели. Тогда я выделил автомашину и сказал, что билеты беру за счет директорского фонда. Демонстрировалась в Старобине «Путевка в жизнь». Посмотрели люди и всю обратную дорогу проговорили о Мустафе, о Жигане, о ликвидации беспризорщины. Фильм очень всем понравился.
В другой раз уже за свой счет охотно поехали.
Впоследствии же, если в выходной не было свободной машины, сами приходили ко мне с жалобой: почему нет транспорта в Старобин? Нечего говорить, с каким нетерпением ждали окончания строительства эмтээсовского клуба.
Тогда уж фильмы стали смотреть дома. От зрителей отбою не было.
11
Об одной непреложной истине. – Партийный билет у меня один. – Меня избрали секретарем райкома. – Первый за годы работы отпуск. – Срочный вызов в Минск. – Переезд в Червень.
Постепенно я освоился в новой, доселе неизвестной мне роли директора. Меня дружно поддержали коммунисты, активисты, все механизаторы. Наша Старобинская МТС стала заметной в области, в республике. Доводилось нам и держать в руках переходящее Красное знамя, и получать премии, и в Минске на совещаниях делиться опытом…
Конечно, не все шло у нас гладко, без сучка и задоринки. От неопытности случались и ошибки, и срывы, и авралы.
Работая в Старобине, я окончательно уверовал в одну непреложную истину: руководитель, который не думает об интересах вверенного ему коллектива, авторитетом пользоваться не будет и хороших показателей не добьется. Лишь там, где люди почувствуют себя хозяевами производства, они смело станут проявлять инициативу, работать, не считаясь со временем.
Начальником политотдела у нас теперь был Леонтий Семенович Швайко. А когда политотделы ликвидировали, он стал заместителем директора по политической части.
Еще в детстве Швайко остался круглым сиротой, пас стадо у богатого помещика. В гражданскую войну ушел добровольцем в Красную Армию, воевал, отличился. Был в 1918 году членом ЦК партии большевиков Белоруссии. Потом Швайко перешел на работу в деревню и везде проявлял недюжинные организаторские способности. Все мы очень гордились, что рядом с нами работает такой заслуженный человек, настоящий ленинец.
С Леонтием Семеновичем мы и стали подбирать кадры, растить наиболее дельных работников; рекомендовали их в партию, посылали учиться. Есть ли на свете дело труднее и кропотливее, чем воспитание человека? Человек должен всегда чувствовать справедливое, внимательное отношение к себе; в ином случае убедить его в чем-нибудь – то же самое, что молотить пустую солому.
Много мне пришлось поездить из конца в конец района, подыскивая для МТС нужный народ. Я старался ближе узнать людей, с которыми работаю, чтобы потом найти к ним ключ. К каждому ведь надо приглядеться, понять его интересы, найти те слова, которые на него могут подействовать.
Вопросы приходилось разбирать самые неожиданные.
Помню, раз прибегает ко мне в слезах Ольга Василевская.
– Что с тобой, Ольга?
Заливается еще пуще. Налил из графина воды, подал. Взяла стакан, сделала глоток, зубы по стакану стучат.
– Успокойся. Потом расскажешь.
Сам занялся своими делами, будто забыл о ней.
Сунулся в дверь тракторист: я сказал ему, что занят, пусть зайдет после. Вижу, Ольга уже мнет носовой платочек.
– Не узнаю тебя, Ольга. Такая смелая, а тут будто язык проглотила. Долго так сидеть будем?
– Сплетню про меня пустили. – И вся залилась краской.
– Какую? Давай по порядку.
– Пошла я вчера в Чижевичи на комсомольское собрание. Меня догнал Петрович. Он ведь женатый, дочка растет. В клубе потом еще танцы были. Побыли – и домой, как и другие наши. А вчера прихожу на работу, а там слух пустили, будто мы с Петровичем не на собрании были, а гуляли в лесу. Проходу не дают.
Опять у Ольги плечи затряслись.
Работы у меня и без того «по завязку», а тут еще это разбирай. Но и без внимания оставлять сплетню нельзя: какая теперь из Ольги работница, пока не успокоится?
– Знаешь, кто сплетню пустил?
– Корбут. Он давно ко мне липнет.
Я встал из-за стола, подошел, протянул ей чистый носовой платок.
– Вытри глаза. Вины тут твоей нету? Нету. Значит, голову держи высоко поднятой. Ступай, все уладим.
Она улыбнулась сквозь слезы, вышла.
Пришлось мне вызывать Корбута. Этот у меня ни разу не улыбнулся. Заканчивая разговор, я сказал ему:
– Я раньше думал, Корбут, что ты просто крикун. А оказывается, ты еще и подлый человек. За что ты девушку грязью обливаешь? И думаешь, мы это тебе позволим? Так прищемим язык, что на всю жизнь запомнишь…
Пришлось об этом поговорить на собрании.
Больше мне Ольга Василевская не жаловалась на сплетни.
Вскоре мы выдали Ольгу замуж за Федора Юрчика, нашего секретаря-статистика. Для таких, как он, Советская власть была настоящей матерью. С детства его, сироту, опекал сельсовет, мальчонка имел кусок хлеба. Потом он пас стадо. А у нас при политотделе уже руководил комсомольским активом, закончив к тому времени школу-семилетку.
Молодожены зажили своим домиком.
В 1937 году повисла над Ольгиной семьей беда: отца ее, работавшего в Старобине заведующим столовой, арестовали якобы как врага народа. Протянули руки и за дочкой. Конечно, мы не могли без боя отдать Ольгу: какой же я после этого был бы коммунист? Я выступил в ее защиту и сумел убедить райком, что «дочь за отца не ответчица».
…Вспоминается и такой случай.
Работал в Кулаках бригадиром тракторной бригады Владимир Баранчик. Дельный был мужик, энергичный, со смекалкой. Одна беда: любил выпить. А когда человек выезжает в поле с похмелья, какой из него толк? Да и трактористам пример дурной. Несколько раз вызывал я его к себе в кабинет, пытался усовестить. Даст слово – и не сдержит. Рисовали на него карикатуры в стенной газете – не помогает, да и все.
И вот вижу, приходит к нам на усадьбу жена Баранчика. Заморозки стояли, полевые работы закончились, и трактористы занимались ремонтом машин. Нашла мужа, о чем-то говорит, Владимир мнется, отрицательно качает головой, и оба поглядывают на мое окно в конторе.
«Что-то, – думаю, – у них серьезное. Похоже, что ко мне хотят обратиться, да не решаются».
Вышел из конторы, будто по делам. Потолковал со старшим механиком и, как бы между прочим, спрашиваю жену Баранчика:
– Проведать своего пришла?
– Делать дома ей нечего, – буркнул Владимир. Сам покраснел. Смотрю, вполне трезвый.
– Хоть бы ты свой язык поганый откусил, – в сердцах бросила жена Баранчика, и вижу, на глазах слезы.
Выяснилось, что бригадир мой задумал строиться, но не может лес перевезти на участок: не на чем. Жена настаивала, чтобы он попросил у меня транспорт; Владимир же стеснялся, боясь отказа.
– Помогать ему действительно не за что, – сурово сказал я. – Не заслужил.
Стоит мой бригадир весь багровый. Ремонтники собрались вокруг, а мужик-то он был самолюбивый, гордый.
– Хоть бы о детях, ирод, подумал, – с отчаянием сказала жена. – Так и жить нам в развалюхе! Горе ты мое горькое! «Как же поступить? – думал между тем я. – И семью жалко. И в то же время как бы не уверовал человек в свою безнаказанность, если сейчас поможем».
– Насчет своей пьянки подумай, – сказал я Баранчику. – Время у тебя есть. Завтра зайди утром в контору, на денек выделят трехтонку.
«Ну-ка, – решил я, – попробуем тебя еще одним лекарством полечить. Доверием. Заботой».
Повернулся и пошел к себе.
Вероятно, Баранчик не ожидал этого и в самом деле задумался. Занялся стройкой дома. Меньше стал пить. Так что мы убили двух зайцев: и не потеряли ценного работника, и вернули мир в его семью.
Вот еще случай. Был у нас тракторист Павел Гапанович из соседнего поселка Жабина. Он первым, еще при Гаке, получил «фордзон-путиловец», всегда давал высокую выработку и вообще отличался старательностью. Любил книгу, был активным селькором, помещал стихи в стенгазете. Не однажды получал премии.
Как передовика производства, я послал его на курсы бригадиров в Кричев. По возвращении Павел очень старательно взялся за работу. На собраниях, на производственных летучках мы ставили его в пример. Вот, мол, какого хорошего механизатора воспитали.
И вдруг Гапанович скис, притих и стал проситься, чтобы я освободил его от бригадирства и перевел обратно на трактор.
«Что стряслось? – думаю. – Откуда такие настроения?»
Стал расспрашивать. Гляжу, Гапанович лезет в карман и вынимает мне затрепанное, пожелтевшее письмо:
– От родного отца из Америки.
Выяснилось, что еще до первой мировой войны отец двухлетнего Павла уехал в Соединенные Штаты на заработки. Там его и застала революция. В письме отец сообщал, что он в числе многих эмигрантов из России поднял свой голос в поддержку Советской власти, за что вместе с другими был выслан на «остров Слез».
Маленький Павел вырос без отца, парнем вступил в колхоз, стал на ноги. И вот теперь, когда все чаще стали поговаривать о врагах народа, кто-то узнал про то старое письмо и обозвал Павла «прислужником мирового капитала». Он и решил уйти с поста бригадира.
– Вы как директор, Василий Иванович, с кого спросите? С меня. А я что должен? Спросить с тракториста. Должен при необходимости и нажимать. Не все же у нас в эмтээсе сознательные? Есть крикуны, вроде Кудрявца, а есть которые похуже. Обидится и… напишет заявление с клеветой. Так лучше я сам сяду за баранку как рядовой; уж я-то выработку всегда покажу высокую.
– Не дело ты говоришь, Павел. Конечно, хороший тракторист – находка для эмтээс. А хороший бригадир – вдвойне. Как же я могу тебя освободить? Не сомневайся, по-прежнему твердо руководи хлопцами. А о твоем письме я передам своему заместителю по политчасти, и в случае нужды мы тебя всегда поддержим.
Успокоил я его. На прощанье сказал:
– Мы тебе вполне доверяем. И даже хотим выдвинуть на другую работу… как опытного бригадира. Преподавать на курсах трактористов.
За работу после этого Гапанович взялся еще усерднее.
Вот еще случай.
Я уже, кажется, упоминал, что шофером у меня работал Николай Клочков. Парень он был видный, носил брюки навыпуск, ботинки и даже галстук – в МТС дело редкостное. Все местные девушки старались ему понравиться. Роста высокого, с каштановыми волосами, великолепно играл на гитаре, танцевал, с успехом участвовал в постановках самодеятельности. Гулял он с учительницами, с медсестрами из больницы. Держался с достоинством, знал себе цену: отлично водил нашу старенькую, допотопную машину.
Николая очень любили дети, он был их душой. За то, чтобы подержаться за крыло машины, «бибикнуть» разок клаксоном, они готовы были всю ее вымыть до блеска. Николай часто катал их по деревне.
Как-то новый замполит Швайко и я поехали в Слуцк и там задержались. Обедали поздно, с такими же, как и сами, приезжими «командировочными». В сутолоке, за делами совсем забыли о Николае Клочкове и не пригласили его с собой в столовую. Вспомнили об этом, лишь когда выехали за город. От Слуцка до Старобина недалеко, километров тридцать, и это нас успокоило: «Ладно. Дома Николай заправится».
Об этом случае все забыли, кроме самого Клочкова.
Вскоре «верхушке нашей МТС» вновь пришлось выехать: теперь всего за десяток километров – в Старобин на заседание райисполкома. Пока заседали, решали разные вопросы, хлынул обложной ливень. Погода и без того стояла дождливая, а тут совсем развезло. Смотрю я в окно и думаю: «Эка не вовремя. Лен убирать надо. Не зря в народе говорят: «Льет не когда просят, а когда косят. Не когда ждут, а когда жнут»».
Возвращались поздно. Николай ловко рулил между налитыми колдобинами, топкими местами. На середине пути машина вдруг зачихала, задергалась, а потом и совсем остановилась.
– Будем загорать, – с досадой сказал Швайко.
Свою машину мы называли «инвалидка» – так часто она ломалась, «хромала». Была она старой заграничной марки, – кажется, «Бенц», не помню точно, – с тонкими, будто у велосипеда, колесами. Николаю очень часто приходилось ее ремонтировать. Делал он это безропотно и мастерски. Бывало, ночь не поспит, а уж машина всегда в порядке.
Он и тут вылез из кабины, с час возился с мотором, а затем заявил:
– Дальше машина не пойдет. До утра, наверно, возиться придется.
– Вот это поужинали вовремя! – сказал я.
– И отоспались в дождик!
Поворчали мы, поворчали, да что поделаешь? Подобрали полы пальто, шинелей и пошлепали по грязи домой. Темнотища, идти лесом, а до Кулаков без малого шесть километров. Добрались поздно. Пока жена накрывала на стол, я вызвал механика и наказал поехать и помочь Николаю. После ужина хотел позаниматься, но так устал, что изменил своим обычаям и лег спать.