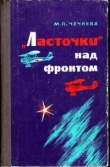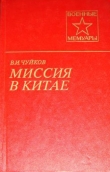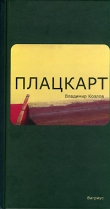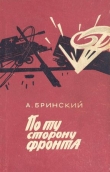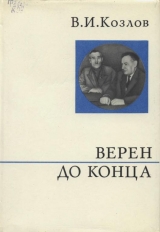
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Минскому обкому было приказано выехать в район Березино, а меня со специальным заданием направили в Быхов.
В Быхове я встретился с группой работников ЦК ВКП(б), которую возглавлял ответственный работник орготдела ЦК Григорий Мефодиевич Бойкачев. В свое время он работал редактором газеты «Советская Белоруссия», был секретарем ЦК КП(б)Б по кадрам. Вместе с ним приехало еще несколько ответственных работников ЦК, в том числе Семен Степанович Игаев, ранее также работавший в нашей республике секретарем обкома партии.
По поручению ЦК ВКП(б) они еще 25 июня в Могилеве подробно рассказали руководящим работникам ЦК КП(б)Б и Совнаркома Белоруссии о директивах и практических советах ЦК ВКП(б) в связи с перестройкой работы на военный лад и организацией партийного подполья и партизанского движения. Мне было сказано, что я остаюсь в тылу в качестве секретаря Минского подпольного обкома КП(б)Б.
После этой встречи они сразу же поехали в прифронтовые районы республики для помощи местным партийным органам в осуществлении директив ЦК.
Встреча с Бойкачевым, моим товарищем по юности и совместной работе на Гомельщине и в Минске, его подробный рассказ о рекомендациях ЦК в то грозное и тяжелое время принесли нам неоценимую пользу. Этих указаний мы неуклонно придерживались, вплоть до установления регулярной связи подпольного обкома с Москвой.
В Березино я приехал почти на неделю позже, чем туда приехал обком партии. Здесь уже шли бои, наши части самоотверженно сдерживали врага. Неколебимо стояли отряды, сформированные из работников НКВД. Командовал этими отрядами Артем Евгеньевич Василевский, начальник Минского областного управления НКВД. Боевую группу пограничников возглавлял Богданов. Здесь же находились наши артиллерийские и танковые части. Эти боевые группы ценою больших жертв задержали врага и дали возможность нашим основным силам переправиться через Березину.
Я не сразу нашел своих минчан. Кроме секретарей обкома и работников аппарата в поселке собралось много служащих облисполкома и других областных организаций. Мы сразу же включились в военную работу: строили укрепления, организовывали самооборону, обеспечивали войска транспортом, боеприпасами, продуктами.
И вот наступило памятное утро 3 июля. Наши части переправлялись через реку и на левом берегу сооружали оборонительные укрепления. Вражеская авиация беспрерывно налетала на переправы, на земле, казалось, живого места не было. Все вокруг гудело, дрожало от взрывов. И вдруг в городском поселке Березино из пробитого пулей рупора, висевшего на телеграфном столбе, послышался голос. Все, кто был поблизости, притихли. Голос был всем знакомый – говорил Сталин. Но как могло заработать радио? Местных жителей в поселке как будто нигде не было видно, а у бойцов вряд ли было время для исправления аппаратуры в радиоузле. И все-таки чья-то заботливая рука сделала это. Человек этот рисковал жизнью. В поселке не было клочка земли, на котором не разрывались бы вражеские бомбы и снаряды. Радиоузел стоял на главной улице, и снаряды ложились здесь плотно один возле другого. Но тот, кто наладил работу радиоузла, видимо, не обращал внимания на разрывы снарядов, на приближение врага. Ему хотелось, чтобы здесь, на этом ответственнейшем участке фронта, услышали голос Москвы. Он чувствовал душой и сердцем, что будет значить этот голос для наших воинов и всех, кто находился в поселке.
Вокруг рупора собирались люди – военные и штатские. Осторожно подходили, ложились где-нибудь под деревом или возле стены и жадно ловили каждое слово. Над головой гудели бомбардировщики. На реке часто разрывались снаряды, поднимая темные столбы песка и воды. Но люди слышали только слова из репродуктора, никто не обращал внимания на смертоносный грохот.
Я прилег у бугорка, поросшего густой травой. Над головой изредка посвистывали пули, но я не мог покинуть это место, пока из рупора доносился голос родной Москвы. Через минуту я начал подползать ближе к рупору и встретился глазами с незнакомым мне худощавым человеком. Он красноречивым взглядом посмотрел на меня и продолжал слушать, буквально впитывая каждое слово.
Справа и слева от нас стремительно перебегали бойцы последней заставы. Они с разгона падали на землю – в борозду или в густую зелень неполотых огородов – и, передохнув минуту, бежали к реке.
– Танки фашистские, – сказал стрелок, прилегший рядом с нами. – Надо скорей переправиться.
Его слова почему-то не вызвали страха ни у меня, ни у моего соседа. Только сознание суровой необходимости заставило нас покинуть свои места. Оставалась, возможно, последняя минута, и надо было спешить.
– Все силы народа – на разгром врага! – донеслись слова из рупора.
Вслед за стрелком мы добежали до прибрежного лозняка.
Стрелок уже собирался броситься вплавь, как человек, который вместе со мной слушал радио, раздвинул молодую поросль и тоже ступил на песок.
– Пойдемте со мной! – тоном приказания проговорил он и посмотрел сначала на бойца, потом на меня. – Нечего лезть в воду с винтовкой и патронами, тут у меня где-то должна быть лодчонка… Правда, она на одного человека рассчитана, но то в мирное время, а теперь переедете и вдвоем, река наша добрая и ласковая для своих людей.
– А вы разве не с нами? – удивленно спросил боец.
– Я-то, известно, с вами, – усмехнувшись, ответил человек, – но пока что останусь здесь. Останусь, погляжу на него, проклятого, посмотрю, насколько он изменился с восемнадцатого года и какой величины дубина нужна, чтобы бить его.
Я крепко пожал руку моему случайному соседу и на прощание сказал:
– Поверьте моему слову: мы тоже далеко отсюда не уйдем, мы будем с вами!
В первой половине июля 1941 года в области оставались частично не оккупированными лишь Старобинский, Любанский и Стародорожский районы.
Через несколько дней по решению ЦК мы переехали сперва в Мозырь, а потом – в полесскую часть своей области, откуда должны были осуществлять руководство районами.
Из Мозыря я связался по телефону с секретарями ЦК КП(б)Б. Они подробно расспрашивали, как мы подготовлены для работы в подполье, как чувствуем себя, и подтвердили данные ранее указания.
– Желаем вам счастья и успехов, – сказали на прощание товарищи. – Центральный Комитет Коммунистической партии поручает вам выполнение очень ответственной задачи. Помните, что каждый ваш шаг должен быть всесторонне и глубоко продуман.
Мы выехали в районы. Кроме секретарей обкома с нами поехали Роман Наумович Мачульский, Алексей Георгиевич Бондарь и секретарь Слуцкого райкома партии Александра Игнатьевна Степанова. Мы пока что передвигались на машинах, а потом, когда это стало невозможным, пошли пешком. Все стремились скорее прибыть на место. Обстановка менялась ежеминутно. Там, где сегодня не было врага, завтра он мог быть. Мы не имели права медлить: чем быстрее начнем подпольную работу, тем больше шансов на успех.
Взяли направление на Калинковичи. Дальше через Азаричи предполагали пробраться глухими, не занятыми врагом проселками в Октябрьский и Любанский районы.
Навстречу нам двигались войска и техника – проехать было нелегко. Но шофер Войтик проявлял чудеса мастерства. Он петлял между встречными машинами и подводами на предельной скорости. Со мной ехали Мачульский, Бондарь и Степанова.
– Ты, я вижу, хочешь переломать нам кости! – пошутил я.
Другая машина не отставала от нас. В ней были Варвашеня, Брагин, Бельский, Свинцов и Бастун.
На окраине Калинковичей остановились, чтобы разузнать дорогу. Машины загнали в вишняк, а сами вышли, прилегли на траве и закурили. Я рассчитывал найти кого-нибудь из районных работников, посоветоваться и, может быть, взять проводника.
На низком пеньке недавно спиленной вишни сидел старик и хмуро поглядывал на большак. Ему было лет под семьдесят. Из-под рыжей, выгоревшей на солнце кепки на тонкую жилистую шею свисали пряди седых волос.
Почуяв дымок от наших папирос, старик подсел ближе к нам, вынул трубку, а потом уж поздоровался. Вид у него был спокойный, даже как будто ко всему безразличный. Можно было подумать, что его не интересовало, кто мы, откуда и куда едем. Вишняк был во многих местах поломан, трава примята – видно, не проходило и часу без того, чтобы здесь не останавливались машины.
– Нет ли у вас огонька, товарищи начальники? – ровным, независимым голосом спросил старик.
На слове «начальники» он намеренно сделал ударение.
Бондарь вынул спички, придвинулся ближе к старику, чтобы дать прикурить, и увидел, что в трубке нет табака. Это его рассмешило. Забавно было, что старик так по-ребячьи схитрил.
– Что ж ты, отец, пустую трубку подсовываешь? – сквозь смех спросил Алексей Георгиевич.
– А я табак не ношу с собой! – беззаботно ответил старик. – Все ваш брат угощает, идет тут и идет, днем и ночью… Мой вишняк, а ваша махорка…
Бондарь насыпал ему в трубку табаку и дал прикурить. Старик с нескрываемым удовольствием затянулся, а потом закашлялся.
– Ничего себе, крепкая! – похвалил он. – Эта, пожалуй, будет крепче той, что я давеча курил.
Старик помолчал, еще раз затянулся и, пуская из-под усов дым, промолвил:
– Едете, значит. Подаетесь…
– Да, едем, – в тон старику ответил я.
– И значки уж, выходит, повыковыривали…
– У нас не было значков, мы не военные.
– Не военные? А какие же вы?
– Мы люди здешние, – сказал я.
– Здешние?.. – как бы про себя повторил он. Через некоторое время произнес еще раз: – Здешние… – И вдруг, волнуясь, с обидой в голосе сказал: – А подаетесь небось туда, – он показал рукой на восток.
– Нет, мы едем туда, – возразил я и показал на запад.
Старик был озадачен.
– Куда это «туда», к фашистам?! Там же фашисты!
– Мы знаем, что там фашисты, – сказал Мачульский. – Вот и будем бить врага в спину.
Старик улыбнулся, удовлетворенный нашим ответом. Я подумал, что такое известие вызовет у него уважение к незнакомым собеседникам. Однако вскоре дед снова начал не без ехидства посмеиваться и подтрунивать над нами.
– В тыл, значит?.. – не спеша оглядывая нас, говорил он. – Знаю, что такое тыл у врага, испытал когда-то. Еще вместе с Талашом воевали… Только ходили мы тогда пешком, автомобиля у нас не было. Неужели партизанить на машине собираетесь? Машина засядет в болоте, так неприятно будет вылезать в таких сапожках. – Он показал трубкой, зажатой в руке, на начищенные сапоги Свинцова.
Мы посмеялись, но каждый из нас понимал, что в словах старика много правды, и нам надобно бы сделать вывод из метких замечаний бывшего партизана. И в самом деле, что у нас за одежда? Я в чем работал в обкоме, в том и поехал. В такие же полувоенные костюмы защитного цвета были одеты и мои товарищи. Для подполья такая одежда явно не подходила. Но где взять другую?
На наше счастье, в Калинковичах мы встретили знакомого директора леспромхоза. У него на складе оказалось несколько комплектов спецовок для лесорубов. Вскоре в машинах сидели уже не руководящие областные работники, а «обыкновенные лесорубы».
Надо было как можно скорее пробираться поглубже в тыл. Конечно, в этом было немало риска, но я был уверен, что мы проскочим.
Подробно расспросив, как лучше проехать, двинулись в Октябрьский район. Ехали с большой осторожностью. Жители придорожных деревень ручались только за свою деревню и редко за соседнюю. Немецких войск, может быть, и не было близко, но люди были сбиты с толку вражескими парашютистами.
Нам удалось узнать, что в центр Октябрьского района, в Карпиловку, вчера наведывались вражеские мотоциклисты. Это означало, что враг где-то близко, что надо быть еще более осторожными. Решили остановиться в деревне, расположенной возле леса, и узнать, что происходит в районном центре. Пошли к людям, начали расспрашивать. Те говорили разное. Одни – что фашисты уже в Карпиловке, другие – что только разведка туда заглядывала, а третьи – что никто фашиста там и в глаза не видел.
Надо было нащупывать дорогу самим. Хотелось до Карпиловки добраться как можно скорее, медлить в такое время было бы преступно. Все соглашались, за исключением Свинцова и Бастуна. Эти двое заняли какую-то уклончивую позицию. Чувствовалось, что они боятся ехать дальше, но сказать об этом открыто не решаются. Начали вдруг рассуждать об излишней рискованности и нереальности наших планов.
– Вы боитесь? – спросил я напрямик.
Свинцов изменился в лице, руки у него задрожали. Некоторое время он молчал, потом, переглянувшись с Бастуном, сказал:
– Хоть и не боимся, а дальше не поедем. Останемся здесь, осмотримся, разузнаем и тогда решим, что делать.
Мы напомнили им о партийной ответственности, об обязанностях коммуниста и руководящего работника. Однако же нам стало ясно, что эти люди будут не только нам в обузу, но и во вред, и мы решили исключить их из нашей подпольной группы.
Наше решение их не очень тронуло. И мы еще раз убедились, что поступили правильно.
Этот прискорбный факт напомнил, что в условиях подполья мы должны особенно внимательно приглядываться к людям и лучше подбирать кадры.
Мы были уверены, что, как только доберемся до своих районов, найдем там людей хороших, честных, настоящих патриотов, которые будут самоотверженно бороться с фашистскими захватчиками.
В Карпиловку приехали уже без Свинцова и Бастуна. Гитлеровцев здесь не было. Поблизости, на железнодорожной ветке, стояли бронепоезда и сдерживали вражескую группировку, которая пыталась прорваться на Домановичи. Наши пехотные части вели бои. Положение бойцов было тяжелым. Силы были неравные, боеприпасы кончались, но люди воевали до последнего патрона.
Я зашел в райком. Здесь был только уполномоченный Полесского обкома партии второй секретарь обкома Федор Михайлович Языкович. Увидев меня, он удивился и очень обрадовался.
– Как ты сюда попал? – тормоша меня за плечи, спрашивал он.
– А ты зачем здесь? – перебил я его встречным вопросом.
Языкович коротко поведал о своих военных делах. Он приехал сюда по заданию обкома. Возводил укрепления, организовывал самооборону, а теперь занялся ранеными и не может оставить их, хотя два дня назад получил распоряжение вернуться в Мозырь.
– А где же Тихон Бумажков? – спросил я.
– Где-то там, – ответил Языкович и показал в сторону, откуда доносились частые, сотрясавшие землю разрывы. – Его давно здесь нет. Еще когда немцы подходили, он закрыл свой кабинет. С тех пор и не показывается. Командует истребительным батальоном. Вчера он и заместитель председателя райисполкома Павловский сожгли пятнадцать вражеских танков.
Тихона Бумажкова, первого секретаря Октябрьского райкома партии, я знал давно. На встречу с ним я возлагал большие надежды. Бумажков, как местный житель и хорошо осведомленный человек, безусловно, помог бы нам. Но он включился в дело, и отрывать его не было смысла. В душе мы только порадовались, что наши истребительные отряды, теперь уже партизанские, так героически борются с лютым врагом.
Я попросил Языковича дать нам провожатого. Глусск был занят врагом, и на Любань надо было пробираться самыми глухими дорогами. Языкович рекомендовал в проводники заведующего столовой райпотребсоюза, уроженца тех мест, куда мы ехали. Провожатый не только подробно обрисовал нам обстановку, но еще и накормил всех горячим обедом. Войтик так остался доволен обедом, что готов был целые сутки возить провожатого.
До деревни Заболотье Октябрьского района нас «сопровождал» фашистский истребитель. Он как насел на нас в начале дороги, так и не давал покоя до самой деревни.
Уже вечерело, когда мы въезжали в Заболотье. Деревня большая – не видно конца ровной широкой улицы. Печальным запустением веяло от нее, и это было так необычно! Бывало, заедешь в белорусскую деревню в эту пору – и сердце радуется! Конец летнего трудового дня всегда сопровождался веселыми песнями девчат, говором и шутками идущих с работы колхозников, грохотом машин, ржанием лошадей. И это сразу вводило тебя в живой, светлый, родной мир, кажется, прижился бы здесь и считал бы великим счастьем завтра чуть свет выйти вместе с колхозниками в поле.
А сейчас тихо и безлюдно на деревенской улице…
Прошло несколько минут. Вот показался мальчик лет десяти. Он долго раздумывал, прежде чем подойти к машинам, но любопытство взяло верх.
– Подойди, сынок, не бойся, – сказала Степанова.
Мальчик сразу отозвался на материнскую ласку в ее голосе. В его живых голубых глазах засветилась улыбка, и он смело подошел к нам.
– Как же тебя зовут, браток? – спросил Бондарь.
– Ляксей, – потянув носом, ответил мальчик.
– А, тезка, – засмеялся Алексей Георгиевич. – Будем знакомы, меня тоже зовут Алексеем. А сколько тебе лет?
– На троицу пошел одиннадцатый, – спокойно, доверчиво ответил мальчик.
– В школу ходишь?
– Ходил, а теперь говорят, будто нашу школу закроют, потому что везде фашисты.
Мы вышли из машин и сели на скамейку у забора.
– А скажи, Алексей, – продолжал я разговор, – у вас фашисты были уже или нет?
– Вчера были, – ответил мальчик. – На мотоциклах приезжали. Крутились по улице часа два, кур ловили, искали чего-то. Один как шлепнется с чердака, голову до крови разбил. Забрали кур и куда-то уехали.
– А отец твой дома?
– Нет, нету, пошел в Красную Армию.
– Кто же у вас дома?
– Дед, я да мать.
– Сходи-ка позови своего деда, скажи, что из Мозыря дяденьки приехали, хотят с ним поговорить.
– А что, в Мозыре тоже фашисты?
– Нет, там наши части.
– А кто вы такие? Дед, может, меня спросит, какие такие дяденьки.
Мы ответили, и тут кстати вспомнили, что в машине у нас было немного конфет. Шофер дал мальчику несколько штук, и он побежал. И сейчас же возле машины появились мальчишки. Дали гостинцев и им. Было ясно, что вслед за детворой придут старшие – мальчишки служили разведкой для них. В это тревожное время люди по вечерам не показывались на улице – сидели по хатам.
Через некоторое время к нам подошли несколько стариков и женщин. Они поняли, что мы люди свои, и начали разговаривать. О посещении деревни гитлеровцами они рассказывали совсем не так, как маленький Алексей. По словам Алексея, мотоциклисты только покрутились по улице и, поохотившись на кур, скрылись восвояси. А на самом деле они жестоко допрашивали крестьян, угрожали им расстрелом, если они не выдадут коммунистов, сельских активистов и попавших в окружение красноармейцев, которые, может быть, прячутся в деревне. Ничего не добившись, гитлеровцы забрали с колхозной птицефермы всех кур и уехали.
Мы попросили позвать председателя сельсовета или кого-нибудь из местного актива. Несколько замявшись, крестьяне ответили, что председатель сельсовета у них есть, только они не знают, где он, ничего не известно им и об активистах. Вот разве только доктор. Он инвалид, воевать идти не может, от врага не прячется и, как раньше, сидит в своей больнице, лечит больных.
Одна из женщин вызвалась сходить за доктором.
Это был еще не старый, высокий худощавый человек, хромой на левую ногу. Он поздоровался и назвал свою фамилию – Крук. В разговор вступил охотно, но только после того, как узнал, кто мы. На вопросы отвечал с достоинством, уверенно, без растерянности. Было видно, что ему можно довериться. Из разговора выяснилось, что доктор Крук родом из Руденского района и очень беспокоится за судьбу своих близких, которые там остались.
Мы поручили ему собрать коммунистов, комсомольцев и деревенский актив. Вскоре пришли председатель сельсовета Русаков, председатель колхоза Пакуш, ветеринарный врач Левкович. Пока не подошли остальные, мы завязали с ними разговор. Интересно было знать, что они думают, как намереваются поступать в будущем.
Из беседы выяснилось, что люди здесь не сидят сложа руки. В Заболотье создана партизанская группа из семи человек под командованием Русакова и Пакуша. Группа готова к действию, только оружия маловато и нет ясности, конкретности в планах.
Народ все подходил и подходил. Когда собралось человек сорок, мы рассказали о выступлении Сталина, о решении ЦК КП(б) о развертывании партизанского движения в Белоруссии. Это вызвало огромный интерес, но мы заметили, что собравшиеся вроде не удовлетворены чем-то, будто ждут от нас чего-то еще.
Из толпы раздался взволнованный голос:
– Может, у вас эта газета есть?
– Есть, – ответил я, – да темно уже, нельзя прочитать.
– Так хоть покажите ее!
Я вынул «Правду». Несколько рук бережно подхватили газету, все задвигались, плотнее сгрудились вокруг нас и почему-то начали говорить шепотом.
– Портрет Сталина!.. – взволнованно прошептала одна из женщин.
– Покажи, дай сюда… Прочитать бы!
И вдруг кто-то громко предложил:
– Чего тут шептаться! Пошли в сельсовет, зажжем огонь и почитаем!
И человек решительно зашагал по улице, а за ним двинулась вся толпа.
Пошли в сельсовет и мы. У ворот остановились: пусть люди зажгут огонь, разместятся.
Вдруг из соседнего двора выскочили четверо вооруженных и быстро направились к входу в сельсовет. Двое стали возле сельсовета на улице, а двое пропали где-то в вишняке, с другой стороны дома.
Когда мы входила в помещение, один из вооруженных, стоявший ближе к нам, вытянулся и приветствовал нас по-военному.
– Ночная охрана, – объяснил он Мачульскому, когда тот остановился.
– Это хорошо, – ответил Роман Наумович, – только на виду стоять вам незачем!
В помещении вокруг стола столпились люди.
– Дай-ка сюда, дай сюда, – к столу протиснулся Апанас Морозов, дед Алексея.
Это был колхозный садовод и огородник, не по годам живой, энергичный старик. Он на ходу достал из-за пазухи очки в тонкой железной оправе и протянул руку к газете. Нацепив очки, долго, словно не веря своим глазам, разглядывал полосу, портрет Сталина.
Газету решили читать с начала до конца. Старик передал ее молодому, чисто одетому человеку: это был учитель Анатолий Жулега.
– Можно, товарищ? – спросил он меня.
– Читайте, – ответил я.
И учитель начал читать.
Люди расселись на скамьях, стульях, а некоторые прямо на полу. Установилась тишина, только голос учителя звучал ровно и выразительно.
Закончив чтение, учитель стал бережно свертывать газету. Было похоже на то, что он не собирается возвращать этот номер «Правды».
– Ведь это и есть наша программа! – горячо зашептал мне в ухо председатель сельсовета. – Теперь ясно, за что браться, к чему руки приложить.
Через полчаса Жулега поехал разведывать для нас дорогу в совхоз «Жалы» и на Любань. Русаков, Крук, Пакуш и несколько комсомольцев уселись за стол и при свете лампы принялись переписывать материалы газеты. С нашего разрешения они разрезали текст на несколько частей и разделили его между переписчиками. Коммунисты правильно решили, что распространение и популяризация призыва партии – самый верный шаг к развертыванию партизанского движения.
И действительно, вскоре повсюду возникли подпольные патриотические группы. Они принимали по радио сводки Совинформбюро, переписывали их в десятках экземпляров и распространяли среди населения.
Приведу один пример. Заведующий Задомлянской начальной школой Смолевичского района Александр Мрочик организовал в своей деревне подпольную патриотическую группу. Он установил радиоприемник в заброшенном колодце, каждый день слушал Москву и принимал сводки с фронта. Все сообщения и новости передавал народу.
В начале августа сорок первого года провокатор донес гитлеровцам на Мрочика. Ночью гестаповцы схватили его. Допрос шел больше недели. Мрочика пытали, угрожали расправой с женой, детьми, родственниками. Ни слова не сказал фашистам мужественный советский человек. Гитлеровские разбойники, ничего не добившись, расстреляли Александра Мрочика в деревне Рудня Прилепского сельского Совета.
В ответ на зверства фашистов в Прилепском сельсовете патриоты организовали более десятка подпольных групп, создали организацию, которой руководила Олимпиада Бондарчик. Таких фактов в городах и селах Белоруссии было много.
…В ту ночь мы в Любань так и не выехали, дожидались возвращения Жулеги. Перед рассветом он подъехал к сельсовету. Добрый колхозный конь был весь в пене. Жулега рассказал, что проехал он до деревни Загалье Любанского района. Дорога свободна.
Мы вышли на улицу. У ворот стоял тот же часовой, что и вчера.
– Что ж ты не сменил парня? – спросил Мачульский Русакова.
– Ничего, – усмехаясь, ответил председатель, – этот вытянет.
– Что, в армии был?
– Нет, он призывник, не успел мобилизоваться.
Мне было грустно расставаться с этими славными людьми. Если бы перед нами не стояла задача организации широкого партийного подполья в каждом районе, можно остаться бы в Заболотье и отсюда развертывать партизанское движение. Но надо было ехать в Загалье. На нашем пути это была одна из первых крупных деревень Любанского района. В Загалье у меня были надежные люди: председатель сельсовета Степан Корнеев и председатель колхоза Григорий Плышевский.
Плышевского дома не застали, а Корнеева случайно встретил на улице Мачульский. Я был недалеко от них и услышал их странный разговор.
– Фашисты были у вас? – спрашивал Мачульский.
– Кто-то был, – с простоватым, безразличным видом ответил Корнеев.
– И вы не разобрали кто?
– Не разобрал, ей-богу. Я на гумне как раз находился… Проехали по улице в железных касках, а кто – не узнал, пусть себе едут.
– Вот здорово! – удивился Мачульский. – Вам, значит, все равно, кто проехал – наши или чужие? Тут что-то не то… Видно, притворяешься ты, человече.
Корнеев засмеялся, и нельзя было понять, что означал его смех.
– А где же ваш дом? – переменил тему беседы Роман Наумович.
– Далеко отсюда, – махнул Корнеев рукой. – В самом конце деревни. Вон, видите, молодая березка стоит. Она в моем огороде растет.
– Колхозник?
– А как же. Пастух колхозный. Овечек пас, пока были, а теперь вот скитаюсь. Овечек за Птичь люди погнали.
– Почему же не вы?
– Нашлось много охотников.
– Ну, а вам в армию надо бы идти, – окинув «пастуха» испытующим взглядом, сказал Мачульский.
– Что вы, това… гражданин, что вы говорите про армию? Я ж белобилетник. Рука у меня больная, и правый глаз почти не видит, испорчен с малолетства… Вот отойдете вы на пять шагов, я уже и не узнаю… По вечерам с палкой хожу, хоть и молодой еще.
Я понимал, что Корнеев проверяет себя в роли подпольщика, но все у него выходило как-то нескладно, примитивно. Мне надоело слушать эти неудачные упражнения, и, не дождавшись, пока Мачульский сам во всем разберется, я вышел со двора.
– Здорово, Корнеев! – поздоровался я и пожал его руку. – Конспирация не такое легкое дело, как тебе кажется… Молодую березку в конце деревни видишь, а уверяешь, что человека за пять шагов не можешь узнать.
Корнеев смутился. А я подумал: если бы теперь мне так же пришлось придумывать, может быть, еще хуже получилось бы. Мы, например, всем присвоили клички, но попробовали бы любого из нас назвать по кличке, никто и ухом не повел бы.
– Добрый день, товарищ Козлов, – все еще растерянно заговорил Корнеев. – Значит, это вы приехали на машине. А я услыхал и решил пойти посмотреть, что за люди, откуда они. Такое время, что не знаешь, кого и ожидать: не успели наши выехать с одного конца улицы, фашисты въехали с другого. Фашисты уехали, снова откуда-то наши появились. А может, и не наши, кто их тут разберет.
– Ну, это наш, – показал я на Мачульского. – Можешь от него не таиться.
Мы отошли в укромное место.
– Оружие есть? – спросил я.
Корнеев озабоченно покачал головой.
– Есть, да не то, что надо: двустволки, берданки…
– Так надо искать, добывать.
– Ищем, – энергично подхватил Корнеев. – Вчера возле самого Слуцка побывали. Недавно на дороге подбитый грузовик подобрали. Повозились, отремонтировали, теперь ездим, куда надо. Осмотрели мастерские под Уречьем. Добыли двенадцать винтовок, части от пулемета. Думаем в своей кузнице ремонтировать, специалисты у нас есть.
– А машину надо было сдать нашим, – посоветовал я. – На фронте она больше пригодится!
– Хотели сдать, – продолжал Корнеев, – да выходит, что и здесь ей работы хватает. Вот ездили за оружием, а недавно ночью двенадцать наших командиров из окружения вывезли… Напрямик махнули, под самые Копаткевичи. Раненых бойцов тоже вывезли. Я говорил Плышевскому: давай сядем и сами проскочим к своим. Хоть мы не строевые оба, но, может, возьмут… Хотя, кто его знает, где теперь наше место и где мы больше нужны.
– Здесь! – твердо ответил я. – Оставайтесь, и будем действовать вместе. Теперь нельзя тратить зря ни одной минуты, надо организовывать народ на борьбу с врагом.
Мы провели беседу с активом и вскоре двинулись в совхоз «Жалы». Это было заранее намеченное удобное место для нашей длительной остановки.
Вот и «Жалы»! Совсем недавно я был здесь, ходил по полям, говорил с рабочими. Люди гордились своими успехами, а мне приятно было смотреть на них и на все вокруг. Кто мог подумать тогда, что через какие-нибудь две недели я снова приеду сюда, но уже совсем при других обстоятельствах!
Теперь тут все изменилось. На полях стояла высокая, колосистая рожь, но она никого не радовала. Опустевшие постройки казались заброшенными и никому не нужными. Куда ни глянь – уныние, запустение, как будто и солнце перестало светить.
Все это сжимало сердце тоской и болью. Ведь так и в Старобине, и в деревнях возле Червонного озера, откуда я недавно уезжал с таким хорошим настроением и новыми планами на будущее. Лишь от встреч с людьми на душе становилось легче, росла уверенность, что наш народ не согнется, не смирится с положением подневольного и упорной борьбой вернет свое счастье.
Под вечер местная разведка донесла, что из Яменска на «Жалы» идет вражеская танковая часть. Пришлось на время загнать машину в болото, а самим спрятаться в ближайших зарослях.
Так началась наша партизанская жизнь.