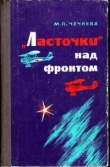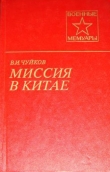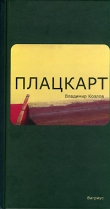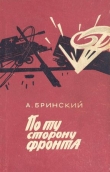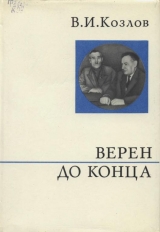
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
8
Солдат партии. – Исполнение мечты всех мечтаний. – С удостоверением комвуза. – «Моя резиденция» – колхоз «Новый быт». – Я представлен колхозникам. – Мой заместитель Ничипор Прихожий. – А ларчик просто открывался. – Разберемся спокойно.
В начале июня 1933 года я на грузовой машине выехал из Минска и покатил по Слуцкому шоссе. В кармане поношенного командирского френча у меня лежало удостоверение о том, что я окончил комвуз имени Ленина и направляюсь Центральным Комитетом Белоруссии на работу в колхоз «Новый быт» Метявичского сельсовета Старобинского района.
К этому времени моя Родина уверенно встала на новые рельсы: успешно завершалась первая пятилетка, в стране прошла коллективизация, полным ходом выполнялся грандиозный, невиданный в мире план превращения бывшей отсталой Российской империи в передовую индустриальную державу – Советский Союз. На Волге и на Амуре, на Урале у горы Магнитной и в Казахстане на озере Балхаш закладывались новые заводы, комбинаты, рудники, возводились города.
Для этих великих преобразований требовались новые люди, вооруженные марксистской идеологией, полные революционной энергии, – словом, большевики. Десятки тысяч идейно закаленных партийных работников вместе со специалистами двинулись на громадные новостройки, в деревню. И я стал одним из солдат этой великой преобразовательной армии.
Демобилизовался я еще в то время, когда у нас в стране свирепствовала безработица. Куда я сразу пошел? Конечно, в Жлобинскии райком партии. Мне помогли найти работу на железной дороге, потому что там меня хорошо помнили. Вскоре, приглядевшись, как я стараюсь, очевидно, решили, что «мужик толковый», и взяли инструктором в райисполком.
Как я расстался со своей любимой рабочей профессией? Не протестовал ли против перевода? Должен ответить прямо: у меня и мысли такой не было. Во-первых, все мои помыслы были направлены на то, как бы больше принести пользы своему государству. И во-вторых, я считал себя солдатом партии. Куда меня пошлют, значит, там мое место.
Так я стал работать в райисполкоме.
Однако вскоре выяснилось, что новая должность мне не по плечу. Старания много, а толку маловато. Сказались недостаточная грамотность, отсутствие опыта советской работы. Тем не менее руководители райкома и райисполкома не думали ставить на мне крест. Видно, оценили мою сметку, силу воли и решили, что со мной есть смысл повозиться. А знания – дело наживное. Мне предложили ехать в Минск в комвуз. Для меня возможность учиться была мечтой всех мечтаний. Я знал, что мне нелегко придется, ведь все мое образование составляла церковноприходская школа да кратковременные курсы, но я охотно вновь сел за парту – теперь студенческую.
Несколько месяцев я пробыл в специальной подготовительной группе, затем перешел на общий курс. Не скрою, учеба мне давалась с трудом, слишком скудны были первоначальные знания. Но мне здорово помогали товарищи, особенно давний дружок, бывший председатель Малевичского Совета Григорий Бойкачев (занимался он в то время уже на втором курсе). Все трудное, непонятное он всегда терпеливо мне объяснял. Жили мы с ним в одной комнате.
…Промелькнули студенческие годы, и вот теперь я ехал из Минска на работу.
Второй секретарь Старобинского райкома сказал, просмотрев мои документы:
– В «Новый быт»? Условия там замечательные, заживешь помещиком. Колхоз в бывшем имении.
– Мне бы хотелось, чтобы вы ввели меня в курс дела, – попросил я. – Нас, студентов, не раз посылали в деревню создавать колхозы, но я в них не работал. Какие «узкие места» в «Новом быте»? На что упирать?
В открытое окно была видна песчаная старобинская площадь, тополя, березы за низенькой деревянной оградой сквера. Солнце било прямо в душный, прокуренный кабинет.
– Наверно, из газет знаешь, кое-кто здорово поналомал дров в коллективизацию. «Голова от успехов закружилась», как товарищ Сталин определил. Не секрет, в иных местах пришлось коллективизацию фактически проводить второй раз…
Зазвонил телефон. Секретарь снял трубку, поговорил, покрутил ручку, давая отбой. Вытер платком красную потную шею.
– Одним словом, товарищ Козлов, на месте сам увидишь. Да и на бюро будешь приезжать, войдешь в курс. Главное сейчас – приучить крестьян к общественному ведению хозяйства, чтобы… поверили в артель. А то ведь никто еще толком не знает: как, что? В инструкциях все ясно. А вот в жизни-то не очень.
В кабинет вошли, секретарь замолчал, потом сунул мне руку, и лицо его досказало остальное: мол, видишь, некогда, ну да на месте разберешься…
От Старобина деревня Метявичи была совсем недалеко. Из «Нового быта» за мной прислали подводу, и я благополучно добрался до усадьбы своего колхоза.
Нечего толковать, что я был полон энергии и у меня, что называется, руки чесались по работе. Хотелось применить к делу свои новые знания, полученные за три с половиной года учебы.
Деревня Метявичи похожа на сотни белорусских деревень: песчаные улицы, зелень садов за плетнями, рубленые избы. Правление «Нового быта» помещалось в панском имении. Огромный дом стоял на берегу реки Случь, что змеилась внизу по лугам. Длинная аллея из великолепных вечнозеленых пихт вела в огромный сад, раскинувшийся на шестнадцати гектарах. Чего только в нем не росло! И яблоки всевозможных сортов, и груши, и сливы, и вишня, и крыжовник, черная и красная смородина. Благоухали полузаброшенные, заросшие густой травой цветники.
За рекой тянулся луг, который весной заливала вешняя вода, дальше раскинулся сосновый бор «Погулянка» – это уж после я узнал, как он называется. Из панского дома как на ладони была видна соседняя деревня Погост. Место великолепное!
В конторе меня ждали руководители колхоза: им уже позвонили из Старобина, что едет парторг ЦК. Навстречу из-за стола поднялся плотный мужчина ниже среднего роста, с загорелым молодым лицом и пышной красивой бородой, протянул руку:
– Познакомимся. Председатель колхоза Петр Кошанский.
Поздоровался я со всеми коммунистами, активом «Нового быта», посидели мы в правлении, для знакомства почадили махоркой, обменялись новостями. Я им столичные, минские, рассказал, они свои, и тут же разговор перекинулся на уборку колосовых, подъем зяби. В сельской местности, о чем бы ни заговорили, непременно вспомнят или о пахоте, или о видах на урожай и не забудут потолковать про погоду.
Потом мне рассказали вкратце историю усадьбы. До революции она принадлежала польскому помещику Крупскому. Жил он очень богато. У него было много земли, великолепная конюшня, бильярдная. К нему всегда наезжало много гостей. При поместье находился отлично оборудованный спиртозавод. Вся округа работала на пана Крупского.
После того как в 1920 году Красная Армия отбила белополяков, помещик, точно как и наш пан Цебржинский, спешно бежал в Польшу. Все его хозяйство осталось в исправном виде: видно, мечтал еще вернуться.
Уже поздним вечером мы с Кошанским шли аллеей огромного сада. Старые могучие тополя, клены, ели, лиственницы, точно сторожа, охраняли сад. Пан надежно отгородился от крестьян.
– Мне тебе политэкономию не читать, – начал Кошанский. – Без меня знаешь, что у нас в Советской России еще с 1918 года стали организовываться коммуны. Застрельщиками иногда были и прибывшие из города промышленные рабочие. Голод, разруха, вот и шли в деревню, сбивались в артели с крестьянской беднотой. Им и отдавали бывшие поместья. Так и тут. Поселились здесь партизаны гражданской войны – шесть или семь семей. Но дело, как говорят местные жители, не заладилось. Ну, а теперь, как видишь, организовали колхоз «Новый быт».
– Ты тут давно?
– Да нет. Знаешь, за три года сколько тут до меня «старшинь» перебывало? Ого! Только, бывало, начнет председатель работать, не успеют еще к нему колхозники приглядеться, понять характер, как, смотришь, уже сняли. В 1930 году председателем был Василий Захарович Корж, потом его куда-то перевели. Назначили Долину. Этот тоже долго не сидел. После него прислали Бобкова. Он тут и помер в 1931 году. Могила его в саду, я тебе потом покажу памятник. Когда хоронили, за гробом шел первый трактор: прислали из МТС. Потом и другие хозяйствовали, а вот теперь все это наследство досталось мне.
Я знал, что текучесть кадров была нашей серьезной болезнью. Да ведь это и понятно. Где, в какой стране было видано, чтобы сложившееся тысячелетиями индивидуальное землепользование сразу перевели на коллективные рельсы? Дело поднимали великое и совершенно никому не знакомое. Как его вести? Полагаться надо было лишь на собственную сметку, на людей да на партийную совесть. Районные, областные работники иногда вместо помощи начинали растерянно дергать в разные стороны. А спустя срок снимали «несправившегося» председателя колхоза. А если говорить по совести, винить подчас было и некого…
Одной из основных бед было отсутствие квалифицированных кадров. Их только-только начинали готовить. Да разве только в знаниях дело? Один сельское хозяйство знает – организаторских способностей нет. У другого организаторские способности налицо – чересседельник от хомута не отличит. Третий разбирается и в севе, и в пахоте, и в людях – слишком доверчив и слабоволен, подкулачники, лодыри из него веревки вьют. А в деревне потерял авторитет – пиши пропало. А случалось, и проходимцы попадались, охотники урвать из артельного кармана.
Отсутствие полновесного, надежного трудодня расшатывало спайку крестьян. Наименее устойчивые из них теряли веру в коллективное хозяйство. Кулацкие недобитки пользовались каждым случаем, чтобы посеять смуту.
– Ну, а ты как, крепко себя чувствуешь? – в упор спросил я у Кошанского.
Он пожал плечами:
– Тяну вот. Но чувствую, надо бы лучше. Агрономическое дело как следует бы знать, а я что? Еле считать, писать умею. Но вот теперь ты впряжешься, надеюсь, дружней потянем.
Он оглянулся, словно нас могли подслушать, понизил голос:
– Тут еще… настроения гнилые у некоторых. Тянут все. Там шлея пропала, там коса. Зерно везет с тока – мешок себе за плетень скинет. Огурцы уносят с общественного огорода ведрами. Беда просто! – И Кошанский даже скинул кепку, почесал затылок.
Я понял, что работа предстоит очень большая, серьезная. Надо было вдохнуть в людей веру в будущее, убедить словом и доказать делом, что коллективная работа не только прогрессивнее единоличной, но и выгоднее. В первую очередь следовало поднять в колхозе дисциплину. Высоких, пышных слов было сказано с избытком, теперь требовалось дело. К работе я приступил в тот же день.
В «Новом быте» было шесть коммунистов. Со мной теперь стало семь. Начал я с того, что собрал их вечером в правлении.
– Наверно, дорогие товарищи, – начал я, – вы сами отлично понимаете, зачем меня к вам прислали. Наша с вами задача – наладить такую жизнь в «Новом быте», чтобы и люди были довольны, и Родина богатела. Кроме того, не надо забывать, что колхоз наш пограничный, до буржуазно-помещичьей Польши от нас рукой подать…
Вижу, коммунисты слушают меня внимательно, заинтересованно. Похоже, что с таким активом можно потянуть хозяйство. Должен заранее сказать, что я не ошибся в этих людях: они оказались верным колхозным активом, на который я всегда мог твердо опереться. Я и сейчас помню их фамилии. Это Мицкевич, Калина, Степурко, Карасев, Басов.
Под конец я сказал:
– Когда человек приезжает на новое место, он первое время ходит вроде как с завязанными глазами. Так и я у вас. Вы же все хорошо видите. Вот и расскажите мне, какие у вас болячки и что у вас хорошего.
В тот раз засиделись мы за полночь. Надымили махоркой так, что свет большой керосиновой лампы-«молнии» еле пробивался.
Через два дня мы назначили общеколхозное собрание, наметили повестку дня, договорились, кто по какому вопросу будет выступать.
Народу набилось в клуб столько, что яблоку некуда было упасть. Всем хотелось поглядеть, что это за карась приплыл к ним из Минска. Лучше ли с ним станет или хуже?
Клуб в Метявичах был вместительный. Вечер стоял по-июньски теплый; открыли окна. Мы с Кошанским заняли места за столом, накрытым красным коленкором. Зажгли несколько керосиновых ламп, чтобы лучше осветить зал (об электричестве мы в то время мечтали почти так же, как и о коммунизме).
Начался колхозный сход.
Решили ряд очередных вопросов, потом наступила моя очередь. Кошанский представил меня народу. Я поднялся, коротенько рассказал о себе: откуда родом, где работал, учился. Слушали колхозники в оба уха.
– Кем же вы у нас будете? – раздался голос из дальних полутемных рядов. – По партийной линии? Это как перевесть… на крестьянскую сущность?
Разумеется, всем было хорошо известно, какое внимание уделяет коллективизации наша партия. Все слышали либо читали о двадцатипятитысячниках, видели не раз уполномоченных. Однако скрытые подкулачники старались представить их как «говорунов», которые дела не делают, а лишь болтают языком. Я ожидал таких подковыристых вопросов, задаваемых как бы от «деревенской простоты», и спокойно ответил:
– Главная моя работа – партийная. Но одновременно я буду у вас и заведующим животноводством. Правление «Нового быта» доверило мне эту должность.
Некоторое время в зале слышалось лишь перешептывание да скрип скамеек. Тот же голос с прежней простоватостью спросил:
– Надолго ль до нас, ай как?
– Квартиру правление мне уже отвело. Буду жить, пока не прогоните.
– Женатый? Аль холостой?
В клубе раздался смех. Я охотно поддержал веселый тон:
– Вашим девкам и молодым вдовушкам рассчитывать на меня не придется. Женат, и уже у самого две невесты растут. Послал нынче семье телеграмму, чтобы ехала.
Теперь люди увидели, что я действительно собираюсь пустить корни в «Новом быте» и, стало быть, на хозяйство буду смотреть как член коллектива. Притом, раз не скрываю своего семейного положения, значит, человек серьезный, не какой-нибудь «алиментщик». Я уже сам знал, что бывали такие уполномоченные, что женились в каждой деревне, куда их посылали.
Люди теперь смотрели на меня явно благожелательно. Все же с задней скамьи раздался еще вопрос, вернее, реплика:
– Животновод нам кстати. А то у нас бычки нераздоенные. Надо бы раздоить…
Ответил я раньше, чем зал отреагировал на эту последнюю подковырку:
– Кто это там сказал? Предложение дельное. Надо будет его продвинуть.
Собрание замерло, не зная, как понять мои слова. Неужто я действительно такой «знаток» сельского хозяйства, что не отличу корову от быка? Вот это, мол, животновода им прислали! А я продолжал:
– Иди сюда, товарищ. Что прячешься за спины? Вот мы тебя и изберем главным… быководом. Обещаю премию, если раздоишь закрепленных за тобой бычков. Только уж если не добьешься результатов, придется самому поставлять молоко и телиться.
Смех волной прокатился по всему залу. Больше таких вопросов уже никто не задавал, не прерывал мою речь. Вернее, это была не речь, а просто беседа, что называется, с открытыми картами. Как и коммунисты «Нового быта», я понимал, что успеха в предстоящей работе можно достичь только одним путем: сразу опереться на честных людей колхоза, из которых и сколотить здоровый костяк.
– Вот мы и познакомились, – говорил я. – Вы на меня поглядели, я на вас поглядел. Вам я виднее, вы в сотню глаз на меня смотрите. Ну да и я на зрение не жалуюсь, дайте срок, тоже всех вас узнаю. Скажу вам прямо: ЦК партии Белоруссии прислал меня в ваш колхоз для того, чтобы сделать ваш «Новый быт» богатым, а вас – зажиточными и, главное, чтобы у вас за каждой чернильной «палочкой» был полновесный трудодень.
Тон я выбрал правильный, это почувствовал и Кошанский. Сидел он с довольным видом. Наладить контакт с колхозниками мне помогло то, что еще до учебы в Минске я принимал активное участие в создании и укреплении у себя на родине колхоза «Красный партизан». Там же, в Малевичах, была хорошо слаженная партийная ячейка; после демобилизации я некоторое время был в ней секретарем.
Этот опыт сейчас пригодился; колхозники слушали меня внимательно.
– Заранее вам говорю, – продолжал я, – что без вас ни я, ни партактив сами ничего не сделаем. Вы – хозяева колхоза, вы – его главная сила. Мы только будем стараться направлять вас на торную дорогу, а все зависит от вас. Мы с вами должны наладить дисциплину, выходить на работу вовремя, без опозданий. Мы должны трудиться на совесть, чтобы не было стыдно нам ни друг перед другом, ни перед другими артелями, скажем соседями из Погоста. Пора кончать с безалаберностью и разбазариванием артельного добра. Предупреждаю: за это будем наказывать по всей строгости. Так мне и сказали в ЦК перед отъездом к вам в колхоз: опирайся, товарищ Козлов, на народ. Я не сомневаюсь, что большинство из вас честные труженики. Надеюсь, что общими усилиями мы наладим жизнь в «Новом быте». А тех, кто нам будет мешать, ударим по рукам. Больно ударим!
По одобрительному говору, который поднялся в зале, я убедился, что меня поняли. Собранию, видимо, понравилось то, что я не произнес длинной речи со много раз слышанными лозунгами. Правда, когда я предложил было присутствовавшим высказаться, из этого ничего не получилось.
– Что же вы, товарищи, молчите? Выходите сюда к столу, обменяемся мнениями: что же мешает колхозу стать зажиточным?
Все молчали, переглядывались, толкали друг друга локтями, улыбались, но молчали.
Сидели мы долго. То о том толковали, то о сем, курили, кто что имел. Я, как всегда, смолил махорку. Сказать по совести, я и не особенно рассчитывал на откровенный разговор. Хорошо уже было то, что люди не увидели во мне «записного оратора», почувствовали, что я хочу вместе с ними заняться делом.
В колхоз я приехал совсем налегке. Что может быть у студента? Ободранный чемоданишко со старыми учебниками, «Капитал» Маркса (премия за учебу) да пара белья. Одет я был в поношенный пиджак, сбитые ботинки с побелевшими носками и дешевенькую кепку Галстука не носил: хорошей рубахи не было. Деньжонки – стипендия, выданная за лето, и подъемные – быстро таяли. Едоков же, кроме меня, было еще трое: жена и две дочки.
Как жить? На трудодни, как известно, в колхозе продукты распределяют осенью. До осени же хоть воздухом питайся. Конечно, мне предлагали помощь: и председатель колхоза Кошанский и Старобинский райисполком. Я не брал. Пока, думаю, обернусь, а потом видно будет. Мне не хотелось ни от кого зависеть, этак ведь недолго и самостоятельность потерять.
Я написал письмо в ЦК партии Белоруссии и все объяснил: послан вами парторгом для укрепления колхоза, трудодни ждать долго, а денег нет. Прошу срочно решить вопрос: как мне, коммунисту, быть в сложившихся условиях?
Пока ждал ответа, пришлось попоститься, перехватил деньжат у родни и знакомых, но все-таки авансироваться в колхозе я так и не стал. Наконец пришло решение ЦК Белоруссии: выплачивать выпускникам комвуза, направленным в колхозы, оклад инструктора райкома.
Конечно, моя выдержка сказалась на авторитете. Колхозники увидели, что я не запускаю руку в их кладовую. И районные руководители поняли, что я человек принципиальный.
В те годы и сами колхозники, и те, кто их организовывал в колхозы, толком не знали, что такое артельное хозяйство. Воодушевлялись главным образом лозунгами: поднять сельское хозяйство на небывалую высоту; облегчить жизнь крестьянина; раскрепостить труженицу полей от печки и пеленок: детей отдать в ясли; наладить общественное питание; превратить деревни в благоустроенные поселки; провести везде электричество; воздвигнуть клубы и т. д.
А как конкретно приступить к плану переустройства? Отсюда-то и возникали неурядицы первых лет коллективизации, перегибы, когда хозяйство обобществляли вплоть до кур и договаривались до того, что и ложки, и тарелки в избе не нужны: в столовой будут. Тех же руководителей, кто высказывал осторожные сомнения, кое-где даже высмеивали: «Да ты что? Не веришь в великий перелом? Какой же из тебя вожак?»
Серьезное положение складывалось и в области землепользования. Все понимали, что наше сельское хозяйство отстало, что нельзя его вести допотопным способом, как это делали деды. Нужны новые, социалистические методы, научный подход, механизация всех отраслей.
Однако на практике весьма смутно представляли себеу каким же образом переиначить веками сложившиеся трудовые процессы. С чего начинать? Где взять на это средства? Конечно, государство ощутимо помогло в механизации обработки полей: создали МТС – по одной на район. Но как быть со всем остальным?
На бумаге у нас было все рассчитано, райземотделы даже высчитали предполагаемый рост доходов, расширение ферм. В жизни же все было значительно сложнее…
Первую неделю я ходил по полям, по фермам, стремился побеседовать с каждым человеком на месте его работы. Приглядывался, как содержится скот, чем его кормят, тщательно ли убирают помещения. Вставал я ни свет ни заря, проверял, когда люди выходят на работу, кто из них с охоткой, а кто без охоты берется за дело.
Свободного времени у меня совсем не было, спать удавалось не больше пяти часов. Мне ведь, как заведующему животноводством, приходилось отвечать за коров, лошадей, овец. А в животноводстве, честно говоря, я не был силен.
Был у меня заместитель – зоотехник Ничипор Прихожий. Роста примерно моего, такого же возраста – лет тридцати. Смотрел он немного исподлобья, глазки были маленькие, и не поймешь, что они выражают. Одевался, как и все колхозники: в ватник, сапоги. Не отличался от них и культурой речи.
Я уже говорил, что в то время не хватало людей с образованием. Кадры специалистов готовились на кратковременных курсах. Дело не ждало, надо было наиболее толковым работникам дать хотя бы азы знаний. И должен сказать, что такая практика оправдала себя.
Ничипор Прихожий раньше работал пастухом, отличался сметкой. Его послали то ли в Слуцк, то ли в Старобин на курсы животноводов. Кончил он их и получил назначение к нам в «Новый быт». До него здесь такой должности не числилось. У Прихожего была жена, детишки. Жили они, как и я, на отведенной правлением квартире. Беда заключалась в том, что Прихожий любил выпить. Порой, хватив лишнего, он заваливался спать в желоб, куда клал корм для скота, и его удивленно обнюхивали коровы. Раз с похмелья выпил он весь гематоген из зооаптечки.
– Как будем с тобой развивать животноводство, Ничипор Трофимович? – спросил я Прихожего. – Ты специалист. Твое первое слово. Нам в комвузе такой науки не преподавали.
Зоотехник поглядел куда-то в луга за Случь, словно хотел найти там ответ или пересчитать стога сметанного сена.
– Да будем, – буркнул он.
На этом «совещание» и кончилось.
Целый день Прихожий пропадал то на фермах, то в цементном подвале на усадьбе, где у нас хранилось молоко, сливки. Работал он, как и все мы, не считаясь со временем, от зари до темна, но никаких «рационализаторских» предложений не вносил, новшеств не заводил. Вел хозяйство, как вели его деды.
А дела на фермах не поправлялись. Удои молока составляли в среднем литров пятьсот – шестьсот на корову, жирность была низкой. Невысок был настриг шерсти от овец. Кормов было в обрез, а тут еще с ферм они исчезали: доярки растаскивали в мешках, в торбочках, в карманах. Да и корм задавали они скотине неаккуратно: сорили, бросали кое-как, коровы затаптывали его.
Заходил я не раз к дояркам, колхозному пастуху. Спрашивал, как они думают поднимать животноводство.
– Что-то надо придумать, – соглашались они. – Не век же по старинке.
– Об этом я и толкую. Вы теперь сами хозяева.
– Знаем. Слыхали на собраниях.
И замолкали, как и Прихожий. Я всячески старался их расшевелить. Убеждал, что надеяться нам не на кого: у государства и без того забот полон рот. И как лучше вести хозяйство – надо покумекать самим.
– Да вы поглядите на наших коровенок, Василь Иваныч, – как-то разговорился все-таки пастух, захватывая в бурую от загара руку громадный длинный кнут. Бегают, как те собаки, ищут, чего бы сжевать. Какие у нас пастбища? Трава выгорела, а ту, что еще оставалась, повытолкли.
Примерно это же говорили и доярки:
– Как с коровы молока спросишь, когда у нее брюхо пустое?
А наша ударница тетя Паша добавляла:
– Скотина, она не глупее человека и обращенье чувствует. Что ты ей дашь, то она тебе и вернет. Нет уходу, не будет и приходу.
Я и сам отлично видел, что колхозный скот отощал, вид имел заморенный. Из района требовали, чтобы мы увеличивали поголовье. А нам это бы стадо прокормить. Коровники у нас разваливались, у ворот росли горы навоза, гнилой соломы, скапливалась черная вонючая жижа.
«Почему так туго с кормами? – размышлял я. – У нас за Случью заливные луга, вон какой травостой отменный! Правда, много сенокосных угодий распахали под зерновые. И все-таки если по-хозяйски выкашивать луга, беречь корма, то для колхозной скотины вполне хватит».
Начал я с похода за чистоту; собрал всех до одного скотников, конюхов, доярок, сказал им:
– Почему скотина должна по колено в грязи стоять? Вам же самим через эти кучи лазить приходится.
– Времени не хватает, Василий Иванович. И так в потемках подымаемся, в потемках в постель тыкаемся. А там еще по дому сколько переделать. Щи-то надо сварить, детишек прибрать?
– Небось пану Крупскому так бы не ответили. У него разговор был короткий: делай все на совесть или бери расчет.
Смущенно улыбаются, жмутся, отворачиваются.
– Там деньги платили, – бросил один, из, конюхов. – Хоть и малые, а все же…
Такого ответа я ожидал.
– Вот какая у тебя душа, Ефим Семеныч, – сказал я. – Только на деньги откликается. Значит, тебе все равно, стоит над тобой управляющий с кнутом или ты сам себе хозяин? Тогда-то небось в три погибели гнулся, из кожи лез, а теперь полдня потягиваешься. Потому и «палочки» у вас пустые, что так рассуждаете. Конь телегу не потянет – с места она сама не тронется. Давайте и мы как следует рукава засучим, а уже после будем обсуждать, выйдет что или не выйдет. А языкам своим отдохнуть дадим. Посмотрите, какие горы навоза скопились у коровника. А на поле этот навоз лишним пудом хлеба обернулся бы. – И, чтобы показать пример, я первый взял вилы. Поднял лопату пастух, подключились доярки, и мы устроили настоящий субботник.
Так мы очистили ферму, свезли навоз на поля. После этого мне пришлось-таки взяться за специальную литературу по животноводству, беседовать со стариками. Они посоветовали подкармливать коров и на ферме, после того как их пригонят с пастбищ: «Охапки две-три свежей травы подбросить в ясли, пускай жуют».
– Что ж, – согласился с этим предложением Прихожий. – Я не противник. Только б в зиму не остались без сена.
– Надо ударить по рукам тех, кто ворует корма, – ответил я. – Тогда наверняка хватит.
На это Прихожий промолчал.
Второе, что я ввел по совету одного старика, – ночной выпас колхозного стада. Делали мы это в особенно знойную погоду, когда днем жара, оводы, слепни не давали скотине спокойно поесть. Вроде бы простое, немудреное дело, а удои сдвинулись, стали постепенно расти.
С каждым днем я все больше осваивался в Метявичах, вживался в колхозные дела, ближе узнавал людей. Жена хозяйничала, старшая дочь Оля нашла себе подруг среди будущих одноклассниц. Приглядывался и к нам народ: чего мы сто́им.
Понадобилось мне раз ехать в Старобин по вызову райкома. Пришел я на конюшню и сказал, чтобы запрягли гнедого в повозку. Конюх вывел лошадь из станка и стал надевать хомут. Надел его неправильно, клещами кверху, а сам хитро косится на меня. Явно ждет: что же я буду делать?
– Готово? – спрашиваю. – Садись и езжай.
Конюх поспешно бросил цигарку, затоптал ногой и как следует запряг коня. Смотрю, глаза виновато прячет.
Съездил я в Старобин, вернулся, но больше об этом случае мы с ним не вспоминали.
Разумеется, я учитывал, что и в городе и в деревне продолжается острая классовая борьба. И в Старобинском районе коллективизация проходила с осложнениями. В деревне Саковичи, как рассказали мне, даже были жертвы. Застрелили милиционера, при раскулачивании был убит секретарь райкома комсомола. Тогдашние шептуны пускали слушки, будто скоро сгонят всех спать под одним одеялом.
У нас в «Новом быте» тоже не обошлось без слухов. Подкулачники пользовались всяким поводом, чтобы вносить в работу разлад, пускать злобные сплетни.
Подошло время уборки. Кошанский провел заседание правления, мы проверили готовность колхоза к страде.
Прикинули, что сами сумеем скосить, обмолотить, а чем нам должна помочь МТС, в зону которой входил наш «Новый быт». Вновь подняли вопрос об охране колхозной собственности. Кошанский говорить был не мастер, да и я недалеко от него ушел, но все же в основном разъяснительная работа ложилась на мои плечи.
– На ответственные посты, – говорил я, – нужны такие люди, которым можно смело доверять. Сами вы знаете, как заяц морковку сторожил. Нам таких зайцев-грызунов не нужно. Вы, товарищи, должны понимать, что такой «сторож» воровать-то будет у вас. Поэтому давайте подбирать только таких, которые сумеют охранять богатство колхоза.
Сторожам я потом наказывал:
– Ко всяким расхитителям надо относиться без пощады. Не покрывать их. Для вас не должно быть ни родственных отношений, ни соседских. Запомните: вам доверил коллектив и вы должны оправдать его доверие.
Коммунистов и комсомольцев правление расставило на самые трудные участки.
Уборку мы встретили по-боевому. За эти три недели я стал похож на араба, так как с утра и до ночи был в поле, на токах, у молотилки. Все мы похудели, зато такого бодрого настроения давно никто не испытывал. Дружно работали все. Когда командиры идут во главе отряда, солдаты всегда воюют с подъемом.
Но вот беда: хищения продолжались. Везут зерно с тока – отсыплют себе пару ведер, огурцы с огорода – мерку домой.
Другое, что было характерно для тех лет, – нехозяйское, безответственное отношение некоторых колхозников к инвентарю, сбруе, инструменту. Смотрели на них как на что-то чужое. Окучивают на поле картошку – бросают тяпки в грядке. Работают в саду, в огороде – лопаты, грабли порастеряют. Поломают зубья у жнейки, выпрягут лошадей, уедут. То в поле бочонок для воды оставят, и он рассохнется, то ведро, а то и косилку, плуг, борону.
Очень медленно, с трудом, но все-таки колхозники подтянулись в работе. Это в один голос отметили чуть не все правленцы, бригадиры. Очевидно, подействовала хорошая подготовка к уборке, организованность. У людей появился интерес. Подстегивали и специальные листки, которые выпускала редколлегия нашей стенгазеты, и красочный щит, поставленный перед правлением: в самолете летели передовики; отстающие же, лодыри тащились на черепахе. У щитка всегда толпился возбужденный народ.