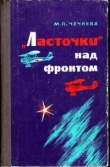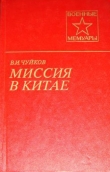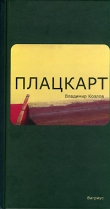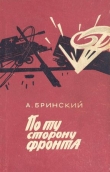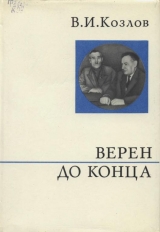
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Параллельно с Горбачевым разведку в Любани вел Патрин. Две партизанки его отряда жили в городском поселке. Им удалось раздобыть очень ценные сведения. Все данные разведки были потом сообщены и систематизированы в штабе. Перед ним стояла задача собрать все наши силы, скоординировать действия отрядов и одновременно ударить по всем гарнизонам.
Николай Николаевич молча выслушал мой приказ. И попытался было осторожно возражать.
– У меня нет необходимого оружия, – растерянно говорил он, – нет боеприпасов, продуктов.
– Все должно быть! – повторил я.
– А на какую операцию вы нас пошлете? – уже с большим интересом спросил Розов.
– Узнаете за несколько часов до начала.
– Есть. Когда и куда прибыть?
Я назначил время и место явки. Через день на условленное место пошел Роман Наумович. Вернувшись, он рассказал, что Розов выполнил приказ, только с вооружением у него плоховато: нет автоматов и мало патронов. Просил дать ему еще два дня, он достанет станковый и несколько ручных пулеметов. Я разрешил.
…Операция была назначена на четыре часа утра 7 ноября. В целях конспирации и более оперативного руководства обком перебрался на остров Зыслов, на основную базу отряда Долидовича. Мы связались с Коржем и Меркулем, с Жуковским и Жижиком, Зайцем и Покровским, Петрушеней, Храпко и житковичскими коммунистами. Павловский и Маханько должны были действовать в Копаткевичском районе: надо было нанести удар там, где его не ожидают. Не было ни одного района в Минской области, а в районах – ни одной группы или отряда партизан, которые к этому великому празднику не готовили бы как «подарок» удар по врагу.
На Любань должны были идти отряды Долидовича, Патрина и Розова. Гарнизон там был большой и хорошо укрепленный.
Незадолго перед операцией Мачульский и Варвашеня принесли на остров новый радиоприемник. Аппарат нам достать было нетрудно, а вот с батареями приходилось туго. Часто люди ходили за ними за полсотни километров. Большую помощь оказал Герасим Маркович Гальченя, тот самый, от которого мы узнали о минских подпольщиках. Война застала Гальченю в Белостокской области, где он в то время работал. И только в июле ему удалось добраться до Гомеля. Там он зашел в ЦК КП(б)Б, и его направили в Любанский район. С ним в родные места были направлены Филиппушка и Костюковец. С месяц они добирались к нам, потом прошло еще недели две, пока им удалось связаться непосредственно с обкомом.
Сразу было видно, что Герасим Маркович – человек с большим опытом, смелый, инициативный и добросовестный. Он хорошо знал не только свой, Любанский район, но и соседние, имел множество знакомых среди местных жителей и обладал исключительными способностями следопыта. Он легко ориентировался на любой местности, в любое время суток мог провести через любое болото или лес.
Когда надо было добыть что-нибудь нужное для штаба, Герасим Маркович почти безошибочно указывал, где и у кого это можно достать. Как-то зашел разговор о новом радиоприемнике, и он сказал, что аппарат можно взять у жены местного лесничего Веры Сущени, а батареи найдутся у одного его хорошего знакомого.
Нашлись специалисты по установке антенны и радиоприемника, нашлись умеющие быстро записывать передачи, в их числе Филиппушка, Костюковец и Сакевич. Иван Денисович Варвашеня отрегулировал радиоприемник. С пяти часов вечера 6 ноября он начал ловить Москву.
Словно наяву предстает передо мной картина того осеннего вечера. Двери штабной землянки открыты настежь, несмотря на пронизывающий холод. Желтоватый, дрожащий свет лампы, стоящей на столе возле приемника, освещает взволнованные и напряженные лица людей. И в землянке и возле нее много партизан и крестьян из соседних деревень. Наступал великий праздник, и каждому хотелось почувствовать его всем сердцем. Двадцать три года люди праздновали годовщину Октябрьской революции. Это уже стало традицией, духовной потребностью советского человека.
И вот снова пришел великий праздник, а кругом фашисты. Людей потянуло туда, где можно дать волю своим мыслям и чувствам, где можно хоть на минуту отдаться праздничному настроению и где, наверное, будут добрые вести.
Жила у людей непоколебимая уверенность в том, что день 24-й годовщины Октября должен принести что-то приятное, радостное. Не хотелось думать о тяжелом, печальном, хотя судьба любимой столицы вызывала тревогу. Фашистские стервятники сбрасывали листовки, в которых хвастались, что немецкие войска якобы уже взяли Москву.
В лагерь пришли все, кому можно было прийти: свободные от службы партизаны, наиболее надежные и проверенные связные, деревенские коммунисты – руководители подпольных групп, комсомольцы. Здесь можно было увидеть многих из тех, кто присутствовал на первом районном партийном подпольном собрании на лесной полянке. Вот на пороге землянки, прислонившись широкими плечами к косяку, сидит Григорий Иванович Плышевский. Его группа выросла в самостоятельный отряд и провела несколько довольно значительных операций. Рядом на пеньке примостился Степан Корнеев, командир роты в отряде Долидовича.
Пришла и Феня Кононова – учительница, секретарь подпольной комсомольской организации в деревне Нижин. Закутанная в большой теплый платок, в неярком свете лампы она выглядела солидной, пожилой женщиной. Со времени первого партийного собрания она заметно изменилась: взгляд карих глаз стал глубже и спокойней. В течение последних месяцев она провела большую работу в своей и соседних деревнях. С помощью Любанского подпольного райкома комсомола, секретарем которого был назначен Адам Майстренко, она организовала в деревне Нижин сильную комсомольскую группу. Комсомольцы собирали для партизан оружие и боеприпасы, проводили диверсионную работу ка дорогах, распространяли листовки. Кроме того, дом Кононовых – одна из главных конспиративных явок.
Трудной, полной опасностей жизнью жила эта скромная девушка. Выполняя свой патриотический долг, она жертвовала всем. Часто Феня вместе со своей сестрой, комсомолкой Марией, доставляла нам чрезвычайно важные сообщения из Слуцка, Осиповичей, Бобруйска. Каким бы трудным ни было задание, Кононова, не колеблясь, бралась за него и всегда точно выполняла.
…Иван Денисович Варвашеня по-прежнему сидит у радиоприемника. Присутствующие, не отрываясь, следят за движением его рук, заглядывают в лицо.
Люди ожидают уже около двух часов. Здесь много партизан, которым скоро идти в бой. Услышать бы им хоть что-нибудь о Москве, о советском тыле – тогда легче воевать, рука крепче будет держать оружие!
Роман Наумович подсел ближе ко мне и шепчет, как бы продолжая наш недавний разговор:
– После боя снова пойду в Минск и Бобруйск.
– Пойдешь, если пошлем, – шепотом отвечаю я.
– Обязательно надо послать! – убеждает меня Мачульский. – Не меня, так еще кого-нибудь.
Я тронул Мачульского за локоть, отметив про себя, что сосредоточенно-спокойное лицо Ивана Денисовича осветилось радостью. И вдруг красный глазок приемника начал темнеть: разрядилась батарея! Все беспокойно задвигались, стали звать Гальченю. На счастье, у запасливого Гальчени в мешке нашлась еще одна батарея. Несколько пар рук лихорадочно взялись налаживать аппарат. Не прошло и трех минут, как Варвашеня снова схватился за наушники.
– Что ты услышал? – спросил его Мачульский.
– Мне показалось… – Иван Денисович не договорил и хотел надеть наушники.
– Что, что? – раздалось со всех сторон. – Скажи, что показалось, что послышалось?
Варвашеня улыбнулся и, как бы извиняясь за свою неуверенность, сказал:
– Мне показалось, что я услышал голос Москвы, только не могу еще сказать твердо… Может, мне почудилось…
Его поиски стали еще более напряженными. Это было заметно по движениям пальцев, по выражению лица. Должно быть, Иван Денисович твердо верил, что тот голос, который на мгновение долетел сюда, на далекий партизанский остров, был голосом Москвы.
Через некоторое время Варвашеня поднял руку и сказал торжественно и взволнованно:
– Сталин, товарищи!
Он повернул регулятор, и из радиоприемника раздался голос Верховного главнокомандующего:
«Теперь этот сумасбродный план надо считать окончательно провалившимся».
Из приемника загремели аплодисменты.
– Какой это план? Что было сказано перед этим? – спросили сразу несколько человек. Они надеялись, что Иван Денисович слышал начало речи.
– Это о плане «молниеносной войны», – быстро объяснил Варвашеня. – Тише, товарищи!
«Чем объяснить, – ровно и спокойно звучал голос в землянке, – что «молниеносная война», которая удалась в Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке?
На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, утверждая, что они в два месяца покончат с Советским Союзом и дойдут в этот короткий срок до Урала?»
– Должно быть, торжественное заседание в Москве, – взволнованно прошептал Мачульский.
Если звучит голос Москвы в эфире, значит, она живет! Привет тебе, родная столица! Голосом Верховного главнокомандующего Москва приветствовала людей на глухом полесском островке в глубоком тылу врага.
«Неудачи Красной Армии, – продолжал И. В. Сталин, – не только не ослабили, а, наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР».
Снова загремели аплодисменты, некоторые из присутствующих тоже начали аплодировать, но на них сразу же зашикали, замахали руками. Слова хорошо были слышны в землянке, их можно разобрать и возле открытой двери, а дальше они становились неразборчивыми, сливались. Самый дальний спросил у соседа, сосед передал вопрос дальше, и так дошло до Григория Плышевского, который сидел на пороге. Тот ответил раз, другой, а потом начал тихонько повторять. Так из уст в уста шепотом передавались слова доклада.
«Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков в нашей стране, но также и в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолетов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и минометов, строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий.
В этом теперь задача».
– В этом теперь задача! – повторили партизаны.
Время было отправляться на боевые операции. Из землянки вышли командиры отрядов и групп. В памяти каждого звучали недавно услышанные слова. Они внушали бодрость и горячее желание отдать все силы на борьбу с врагом. У радиоприемника остались Сакевич, Костюковец, Филиппушка и еще несколько партизан с карандашами и бумагой. Они сверяли свои записи. Варвашеня отозвал в сторону руководителей подпольных групп, Феню Кононову и связных. По поручению обкома он объявил им, что завтра к полудню будет выпущена листовка с докладом И. В. Сталина. Для этого в лагере оставляется группа людей. Их работа будет считаться боевым заданием. Что не удалось записать теперь, запишут в передаче ТАСС. Необходимо завтра выслать своих людей на явочные пункты, чтобы вовремя забрать листовки и распространить их среди населения.
План любанской операции состоял в следующем: две боевые группы со станковыми пулеметами перерезают дороги из Любани на Уречье с севера и на Погост и Слуцк с запада. Специальные ударные группы гранатометчиков и автоматчиков под командованием Бельского и Варвашени должны были бесшумно подползти к комендатуре, снять часовых и ровно в четыре часа утра атаковать эсэсовцев. Командиром группы автоматчиков назначен Дмитрий Гуляев – комиссар отряда Долидовича. К этой группе был присоединен отряд Патрина. Остальные партизанские силы разделили на две части. Одна часть должна наступать с северной стороны Любани, другая – с южной. Подготовка к операции проводилась в полной тайне.
Наша задача осложнялась тем, что к юго-востоку от Любани протекает река Оресса, а к западу находится болото.
К двум часам ночи 7 ноября бойцы Гуляева и отряд Патрина подошли к Орессе, к тому месту, где она ближе всего к Любани. Здесь был мост, и он служил единственной переправой через реку. Гитлеровцы поставили сильную охрану и, таким образом, защитили себя от опасности нападения со стороны лесистых участков района.
Этот заслон мог стать для нас значительной помехой. Охрану моста предполагалось снять без шума, но, если часовой все-таки успеет поднять тревогу, тогда наша операция примет совсем другой характер. Все это необходимо было учитывать.
Я вызвал к себе командиров передовых подразделений.
– Что думаете делать? – спросил я Гуляева.
– Сомну, – ответил он, – никто и пискнуть не успеет.
В его голосе звучали решимость и уверенность, однако положиться только на это заявление было нельзя. Рядом со мной стоял Горбачев, он получил задание любым способом заслать в районный центр пятерых партизан. В назначенный час они подойдут к мосту из городка и по сигналу бросятся на охрану. Затем я приказал выделить две группы: одну от Гуляева, другую от Патрина. Они подойдут к мосту не по дороге, а вдоль реки: одна с правой стороны, другая с левой. Задача этих групп та же: уничтожить охрану. Если не удастся снять ее бесшумно, уничтожить быстро и в ту же минуту всем ворваться в районный центр и, не дав гитлеровцам опомниться, занять построенные ими укрепления.
На мост пошли четырнадцать смельчаков. Улучив удобный момент, они набросились по сигналу на немецкие патрули и обезвредили их. Несколько гитлеровцев в караульном помещении было уничтожено.
Дорога очищена, отряд и группы двинулись по заранее намеченным маршрутам на свои позиции.
Подошли точно по плану к зданиям, где разместились эсэсовцы. Наших бойцов окликнул часовой. Короткой очередью из автомата Гуляев скосил фашиста. Стрелять раньше времени запрещалось, это могло всполошить гарнизон, но иного выхода не было. Пока гитлеровцы забили тревогу, группа Гуляева успела достигнуть глинобитного здания. Загремела «карманная артиллерия». Слышались звон стекла, крики и стоны гитлеровцев. С вышек застрочили два станковых пулемета. Фланговые группы Патрина открыли огонь по вышкам и по окнам дома. Оккупанты выскакивали в окна, но тут же падали мертвыми. Затрещали немецкие пулеметы и с других огневых пунктов, но с перепугу гитлеровцы били невпопад. Хорошо зная каждый закоулок в городе, наши боевые группы обошли их.
Кроме отряда эсэсовцев в Любани были комендатура, гестапо, отряд полиции. Они были атакованы отрядами Долидовича и Розова. Оккупанты пробовали сопротивляться: на улицах началась беспорядочная стрельба, но налет был таким неожиданным, что фашисты, охваченные паникой, не сумели занять оборону.
Бой продолжался около двух часов, он прошел даже с бо́льшим успехом, чем мы ожидали. Вражеский гарнизон был полностью разгромлен. Около полусотни фашистов убито, много ранено, часть полицейских разбежалась. Наши отряды захватили оружие, боеприпасы, продукты и одежду. Значительная часть продуктов и одежды была роздана местному населению.
Утром, когда основные группы отошли от Любани и остановились в деревне Редковичи, мы получили донесение командиров засад на дорогах. Они сообщали, что вражеских подкреплений не видно. Это немного удивило нас: неужто наш удар был таким внезапным, что гитлеровцы не успели поднять тревогу?
Рассвело. Наступило холодное, безветренное и ясное утро поздней осени. Солнце поднялось и заиграло на стеклах окон трепетными разноцветными огоньками. И по мере того как оно поднималось, ярче, свежее становилось все вокруг. Молодо желтели не успевшие почернеть новые заборы, легкий иней таял на крышах, светясь и поблескивая водяными капельками, то здесь, то там выглядывал пучок еще зеленой травы.
Даже солнце светило как-то по-праздничному: нас так и тянуло отложить все дела и организовать в приютившей нас деревне демонстрацию, отметить этот великий день по всем правилам, как в доброе мирное время. Но задержаться надолго мы не могли. Фашисты скоро спохватятся, бросят войска на Любань, тогда нам труднее будет отойти на свои базы.
На улицу вышли принаряженные девушки, и это несмотря на то, что накануне оккупанты объявили, что все советские праздники отменяются и празднование годовщины Октябрьской революции будет жестоко караться.
Постепенно на улице собралось много народу. Сначала несмело, осторожно, потом в полный голос они начали разговаривать с партизанами. Узнав, что это мы ночью разгромили любанский гарнизон, крестьяне довольно перемигивались. А когда узнали, что вечером мы слушали Москву, обступили нас со всех сторон и просили задержаться и в двух словах рассказать, что слышно в Москве.
Так сам собой в Редковичах возник праздничный митинг. Рискуя попасть в опасное положение, мы все-таки задержались в деревне. Я поздравил собравшихся с праздником 24-й годовщины Октябрьской социалистической революции и передал содержание речи И. В. Сталина на торжественном заседании в Москве.
Казалось, ни в один праздник люди не переживали такой огромной, захватывающей радости. И мы радовались вместе с ними. Радовались тому, что Родина наша устояла перед вражеским натиском и, чем дальше, тем больше крепнет наша армия. Радовались и тому, что наш большой партизанский бой прошел с успехом.
Солнце стояло над крышами, когда мы покидали деревню. По улице шли строем, крестьяне провожали нас. А на углах хат, на воротах начали появляться красные флаги. Редковичи приветствовали 24-ю годовщину Октября! У партизан тверже становился шаг, красные флаги отмечали нашу победу и звали нас вперед.
По дороге в лагерь нас догнали партизаны одной из застав. На повозке возле станкового пулемета лежал человек, вымазанный грязью так, что трудно было разглядеть его одежду и лицо.
– Кто такой? – спросил я у командира заставы.
– Полицейский, – ответил тот.
– А почему на повозке, он что, идти не может?
– Да, не может, товарищ командир. Хлопцы дали ему припарки, он и сомлел.
– Счастье его, – вмешался в разговор Яков Бердникович, – что быстро обвял. Еще прикидывается своим, дураков нашел. Вот очнется, так мы ему…
– Никаких самосудов! – резко оборвал я Бердниковича и позвал Горбачева.
У меня мелькнула тревожная догадка: возможно, это действительно наш человек, тот самый подпольщик, которого Горбачев пристроил в любанском гарнизоне.
К величайшему удивлению партизанской заставы и особенно Бердниковича, который больше всех старался проучить «полицейского», выяснилось, что это и есть Раменьчик, наш партизан-разведчик. Он чуть было не погиб во время налета. Действительно, сложное положение у человека. Разведчику нужно было оставаться в гарнизоне до последней минуты и ожидать наших. Раменьчик добросовестно выполнил свой патриотический долг. Он постарался устроить так, чтобы с двух часов ночи самому стоять часовым. При появлении партизан он бросил пост и, воспользовавшись паникой и переполохом среди гитлеровцев, испортил в комендатуре рацию и телефонные аппараты. Чтобы не попасть под горячую руку партизанам, Раменьчик потом спрятался в надежном месте, переждал самый критический момент и направился к партизанам. Тут его и схватила наша застава. Вестимо, если человек в полицейской форме, то долго с ним не разговаривали.
В лагере нас ожидала радостная новость. Работник обкома Сакевич, остававшийся в лагере вместе с небольшой группой партизан для выпуска листовок, рассказал нам, что в Москве на Красной площади состоялся военный парад, на котором с речью выступил И. В. Сталин. Текст речи удалось записать полностью.
Не успели мы как следует расположиться на отдых, как начали поступать донесения из других районов. Первым явился посыльный от Меркуля и Коржа. Его доклад вызвал у всех нас небывалое оживление. Дело в том, что отряд Коржа вместе с группой Меркуля при активной помощи колхозников уничтожил три полицейских гарнизона в деревнях Забродье, Червонное озеро и Осово. Притом почти не применяя оружия.
К операции Корж приготовился хорошо. Изучив обстановку, Василий Захарович решил не тратить на полицейских много патронов, а захватить их всех без шума. О своем плане Корж рассказал членам Старобинского райкома партии. План был одобрен. Районный подпольный партийный комитет выделил в помощь Коржу группу бойцов Меркуля. Поговорили с партизанами; их тоже захватил смелый и оригинальный план очередной операции.
Начали действовать. Василий Захарович Корж взял на себя роль «переводчика», а партизан Нордман, неплохо владевший немецким языком, переоделся в форму гитлеровского офицера: он играл роль «коменданта». Несколько партизан переодели в немецкую форму. В боевую группу подбирались люди смелые, решительные, с большой выдержкой и сильной волей.
Перед рассветом подошли к деревне Забродье. Поставили вокруг пулеметы, потом разделились на группы по два, по три человека и вошли в деревню. Корж направился к дому старосты. Остановившись возле его хаты, Василий Захарович властно постучал в окно.
– Кто там? – отозвался хриплый мужской голос.
– Комендант Шульц, – грозно проговорил Нордман.
А «переводчик» в свою очередь объяснил:
– Пан комендант хочет поговорить с вами.
Тем временем «комендант» начал выкрикивать немецкие слова, подбирая наиболее грубые и оскорбительные. Прошло несколько минут, и в окнах появился свет, потом загремел запор, дверь открылась. Корж в сопровождении двух переодетых партизан вошел в хату. Староста, пожилой мужчина с лысиной, угодливо поклонился, а выпрямившись, весь побелел. Он узнал партизан. Судорожным взмахом руки староста сбил лампу, бросился в сени и схватил топор. Стрелять побоялся: в хате были его жена и дети. Корж тоже не стрелял: в темноте можно было попасть в своих. Завязалась короткая отчаянная борьба. Стоило сделать какой-нибудь промах, и провалилась бы вся операция. Если староста вырвется живым, он поднимет тревогу.
Поймав старосту лучом фонарика, Корж нацелил на него пистолет и приказал бросить топор. Яркий свет ослепил полицая. Один из партизан подбежал и стукнул его автоматом по голове. Топор выпал из рук. Старосту связали и вытащили на улицу.
А тем временем партизаны начали расправляться с остальными полицейскими деревни Забродье. Местные колхозники помогали партизанам ловить и уничтожать врагов. Тех, кто остался в живых, забрали с собой, крепко связав им руки.
Двинулись дальше. Было уже светло, но партизаны шли не скрываясь. Вскоре показалась деревня Червонное озеро. Неподалеку от нее Корж приказал положить полицейских на землю лицом вниз. Оставив возле повозок охрану с пулеметами, сам с Нордманом и группой партизан пошел в деревню. Встретив на улице полицейского, «переводчик» велел ему проводить «пана коменданта» к старосте. Тот рад был угодить начальству.
– Давно служишь? – спросил его Корж.
– Давно, – угодливо ответил полицейский, – с первых дней освобождения.
– Ого! – «Переводчик» сделал удивленное лицо. – Ветеран, значит?
– Что?
– Ветеран, говорю, старый служака. Здешний или приезжий?
– Здешний, но последние годы здесь не был.
– А где?
– В советской тюрьме.
– Так, так, – закивал головой «переводчик».
А «комендант» одобрительно сказал:
– Гут, гут!
– Нагоревался ты, видно, – продолжал «переводчик». – И, верно, ни за что сидел?
– За пустяки, – охотно выкладывал «немцам» полицейский, – стрелял в одного активиста во время коллективизации, да плохо попал, только ранил.
– Нагоревался! – сочувствовал «переводчик». – Ну ничего, теперь ты у нас нужный человек, послужишь еще немного, награду дадим, повысим.
– По-о-весим… – медленно, с расстановкой повторил «комендант» и одобрительно закивал головой. Лицо его выражало удовольствие оттого, что и он сумел кое-что понять по-русски и даже принять участие в разговоре.
Полицейский испуганно взглянул на него.
– Не бойся! – успокоил его «переводчик». – Пан Шульц еще только учится говорить по-русски.
Подойдя к дому старосты, Корж оставил партизан во дворе, а сам с «комендантом» вошел в хату.
– Добрый день, пан! – сказал «переводчик», в то время как «пан комендант» поздоровался по-немецки. – Как здоровье пана?
Староста, низко поклонившись, хотел ответить на вопрос, но «комендант» что-то выкрикнул по-немецки.
– Виноват! – козырнув, ответил «переводчик» и, резко повернувшись к старосте, проговорил: – Пан комендант не интересуется вашим здоровьем. Он приказывает сейчас же собрать весь гарнизон в школу. У него будет важное сообщение. Все должны прийти с оружием. Староста еще раз поклонился:
– Слушаю!
«Комендант» и «переводчик» пошли в школу. Скоро туда стали собираться полицейские, и когда все были в сборе, «комендант» дал знак «переводчику» начинать. «Переводчик» встал, окинул всех недовольным, злым взглядом и начал резко:
– Лодыри вы, лежебоки, а не помощники немецкого командования! Пан комендант очень недоволен вами. Почему вы не нападаете на партизан в лесу, а сидите по своим хатам, как приказчики в лавках? Даже охранную службу не несете, пароля не имеете. Почему и сюда некоторые пришли без винтовок?
В заключение «переводчик» от имени «коменданта» приказал полицейским идти к повозкам, которые стоят за деревней, и получить автоматы.
– Пойдете на крупную операцию, – объяснил «переводчик».
Полицейские, ничего не подозревая, вышли из деревни. У повозок их встретил Меркуль.
– Сложить винтовки! – скомандовал он.
Некоторые полицейские узнали Меркуля, бросились бежать и сейчас же были скошены автоматной очередью. Остальные поспешно выполнили команду.
Соседний, осовский гарнизон, услыхав стрельбу, всполошился. Полицаи двинулись к Червонному озеру. Увидев на краю деревни людей, осовские полицейские рассыпались в цепочку и залегли. Корж тоже заметил непрошеных гостей. Он приказал Меркулю взять их на прицел, а сам с «комендантом» и партизанами под командой Шатного пошел навстречу полицейским. Корж совсем вошел в роль. Он громко ругался, энергично размахивал пистолетом и кричал:
– Пан комендант приказывает вам немедленно выступить для совместных действий против партизан! Сейчас же подойдите!
Полицейские направили к Коржу своего парламентера. Сначала показался белый лоскут на штыке, а потом полицейский мелкими, неуверенными шагами стал приближаться.
«Комендант» что-то крикнул, а «переводчик» спросил:
– Полицейские вы или черт знает кто?
– Полицейские, пан, полицейские, – залепетал парламентер.
– Пан комендант не верит, что вы полицейские, – грозным голосом продолжал «переводчик». – Какого черта вы прячетесь?! Если вы действительно полицейские, пан комендант приказывает вам немедленно подойти.
Когда полицейский подошел к «коменданту», Корж взглянул на Шатного и удивился. Рядом стоял не бесстрашный партизан Шатный, а невзрачный, сгорбившийся человек: шапка надвинута на уши, шея втянута в воротник. Корж промолчал, не время спрашивать, и обратился к парламентеру:
– Кто у вас старший?
– Я, – ответил полицейский.
– Фамилия?
– Левшевич, пан.
«Переводчик» вздрогнул, но виду не показал. Очень уж запомнилась ему эта фамилия.
– Зови всех сюда! – приказал он.
– Это наши! – крикнул Левшевич своим. – Это наши, идите сюда!
Четырнадцать полицейских поднялись и направились к Меркулю. Партизаны незаметно окружили их. Корж повернулся к Шатному и спросил:
– Что с тобой? На кого ты похож?
– Чтобы не узнали раньше времени, – прошептал Шатный. – Левшевич знает меня.
Но ни предателю Левшевичу, ни его подчиненным не пришло в голову приглядываться к «полицейским». Если есть немецкий комендант и переводчик, так чего там приглядываться к полицейским! Когда предатели подошли к повозкам и очутились под дулами пулеметов, Шатный подошел к Левшевичу.
– Партизаны! – не своим голосом закричал Левшевич, но тут же был сбит с ног ловким ударом Меркуля.
– Бросай оружие! – скомандовал Меркуль.
Насколько полицейские были жестоки и безжалостны к населению, настолько же и трусливы. Левшевич начал оправдываться и все пытался доказать, что он не виноват, его силой заставили пойти в полицию.
– Выродок ты поганый! – выругался Меркуль. – Ты думал, что мы так и не доберемся до тебя!
Василий Захарович спокойно выслушал Меркуля, прошелся взад и вперед по мерзлой траве, подумал, потом коротко приказал:
– Расстрелять изменника Родины!
Вслед за этим он приказал расстрелять червонноозерского полицая, который хвалился своими «заслугами». С остальными поступили по приговору населения. Тех, кто пошел в полицейские добровольно и сделал много вреда, – расстреляли, а кто попал в эту бандитскую шайку по принуждению, не проявлял активности на службе у фашистов – отпустили.
Весть об этой операции молнией облетела район. В деревнях пошли разговоры, что Корж и Меркуль скоро ликвидируют всю старобинскую и житковичскую полицию.
От Павловского и Маханько пришли донесения о налете на копаткевичский гарнизон. Командиры передавали, что операция прошла успешно: убито свыше двух десятков гитлеровцев и полицейских, взяты трофеи. У партизан жертв не было.
Житковичская группа взорвала межрайонную нефтебазу в Житковичах, где оккупанты хранили сотни тонн горючего. Уничтожить местный гарнизон этой группе не удалось.
Жуковский ударил по краснослободскому гарнизону, Жижик – по копыльскому. Партизаны Покровского разгромили фашистско-полицейский гарнизон в местечке Смиловичи и сожгли склад с обмундированием.
Нам стало известно, что в эти же дни минские боевые группы провели ряд крупных диверсий на железнодорожном узле. Партизаны вывели из строя водокачку на станции Минск-Товарная, и узел остался без воды. Десять дней гитлеровцы гоняли паровозы к реке, на мост, где им подавали воду. Многие паровозы были выведены из строя.
И во многих других местах немецкие захватчики испытали на своей шкуре смелые, могучие удары партизан.
Так партизаны области отметили 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Через некоторое время всю Белоруссию взволновала радостная весть: Красная Армия разгромила фашистские полчища под Москвой.