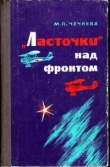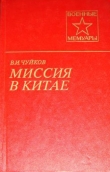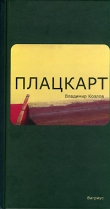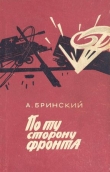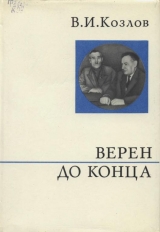
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
3
Хочу быть самостоятельным. – «У нас тут игрушек нету». – Быть рабочим – счастье. – Солдатский подарок. – «В свой корень удался, Василь».
Войне не было видно конца. Нивы стояли несжатыми: не хватало рабочих рук. Продукты дорожали, и рабочему люду жить становилось все труднее.
Младшие мои братишки то и дело хватали мать за подол юбки, хныкали: «Е-есть хочу». Павка однажды заявил: «Не дашь хлеба – уйду побираться!» От кого уж он это перенял? Мать отшлепала его, в отчаянии воскликнула: «Чем мне заткнуть ваши рты? Хоть бы господь кого прибрал! Когда только это замирение выйдет?»
Пришлось и нашей семье батрачить: сперва на пана Цебржинского, потом и на попа Страдомского. Мы убирали их хлеб, косили сено, сгребали, ворошили, – отрабатывали за пуд ржи или ячменя, взятый в весеннюю пору, за охапку травы, накошенной для коровы на панском или церковном лугу.
И хотя коса для меня тогда еще была тяжеловата, орудовать ею я научился исправно и на покосе старался не отставать от старших.
Но не об этом я мечтал. Мне хотелось стоять в паровозной будке, положив руку на реверс, вести машину, чувствуя на тендерном крюке тяжеловесный состав, смотреть на зеленые сигналы семафоров, горящие впереди. Я понимал, что еще маловат для машиниста, но всей душой стремился в депо, к слесарным тискам.
Вообще, меня начали волновать разные вопросы: есть ли правда на земле? Есть ли на свете такая счастливая страна, где всем хорошо? Далеко ли до звезд? Как живут в Африке негры, снимки которых я видел в журнале «Нива»?
Я с жадностью прислушивался к рассказам бывалых людей. Мне не сиделось дома, я рвался к самостоятельной жизни, мечтал быстрее овладеть ремеслом. Путь к этому был один: через жлобинское депо и его железнодорожные мастерские.
Жлобин в то время был крупной узловой станцией. Рельсы от него бежали и на Петроград, и на Киев, и на Гомель, и на Минск. Сразу от вокзала начиналось большое местечко, где белорусское население перемешалось с русским, еврейским. В связи с войной движение поездов через Жлобин очень выросло, все запасные пути – а их было двадцать пять – были забиты. Паровозы, вагоны с грузами стояли в тупиках, на прилегающих к станции полустанках и разъездах. Начальник ходил с красными, опухшими от бессонницы глазами, дежурные едва успевали принимать воинские эшелоны, спешащие на фронт, и санитарные, идущие с запада в Россию.
Поэтому в Жлобине деятельно велось расширение железнодорожного узла, прокладывались новые объездные пути; у паровозного и вагонного депо строились новые тупики. Сооружались они и на топливных складах, у пакгаузов, набитых военными грузами.
И специалистов, и неквалифицированной рабочей силы не хватало. Железнодорожное начальство охотно принимало всех, кто мог держать лом, кирку, топор, лопату. Оплата за труд была неравная: мужчины получали вдвое больше женщин и подростков. Но разве это могло остановить нас – группу заградских закадычных друзей? Все мы окончили церковноприходскую школу и считали себя большими. Мне тогда исполнилось двенадцать лет.
Однажды, когда мы шли со станции в деревню, я предложил:
– А давайте сами устраиваться! Ведь не маленькие.
Мысль эта поразила моих товарищей. Я сам ее высказал неожиданно для себя. Мы все остановились посреди дороги.
– А и правда, – сказал Федька Губарев. – У нас тут уж и знакомые есть.
– Пошли… завтра? – загорелся Михейка Бойкачев.
Сперва мы сунулись в вагонное депо.
Мастер, с толстыми заросшими щеками, в засаленной жилетке, из нагрудного кармана которой свисала часовая цепочка, сперва не понял нас.
– Куда принять? – переспросил он, с недоумением переводя взгляд с одного из нас на другого.
Мы переминались, молчали, куда и смелость вся подевалась! Дружки смотрели на меня: ведь я был инициатором.
– Хотим в слесаря к вам, – наконец хрипло выговорил я.
Брови у мастера поползли кверху:
– Кто? Вы?
И расхохотался. Хохотал он долго. Щеки его тряслись, мастер даже слезинку смахнул рукой. Затем вздохнул и сказал:
– У нас тут игрушек нету, ребята. С инструментом… играемся. Вагоны ремонтируем.
Но увидев, как мы огорчены, сконфужены, он ласково похлопал меня по плечу, постарался утешить:
– Подрастите, орлы. Заходите после, тогда сладимся.
Он ушел, а мы уныло побрели на станцию, оттуда в деревню. Я не знал, как оправдаться перед товарищами. Все молчали. Павка Козлов вдруг сплюнул и сказал:
– Разнасмешничался! Бугай. Все одно куда-нибудь поступим. Верно, ребята?
– Поступим, – решительно подтвердил Михейка.
После этого мы пытались наняться в кочегары, но получили отказ и в деповской конторе. Пожилой, с длинными усами чиновник, правда, над нами не смеялся, ответил мягко, однако категорически:
– Маловаты вы, хлопцы. Знаете, что такое кочегарская лопата с углем или плахи сырых дров? Без малого полпуда. А кидать их надо в топку всю смену. Не всякий взрослый выдержит.
«Там сказали, что вагонное дело не знаем, – размышлял я. – Тут – не осилим кочегарское. Значит, надо искать чего-то попроще».
Эту мысль я и высказал товарищам. После второго отказа кое-кто из нас повесил нос. Я чувствовал: наша «артель» вот-вот может рассыпаться – и стал подбадривать своих дружков:
– Добьемся! Еще не везде ходили.
Сам я тоже был не очень-то уверен, сумеем ли поступить куда. Но ведь не опускать же в самом деле руки?! К моей радости, и Пашка тоже не собирался отступать от задуманного.
Дома мы с ним еще раз все обсудили и решили обратиться за помощью к его старшему брату Степану, работавшему на строительстве железнодорожных путей. Откуда-то о наших хождениях узнали мои родители и спросили: что-де вы задумали? Я не стал скрывать.
– Чего так заторопился, сынок? – спросила мать. – Успеешь еще спину погнуть.
– Помогать вам буду, – ответил я давно заготовленной фразой. – Заработаю, справлю себе сапоги и пиджак.
Сапоги были моей давнишней мечтой. Купить новые, со скрипом и пройтись по улице: собаки и те небось от удивления в подворотни бы забились.
– Не паны, – с какой-то ласковой грустью усмехнулась мать. – В лаптях и домотканой свитке проходим. А там как хочешь: решайте с отцом.
Отец не возражал. Все легче будет семье. Он даже попросил нашего односельчанина техника-строителя Петра Осмоловского замолвить начальству за нас доброе словечко.
Еле дождались мы того дня, когда наконец можно было отправиться в огромную казарму, расположенную возле путей. Здесь мы должны были обратиться к мастеру Морозу, ведавшему строительством на сортировке.
Застали мы его в тесной конторке с грязным, давно не мытым окошком. Мороз был высокий, тощий, с быстрыми движениями длинных рук. Как и все железнодорожные чиновники, он носил черную шинель, на шапке кокарду с якорем и топориком, сапоги. Был он замкнутый, держался с достоинством, рабочие ценили его: не требует взяток, не притесняет, не выговаривает зазря. Бывало, еще чуть рассветет, на путях никого нет, а он уже ходит, проверяет, осматривает…
Сейчас Мороз сидел за столом над бумагами, возле которых лежали счеты. Мы несмело объяснили, кто мы и зачем пришли.
– Новое пополнение? – спросил Мороз, чуть заикаясь, и почесал свой коричневый сморщенный подбородок.
Мы переминались у порога. Волновался я теперь еще больше, чем в первый раз, когда мы нанимались в депо. Предыдущие неудачи подорвали веру в то, что нас примут, и я почтительно рассматривал сутулую спину Мороза, его форменную шинель, кокарду с топориком и якорем. Лицо у старого мастера было в синих точечках, точно обожженное порохом, глаза узкие, карие, зоркие.
– Ну-ну, – сказал Мороз. – Возьму. Вам уже по пятнадцать, авось вытянете. Время такое, что и ваш брат малец в цену входит.
Мы радостно переглянулись и покраснели: возраст мы себе прибавили. Догадался он или нет?
– Возьму, – повторил Мороз. – Только не хныкать. Не подводите своих земляков. Работайте, значит, на совесть.
Нас зачислили поденными чернорабочими.
Конечно, это было не депо и не паровозная будка, но мы и такой работе безмерно обрадовались. Настал для нас великий день: мы – самостоятельные, будем жалованье получать, приоденемся.
Федька Губарев воскликнул:
– Эх, и наемся же я теперь баранок! Сколько в пузо влезет. Дай только деньги получить.
– Сперва их заработай, – осадил Михейка.
Мы все рассмеялись, но смеялись весело, уверенно. Знали, что заработаем. Я тоже видел на своих ногах яловые сапоги со скрипом, пахнущие берестяным дегтем.
Вспоминая далекие отроческие годы, своих сверстников, я сравниваю их с нынешней молодежью и вижу, насколько теперешние парни и девушки образованнее, культурнее нас, насколько лучше и интереснее они живут, иными словами, какая у них действительно счастливая юность. Значит, не зря наши отцы и старшие братья и мы, сегодняшние отцы и деды, работали не покладая рук: совершали революцию, строили социализм, закладывали фундамент нового, невиданного доселе коммунистического общества, воевали в Отечественную войну.
Я сравниваю отношение к труду моих сверстников в дореволюционные годы и современной молодежи в наше время и вижу существенную разницу.
В «священном писании», которое нас в детстве заставляли учить назубок в церковноприходской школе, сказано, что бог, проклиная Адама и Еву, обрек их «в поте лица добывать хлеб свой», то есть заставил работать. И тут же для сравнения показывалась беззаботная жизнь, которая была у наших «праотцев» до изгнания из рая. Гуляли, отлеживали бока, слушали пение птичек. В детстве поп Страдомский тоже объяснял нам, что райская жизнь – это богатые одежды, белые руки, молочные реки и кисельные берега, и в раю от человека не требуется ни малейших усилий, ни малейшего труда.
Я коммунист и, конечно, человек неверующий. Но если бы я на минуту мог допустить, что бог действительно есть, то должен был бы признать, что единственное благое дело, которое он сделал, – это то, что он проклял Адама и Еву и заставил их работать. Потому что труд, и только труд, приносит человеку настоящее счастье. Труд у нас давно стал делом доблести и чести, а безделье, лень осуждены нашим социалистическим обществом. Душа радуется, когда видишь образцы истинно патриотического труда нашей молодежи.
Однако есть у нас молодежь и другого склада. Этакие барчуки, ценящие только безделье и праздность. Я не зря сказал «барчуки». Ведь такое отношение к труду отличало сынков и дочерей помещиков, купцов, лавочников, деревенских богатеев. Я сам знал таких. В их представлении рабочий человек был человеком второго сорта. И когда мы, мальчишки, усталые, перемазанные, но счастливые, возвращались с работы, кое-кто провожал нас презрительными и насмешливыми взглядами. Однако нас переполняла горделивая радость. Сами мы глубоко ценили труд, не гнушались никакой работой, брались за всякое дело, что нам поручали…
Когда, торопливо глотая слова, я рассказал своим родителям, что принят на работу, я сразу почувствовал себя повзрослевшим. Уже не буду теперь обузой для семьи, и приоденусь, и харчи оправдаю, да еще и родителям помогу.
С какой важностью я теперь ходил по деревне! Небось скоро взрослые при встрече со мной будут браться за шапку и уважительно здороваться.
Трудовая жизнь началась.
Но не зря нас предупреждал старший железнодорожный мастер Мороз: работа действительно оказалась нелегкая. «Мастерская» наша была под открытым небом, на путях. Выходили мы из дому чуть свет, шагали семь верст вдоль железнодорожных путей (а в дождь прямо по шпалам) в Жлобин. Хорошо если уцепишься на подъеме за поручни попутного товарняка, вскочишь на подножку и немного подъедешь! Не то меси лаптями грязь, считай шпалы.
Кончали мы, или, как тогда говорили, «шабашили», в потемках: трудовой день тянулся десять часов. Возвращались домой не чуя ни плеч, ни ног. Правда, обратный путь всегда легче. И все же, как доберешься до порога хаты, снимешь мокрый пиджак, сбросишь лапти, повесишь сушить онучи и с наслаждением растянешься на жестких нарах, уже спишь, мать едва добудится, чтобы поужинал.
Чего нам только не приходилось делать! Мы и копали ямы, и таскали землю на носилках для насыпи, и работали на камнедробилке, глотая пыль, и вручную перебрасывали рельсы.
Таскать балласт, укладывать шпалы и стрелочные переводы, бить мерзлый грунт тяжелой киркой нелегко даже взрослым натренированным людям. Нечего говорить, как тяжко приходилось нам, мальчишкам. К тому же не надо забывать, что все мы ходили полуголодными.
Рабочие из семей «покрепче» брали с собой на работу торбочки с хлебом домашней выпечки, бутылку молока, а то и кусочек сала. У меня и моих друзей ничего этого не было. И когда рабочие присаживались «полдневать», мы уходили в сторонку, за откос путей, на ходу жуя всухомятку свои горбушки, а весной по давнишней привычке искали щавель, летом – землянику.
Нередко к работающим на укладке путей подходили ехавшие с фронта на побывку солдаты, присаживались рядом, расспрашивали, как идет жизнь. Женщины громко, не стесняясь, ругали дороговизну, «проклятую жизнь».
На камнедробилке у нас работала пышнотелая молодица из Новиков. Она была щеголиха, любила носить блестящие бусы и яркие платки. В карман за словом никогда не лезла. Муж ее пропал без вести, и солдатка почти открыто крутила с холостыми сезонниками.
– Думаете, вам одним горячо на позициях? – отвечала она фронтовикам. – У нас тут орудия не пуляют, а тоже припекает. Думаете, сладко нам, бабам, мужчинскую вот эту работу делать? Покрутись-ка одна! Баба и тут на путях, и на поле с матушкой-сохой, а там ребятишки галдят: дай им кусок. А где его возьмешь, когда ни к чему не подступишься? Керосин вздорожал, на сахар только издаля глядим.
Иногда солдаты из стоявших эшелонов делились с нами пайковым хлебом, сахаром, совали котелок супа или каши. Некурящие дарили пачку махорки, и она тут же шла по рукам, все мужчины крутили «косоножки».
Работать я всегда старался изо всех сил, чтобы «не опозорить земляков», как наказывал старый мастер Мороз. Случалось, более состоятельные артельщики за это давали мне добрый ломоть хлеба, а то и шматок сала. А тут однажды немолодой, чахоточного вида солдат смотрел-смотрел на мою работу да и сказал:
– Стараешься ты, вижу, парнишка, а вот из лаптишек никак не вылезешь. Аль семья большая, на сапоги не сколотитесь? Да и портки холщовые…
Я застеснялся. За меня ответил односельчанин: мол, деньги дешевеют, что купишь на те рублишки, что мы тут зарабатываем? Солдат постоял-постоял да и ушел к своему вагону. Я забыл о нем, продолжал таскать на носилках землю, когда он вдруг появился вновь. В руках у него были еще крепкие сапоги со сбитыми каблуками и какой-то сверток, вроде скатанной одежды.
– На, малый, – сказал он, – носи на здоровье.
Я глазам своим не поверил. Не шутит ли солдат? Ведь он меня впервые видит.
Оставили работу и окружавшие нас.
– Что же ты стоишь, Васька? – сказала мне соседка. – Бери, раз дает человек.
Я взял сапоги, сверток и так смутился, что даже забыл поблагодарить. Сапоги! Сколько о них мечтал, поступая на работу, думал: получу жалованье, куплю новые, со скрипом. Ан из этого ничего не вышло. Семье жилось все труднее и труднее, все чаще приходилось нам хлебать пустые щи, а братишки бегали полуголые. И когда я принес первую получку, то тут же отдал всю ее матери. «Что ж мы тебе, сынок, купим?» – сказала она, заалев от радости. Я лишь рукой махнул: берите на харчи. А теперь вот сапоги, пускай и старые, истоптанные, были в моих руках.
– Поблагодарствуй хоть, – подсказали мне женщины.
Я что-то пробормотал, покраснев, точно бурак. Солдат тихо проронил:
– Думал меньшому брату отдать, да отписали из деревни: весной от голодухи помер.
В свертке оказались засаленная гимнастерка и штаны. Мать мне постирала это добро, подлатала, и я стал щеголять как в обновках.
Не только мне посчастливилось так, и другие солдаты давали ребятам одежду: то пару истоптанных ботинок, то засаленную, жесткую от пота гимнастерку, то папаху, а иногда и дырявую, прожженную у костра старую шинелишку.
Постепенно все мы приоделись в старое, великоватое для нас военное обмундирование. Те же, кто отдавал семье не все деньги, по дешевке мог купить на привокзальном базарчике и гимнастерку поновее, и обмотки, и башлык, и желтое бязевое солдатское белье.
Уже на второй год работы старые путейцы-строители взяли меня, как теперь бы сказали, в штат артели. Из сезонника я превратился в постоянного, кадрового путейца. Работа интересовала меня, я старался вникнуть в ее тонкости, секреты, никогда не отказывался от того, что меня заставлял делать старшой: видимо, это оценили. Я стремился ни в чем не отставать от взрослых, во всем им подражал.
Так я получил квалификацию по ремонту и прокладке сложного путевого хозяйства и мне положили одинаковое со всеми жалованье.
Скоро я понял, что артельный староста и дорожный мастер вполне мне доверяют.
К нам часто на черную работу присылали новичков, и однажды мастер сказал мне:
– Поручаю тебе их, Василь. Командуй и… одним словом, доглядай.
Потом произошел случай, который еще выше поднял в артели мой авторитет. Среди рабочих давно шел ропот из-за того, что некоторые чиновники, приставленные к нам для учета, делали приписки объема выполненных артелью работ, а при расчете со строителями весь этот излишек, а заодно и часть причитающихся нам денег клали себе в карман. Многие рабочие были полуграмотные и лишь с трудом выводили в ведомости свою фамилию, некоторые же просто ставили крестик. А кто знал арифметику и замечал обман, боялся выступить против чиновников: еще уволят за дерзость, дома же семья, голодные ребятишки.
И вот при выдаче жалованья, когда нас опять хотели обсчитать, я громко сказал:
– Нам не по четыре рубля двадцать копеек надо. Мы заработали по пять шестьдесят три.
Пожилой чиновник сердито поднял на свой морщинистый лоб очки в железной оправе, оторвался от разложенной на столе ведомости, рыкнул:
– Это кто такой грамотный?
Я чуть выступил вперед:
– Подсчет у вас неправильный.
Вокруг толпились рабочие, смотрели угрюмо, пытливо. Перетрусил ли чиновник или понял, что время тревожное, война, вокруг ходит много солдат из эшелонов, только он не цыкнул на меня, не обрезал. Лишь, забегав рысьими глазами, пробормотал под нос:
– Мал еще, утри сопли сперва. Всякий лезет тут с поправками.
Все же взял лежавшие рядом счеты, стал перебрасывать черные и желтые костяшки. Потом пробормотал с видом человека, который обнаружил что-то неожиданное:
– Действительно, вкралась ошибка. И как это я не увидел?
И выплатил правильно.
После этого взрослые артельщики подходили ко мне, хвалили за смелость, правдолюбие, предлагали в награду чарку. А наш заградский, пожилой, степенный Василь Хоцын, сказал:
– В свой корень удался, Василь. У вас и дед-покойник был правильный, и весь род.
И все-таки на свою работу я смотрел, как на временную. Меня не покидала надежда либо попасть в паровозное депо, либо стать к станку рядом с моим односельчанином Мишкой Столяровым, получить квалификацию слесаря. Через слесарное ремесло я мечтал шагнуть в будущем к «стальному коню». Брат Федор тогда уже работал в мастерских и говорил домашним, что метит в помощники машиниста.
4
Пристанционный базар. – Нищему пожар не страшен. – «Всем надо собираться, как прутьям в один веник». – Царя свергли, а живем по-старому. – Я впервые вижу большевика. – Избрание Жлобинского Совета рабочих и солдатских депутатов. – Делегатский поезд.
Все ниже падал обесцененный царский бумажный рубль. До войны я считал рубль огромным богатством и видел его лишь у чужих людей. А теперь мне доводилось держать в собственных руках и побольше денег, но купить на них можно было совсем мало. В Жлобине появился совсем другой вид торговли – мена.
На пристанционном базарчике, а то и просто среди эшелонов всегда толпился народ: солдаты из стоявших на путях воинских эшелонов, беженцы, пассажиры, ожидавшие пересадки, рабочие из депо, местные крестьяне, какой-то пришлый люд, неизвестно чем живший. Каждый что-то покупал, продавал, но взять старался не бумажные кредитки, а натуру. За буханки хлеба, куски густо посоленного сала, сахарные головы в синей оберточной бумаге получали новые солдатские сапоги, тупоносые австрийские ботинки, гимнастерки. Меняли платки, махру, отрезы ситца. Все это делалось тайком, из-под полы, чтобы не видели офицеры или станционные жандармы.
Впоследствии об этой бойкой торговле начальство узнало, но уже ничего поделать не могло.
Не однажды на пристанционном базарчике толкался и я с товарищами. Интересно было посмотреть разный люд, послушать, о чем толкуют. Подвыпившие солдаты не боялись открыто ругать порядки.
Меня поразил один из них, с георгиевским крестом на широкой груди. Солдат был в шинели, накинутой на плечи, в грязных сапогах, рука висела на перевязи. Рябое горбоносое лицо от выпитого раскраснелось, зоркие черные глаза смотрели смело, пронзительно, и говорил он громко, не заботясь о том, кто его услышит. Вокруг собрались слушатели и просто зеваки.
– Многие в тылу кричат «за веру и царя». Многие. Особливо, кто с интендантами заодно. Им выгодно, пускай солдаты кровь проливают. Не своя кровь – чужая. А в это время им золото в карманы льется. Аль плохо? Мы ж в окопах по колено в воде сидим, крысы по нас бегают. Называется воюем – только чем? Снаряды пришлют, а они к орудиям не подходят. Сапоги выдадут, как попали в дождь – подметки расползаются. Картонные. Сухари плесневелые привозят. А деревни обезлюдели. Баба сеет, баба жнет, баба подати несет.
– Жандарм, – негромко предупредил чей-то голос.
Рябой солдат глянул в сторону медленно подходившего блюстителя порядка, зло, многозначительно бросил:
– Вот такие… фараоны рот всем запечатывают. Ну, да не всегда коту масленица – гляди, как бы пост не наступил.
И как бы нехотя, вразвалку направился к вокзалу, затерялся среди солдат.
Много тогда пришлось слушать рассказов о храбрости русских воинов, о бездарности генералов. Впервые стали появляться туманные слухи о взяточничестве, об измене военного министра Сухомлинова. Намекали, что, мол, царица-то немка, а он с ней в сговоре. Много толков было о «святом старце» Григории Распутине, о его влиянии на Николая Второго, об оргиях, которые этот бывший сибирский конокрад устраивал с придворными дамами.
Все заметнее становилось брожение и в нашей местности.
Помещик Цебржинский взял на работу в свое огромное имение полтысячи австрийских военнопленных. Военнопленные были самой дешевой рабочей силой. После этого Цебржинский уже более не нуждался в наемных батраках из соседних деревень и в беженцах. Среди уволенных поднялся ропот.
– Женщин повыбрасывал на улицу, будто сор какой, – толковали в народе. – А за что им хлеб покупать? Чем детей кормить? Мужья на фронте, иных уж нет, а панам лишь бы мошну набить потуже.
Но всесильный, спесивый магнат оставил без внимания проявления недовольства.
Больше того, под предлогом, что ему нужны помещения для военнопленных, решил выселить из фольварка прежних батраков-беженцев, а дома переделать в казармы. Беженцы заволновались, ходили объясняться в контору.
Управляющий, толстый поляк с холеными усами, ходивший со стеком, которым иногда хлестал женщин и ребятишек, вскочил из-за стола.
– Бунтовать вздумали?! Вы у меня за это поплатитесь.
– Нам терять нечего. Нищему пожар не страшен.
– Красным петухом грозите? Или давно вам казаки спины не чесали нагайками?
– Пугаете нас, пан управляющий. Только весь народ не перепорете. А справедливости мы добьемся.
Часть беженцев разбрелась по соседним деревням, ища крова у мужиков. Другие остались ночевать под открытым небом у болота, до утра жгли костры. Управляющий вызвал объездчиков и поручил им зорко охранять имение.
Наутро по просьбе Цебржинского местный полицмейстер Климов затребовал из уездного города Рогачева отряд жандармов. Среди уволенных начались аресты. «Зачинщиков» – нескольких вернувшихся по ранению фронтовиков и женщин-беженок – под конвоем отвезли в уезд, заключили в тюрьму.
Помещик хотел запугать «холопов», а вышло совсем наоборот: бывшие батраки устроили сходку, потребовали вернуть им жилье, работу. Угрожающие выкрики долетали и до панского замка.
В окрестных деревнях внимательно следили за событиями. Отец в эти тревожные, полные напряжения дни ходил еще более суровый, сумрачный. При мне он говорил соседу:
– Похоже, Цебржинский осекся на этот раз. Не удастся ему отыграться на мужицких спинах. Время не то. Народ озлоблен: слышь, какие речи говорят? Того и гляди за вилы возьмутся, как в девятьсот пятом. Разнесут усадьбу. Да сколько солдат на станции. С оружием. Думаешь, их жандармы не боятся? Ведь мужья-то у баб, которых пан выгнал, на фронте!
Я тоже с волнением наблюдал, как развертываются события. На моей памяти таких «беспорядков» наша округа еще не знала. Я смутно понимал, что каким-то образом события в поместье имеют отношение и ко мне. Я тоже чувствовал себя крошечной частичкой трудового народа. Сумеют ли люди отстоять свое достоинство, права? Перестанут ли наконец с ними обращаться, как с бессловесным рабочим быдлом?
Мне запомнились слова отца, сказанные угрюмым и решительным тоном: «Сейчас такое время: всем надо собираться, как прутьям в один веник. Так-то нас не сломаешь. Говорил я тут кое с кем, поддержим батраков».
Местные власти не решились действовать круто.
Арестованных вскоре выпустили, и пан Цебржинский вынужден был принять обратно на работу большинство уволенных и снова разместить их в фольварке.
Стремясь ослабить возмущение батраков, сгладить у окрестного населения впечатление от произвола, Цебржинский решил устроить «зрелища». Рядом с лавкой торговца Менделя и полицейским участком он приказал военнопленным австрийцам по воскресным дням давать концерты оркестра.
Летними вечерами веселые подмывные звуки созывали народ. Послушать музыку и потанцевать приходили девушки, парни, молодые солдатки и, как всегда и везде, вездесущие мальчишки. Мы дивились на пленных, на огромный барабан с медными блестящими тарелками и особенно на «скрипку-корову» – так у нас называли контрабас, до этого не виданный в наших местах. На «корове» играл громадный рыжий и сутулый австриец с закрученными усами, немного знавший русский язык. «Здоровый девушке» – так обычно с улыбкой приветствовал он своих слушательниц.
Оркестром дирижировал низенький толстый австрияк в мундире мышиного цвета. Он важно размахивал короткими руками. На нас, мальчишек, посматривал презрительно и не позволял трогать музыкальные инструменты. «И чего размахался? – размышляли мы. – Без него, что ли, не сыграют? Еще поправляет всех…» Обычно возле оркестра стояли два-три вооруженных русских солдата – конвоиры.
И австрийские песни, и музыка были чужды нам. Запомнилась лишь песенка, которая называлась, кажется, «Красавица Ойра», близкая по ритму к славянской народной музыке. Да еще остались в народе веселые анекдоты о рыжем австрийце и пузатом дирижере.
Военнопленных из имения убрали сразу после Февральской революции. Почти вслед за ними уехал и сам помещик Цебржинский со всей семьей и приближенной челядью: вероятно, испугался народной расправы, решил за границей переждать «смуту». С тех пор мы его больше и не видели. В имении остался управляющий, приказчики, объездчики во главе с бывшим гусаром, двухметровым Антоновым. Они наблюдали за работами на полях, в фольварке, по-прежнему строго оберегали панский дом, лес, добро, а полученные деньги отправляли в банк.
Весть о свержении царя всех ошеломила. Кумачовые банты прикололи себе и рабочие-путейцы, и солдаты, и лавочники, и кое-кто из начальства, и даже лица духовного звания.
– Теперь живи как хошь, – раздавалось отовсюду. – Царя нету. Свобода.
– А стражники?
– Говорят, в Могилеве народ самосудом решил расправиться с квартальным.
Лишь церковный староста укоризненно качал головой и говорил, что быть беде: как же это можно жить без царя? Искони Русь святая держалась на вере да престоле. Старухи предсказывали конец света, судачили, что в народе появился антихрист, именно сейчас ему исполнилось тридцать три года и он начал мутить православных.
Все вокруг бурлило. На станциях митинговали солдаты, требовали немедленного конца войны. Их перебивали офицеры, призывали сражаться с немцем «до победы». Тут же выступали транспортники: требовали действительного равноправия, улучшения жизни. А белорусские буржуазные националисты ратовали за отделение от России.
Работы на путях, по существу, прекратились, составы простаивали сутками.
Подошла весна, растаял снег, набухли, лопнули почки на березах вдоль Екатерининского тракта, а все шло по-старому. Управляющий пана Цебржинского так же заставлял батраков строго выполнять работы; так же торговал прижимистый Мендель в своей лавке; стражники важно расхаживали в красных повязках, да еще появилась милиция; по-прежнему служил в церкви поп Страдомский. Жизнь дорожала от базара к базару, рабочие и крестьяне питались еще скуднее, чем раньше. Чувство какого-то великого обмана стало охватывать народ. Ну вот и свобода, а что же изменилось? То, что каждому стали говорить «гражданин» да красные банты нацепили? Кто жил хорошо, тот и живет хорошо, а кто плохо, так и не простился с нуждой.
А война продолжается, рекой льется кровь…
Через рабочих, приезжавших из Гомеля, Харькова, до нас доходили слухи о революционном брожении в Петрограде, Москве, в других промышленных центрах России. Знали мы о забастовках, кое-что о социал-демократах, слышали о Ленине.
И вот наконец у нас на Жлобинском узле состоялось большое собрание. К депо сошлось больше тысячи транспортников, представителей всех служб узла, рабочих из мастерских, путестроителей. Из эшелонов привалило множество солдат; были и мужики из соседних деревень. Громадная толпа гудела, бурлила, в ней чувствовалась великая сила.
На этом митинге я впервые увидел большевика – члена Полесского комитета РСДРП(б) и глядел на него во все глаза. Рядом с ним стоял всем нам хорошо знакомый Карпович, пожилой приземистый котельщик нашего паровозного депо, участник событий 1905 года. Лишь теперь мы догадались, что наряду с другими большевиками-подпольщиками Карпович проводил большую работу на железнодорожном узле. Лишь теперь все поняли, почему он так часто и подолгу задерживался с рабочими в депо или на путях, заводя острые, смелые беседы, почему толкался среди солдат у эшелонов, иногда присаживаясь похлебать из их котелка.
– Вон какой головастый человек с нами живет, – тихонько переговаривались два слесаря, – А нам-то с тобой и невдомек было.
На Карповича смотрели так, будто только что его увидели.