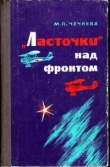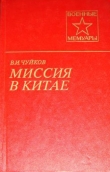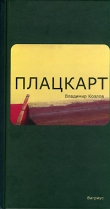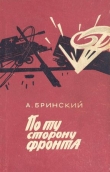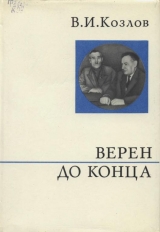
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
6
Кайзеровская Германия перешла в наступление. – Снова наша власть. – Подручный слесаря. – Я слушаю М. И. Калинина. – Кончина отца.
Затишье у нас длилось недолго. Едва отгремели бои с польскими легионерами, как над молодой Советской республикой нависла еще более страшная опасность: вероломно нарушив договор о перемирии, кайзеровская Германия начала новое наступление по всему фронту, и вскоре ее полчища захватили Минск, ряд других белорусских городов.
И вновь народ доказал свою верность рабоче-крестьянскому революционному правительству. Началась всеобщая мобилизация, везде возникали отряды добровольцев.
Весной 1918 года германские войска оккупировали Жлобин. Окрестные деревни притихли, затаились. Радовались одни богатеи: им будь кто хочешь, только бы не «совдепчики».
Даже после подписания в марте в Бресте мирного договора немцы продолжали хозяйничать у нас до самой осени, вплоть до его аннулирования Советским правительством.
Вся Белоруссия с облегчением вздохнула, когда наконец серо-голубые полчища в остроконечных касках покинули наши края.
У нас в жлобинском депо сразу началось восстановление разрушенного войной хозяйства. Ремонтировали разбитые паровозы, чинили покалеченные вагоны, восстанавливали водокачки, путейское хозяйство. Угля на железной дороге совсем не было. Сотни рабочих, крестьян из окрестных деревень были направлены в ближайшие леса на заготовку дров; этими дровами загружали тендеры восстановленных локомотивов, и они уходили в рейсы с нашего узла по всем направлениям.
Незаметно наступила весна нового 1919 года. Подтаявший снег захлюпал под ногами; под крышами на солнечной стороне выросли сосульки, зачернели, обнажились бугорки, особенно те, на которых лежали шлак, угольная пыль. В эти дни исполнилась моя долгожданная мечта: меня приняли в паровозное депо.
– Пока будешь на черной работе, – сказали в конторе. – Других мест нет.
– А после поставите обучать на слесаря? – с надеждой спросил я.
– Куда ж от тебя денешься, – развел руками деповский мастер.
Вообще-то я не оставлял и думку стать машинистом, водить пассажирские поезда (а то хоть и товарные), побывать в разных городах – Могилеве, Бобруйске, Киеве, Петрограде, добраться когда-нибудь до самой Москвы. Кремль мне снился не один раз, снился Ленин. Хоть бы одним глазком увидеть!
Пока же мне дали метлу и лопату. Таскал я буксы по подъездным путям, но уже твердо знал: пройдет еще немного времени, и я попаду к верстаку, тискам.
С полгода всего минуло, и меня из чернорабочих перевели подручным слесаря.
Величественные, грозные события тем временем сотрясали молодую Советскую республику. Мировой империализм всячески старался уничтожить новый правопорядок в России, сломать его нападениями извне, взорвать изнутри.
Помещичья Польша бросила против нас свежую армию. Армия эта заняла рубежи по реке Березине, оккупировав значительную часть Белоруссии. Наш Жлобин снова стал прифронтовым городом.
Его еще больше забили воинские составы, бронепоезда, кавалерия, пехота. С платформ торчали дула орудий, из дверей вагонов выглядывали стволы пулеметов. Куда ни глянешь – всюду красноармейцы.
Плакаты висели на станции, в пристанционном поселке, на заборах, на стенах домов: «Все для фронта!» И тут же рядом: «Все для народного хозяйства и преодоления разрухи». Много их было. На одном красноармеец в шлеме поднимает на штык толстого буржуя. На другом – от рабочего и крестьянина во всю прыть бегут генералы, попы, кулаки. На третьем – кузнец кует железо, «пока оно горячо». Много тогда появилось брошюр, написанных понятным, доходчивым языком. Мы, молодые рабочие, с жадностью их читали. Вообще, к чтению политической литературы потянулись все, кто разбирал «азы». Далеко не все я понимал в напечатанных статьях, запинался на иностранных словах: «империализм», «экспроприация», «аннексии и контрибуции», «шовинизм», – я не говорю о таких словах, как «интернационал», «революция», – эти нам стали родными. Все же суть написанного до нас прекрасно доходила, мы ее понимали «нутром».
На всю жизнь остался у меня в памяти июнь 1919 года: к нам в Жлобин приехал агитпоезд «Октябрьская революция». Тысячная взволнованная толпа забила перрон, пути – так народ встречал вновь избранного, вместо покойного Свердлова, председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина. Конечно, и я с товарищами был на митинге, слушал речь Калинина, радовался и аплодировал, не жалея ладоней.
– Теперь вы, рабочие и крестьяне, сами хозяева своей страны, – говорил он. – Поэтому ваше кровное дело защитить ее от происков Антанты…
Возвращаясь гурьбой домой, мы с товарищами горячо обменивались впечатлениями о митинге.
– Погляде-ел на Калинина, – с довольным видом говорил один. – Послу-ушал. Хоро-ошую речь сказал. Правильную, все в точку. А совсем простой. В рубахе-косоворотке…
– А каким ему быть? – подхватил другой. – Обыкновенный рабочий. Как мы вот с вами. Металлист с Путиловского.
– А теперь председатель ВЦИК. Вот это своя власть!
Да, все мы знали: власть теперь народная, рабоче-крестьянская. И от нас, именно от нас, зависит, удержим мы ее или нет, создадим себе свободную от кабалы жизнь или не создадим.
Свобода в опасности – значит, отдай за нее все, если надо – и жизнь.
Мы, парни, не подошедшие по возрасту под мобилизацию, чуть не круглые сутки проводили в мастерских депо. Гудели станки, шелестели трансмиссии, летела стружка, стучали молоты, шаркали напильники; день и ночь шла работа. Мы помогали взрослым восстанавливать паровозы, разрушенное хозяйство нашего железнодорожного узла, не всегда спали дома – иногда урывками в мастерской на верстаке, где-нибудь у топки еще не остывшего паровоза. И никому из нас это не было в тягость. Мы ни в чем не хотели отставать от рабочей гвардии – отцов, старших братьев, учились у них, подражали им.
У нас на Жлобинском узле железнодорожники организовали массовые субботники, воскресники. Мы очищали пути от мусора и завалов, собирали металлолом, разбросанный по всем путям, меняли шпалы. Трудовые отряды выезжали на разъезды, на близлежащие станции отгружать топливо для Москвы, Петрограда – так мы отвечали на призыв Ленина, донесенный газетой «Правда»: «Все на борьбу с топливным кризисом!»
Такая же напряженная жизнь текла и у нас дома. Отец перешел работать в комбед и пропадал там целыми днями. Он с активом собирал по деревням продукты для Красной Армии, фураж. Проводил мобилизацию взрослого населения на заготовку в лесах топлива, вывозку его, размещал по дворам на постой передвигающиеся войска, обеспечивал их фуражом, продовольствием, подводами.
Не отставала от него и мать. Покормив детей, она набрасывала платок и бежала в сельсовет. Оттуда вместе с женщинами шла по избам собирать теплые вещи для фронтовиков и раненых бойцов, выхаживала заболевших тифом. Наладила помощь семьям фронтовиков, многодетным вдовам.
Бывало, придет домой, сядет на лавку и сидит не шевелясь минут десять.
– Устала, мама? – спросит кто-нибудь из детворы.
Она встрепенется, поправит платок на голове:
– Я-то? Да что вы! Так просто. Прибежала узнать: как у вас? Надо еще к соседке заглянуть: приболела, детки голодные, корову подоить некому.
В начале 1920 года белопольские оккупанты-пилсудчики форсировали Березину и опять пытались захватить Жлобин. Однако и на этот раз Красная Армия отбросила их назад. Все же несколько дней в наших деревнях легионеры похозяйничали. На железнодорожном узле вся молодежь, способная носить оружие, перешла на казарменное положение. Были созданы отряды из рабочих для сопровождения пассажирских поездов, эшелонов с воинскими грузами.
Наши парни оставались на круглосуточную охрану мостов, полотна железной дороги. Вот тогда-то как член рабочей дружины получил винтовку и я. Вокруг шныряли бело-польские диверсанты, недобитая «контра», надо было зорко глядеть в оба.
Семью нашу постигло большое горе. Легионеры схватили моего отца, били, жестоко издевались над ним. Потом нам передали, что его кто-то выдал: «Иван Козлов у красных в Заградье первый заправила. Он-то и делил панские угодья, выгребал хлеб». Из лап врага отец вырвался еле живым. Когда осенью у нас началась эпидемия тифа, ослабевший отец не перенес болезни и скончался.
В октябре этого же 1920 года после предварительного договора с Польшей о мире в нашей части Белоруссии, к общей радости населения, окончательно установились советские порядки.
На первой после смерти отца сходке мою мать Марию Ивановну Козлову избрали делегаткой от женщин в местный Малевичский сельсовет, а затем и депутатом.
7
Опора семьи. – «А что, Василь, творится в мировом масштабе?» – Картежника из меня не получилось. – Комсомольская ячейка. – «Пусть вам будет сладко!» – Служба в армии.
Без отца жить нам стало еще труднее, чем раньше. Время было суровое, голодное, давала себя знать жестокая разруха. Не хватало семян, сельхозинвентаря, рабочих рук, а тут еще недород, болезни.
Хлеб пекли с мякиной, с примесью картошки, с лебедой; за деньги даже и такой не всегда можно было достать. По вечерам мать жаловалась, что совсем «без силенок осталась». Работала она не покладая рук. Мы стали ей помогать еще больше, распределили между собой обязанности. Знали, кто пол должен мыть, кто выносить золу из печки, кто рубить дрова. Ребятня меня слушалась.
Новая экономическая политика оживила торговлю. Начали восстанавливать заводы, фабрики, привели в порядок Жлобинский железнодорожный узел, деповские мастерские.
Постепенно оправлялась и деревня, появились хлебушек, сахар, постное масло. Народ стал забывать о горестях войны.
Я продолжал работать слесарем, зарабатывал неплохо. У нас в доме вышло так, что всю надежду мать возлагала не на старшего, Федора, а на меня. Я это чувствовал и, признаться, гордился доверием матери. Что бы она ни собиралась делать: купить ли сестренке ситцу на платье, подправить ли сарай, раздобыть сена для коровы, – всегда советовалась со мной. Зная, что на моих плечах вся семья, я получку и хлебный паек, что нам, рабочим, выдавали раз в месяц, полностью отдавал матери. Никогда себе ничего не оставлял.
Конечно, мать понимала, что я уже вырос, девушки на меня поглядывают, и я на них кошусь, хочется мне приодеться, выглядеть достойным рабочего звания. И она все обещала справить мне хромовые сапоги, брюки, сатиновую рубаху, кепку. Да откуда возьмешь денег? Все уходило на хозяйственные нужды. Мало ли дыр в хозяйстве? То сена нужно купить корове, то стекло в избе вставить, то обувку починить, взять в кооперативной лавке мучицы, сахару.
Некоторые мои друзья носили зефировые рубахи в полоску, сапоги, поддевки с бараньим воротником, косыми карманами, широкие кашне в клетку, а я единственное, что мог завести, – модную прическу «политика»: зачесывал волосы кверху. Из лаптей, правда, вылез, но сапоги носил юфтевые, смазанные дегтем, штаны хоть и чистые (мать всегда обстирывала аккуратно), да зато ношеные-переношенные, и замазанный на работе кожучишко.
Бывало, кто из друзей – Андрюшка Будник или Федька Губарев – скажет:
– Айда к Ехле, возьмем в долг бутылочку. Первач у нее – аж дых перехватывает.
Я бы, может, и пошел и выпил чарочку, но как подумаю: истрачусь, а какими глазами мать посмотрит, что потом будем есть? – и откажусь. Но отказывался не только по этой причине. Тянуть в пьяной компании слово за словом, переливать из пустого в порожнее? Уж лучше я займусь тем, к чему рвался всей душой: почитаю газету, новую брошюрку, схожу в комитет комсомола, может, будет какое интересное собрание.
Где-то в Кашире строили первую в Советской России электростанцию. Казалось бы, какое мне дело? До нее чуть не тысяча километров. А я радовался, рассказывал о ходе строительства ребятам. Начали организовывать коммуны в бывших панских имениях – и это волновало, потому что приближало к коммунизму, о котором мечтали. Бастовали горняки Уэльса в далекой Англии – и это не оставляло равнодушным. Революцию я принял каждой своей жилкой, ведь теперь у нас все делалось для народа, и поэтому как же можно было мне, выходцу из трудовой гущи, стоять в стороне от важнейших событий на земном шаре?
И товарищи привыкли к такой моей черте. Бывало, кто что хочет узнать о «текущей политике», обращаются ко мне:
– А что, Василь, творится в мировом масштабе?
– Конференция в Гааге. Наш Чичерин кроет буржуев.
Я сам не знал толком, что такое «международная конференция», как она проходит, где находится Гаага, но это меня мало смущало. Главное, что мы прорвали блокаду, «санитарный кордон», и капиталистические державы – Германия, Франция, Англия вынуждены нас признать!
В те годы меня не пугали никакие трудности. Осень. Приду домой с работы поздно. Темно. Коптит лампенка с треснувшим стеклом. В хате те же подслеповатые окошки, натертые до блеска нары, на которых сбились в кучу младшие. Я, бывало, обниму за плечи Павлушу и Володьку и начну им рассказывать, что теперь вот скоро и мы дождемся красных деньков. В городах новые большущие заводы построят, клубы, как дворцы, в деревнях – коммуны, и тогда все-все заживут счастливо.
– Сахару тебе захочется, Павлуха, – бери хоть фунт и соси целый день.
– Когда? – уточнял практичный братишка.
– Да скоро. Вот только сперва социализм построим.
– А мне дадут тогда игрушечного коня?
– Все дадут, чего захочешь. Скажут: вот тебе квиток на руки, ступай в лавку и выбирай.
Я глубоко верил в то, что говорил. Эта вера и помогла нам перенести все трудности разрухи, помогла строить фундамент нового общества.
Деповские парни иногда надо мной подсмеивались. Были у нас такие ребята, которых не привлекала общественная работа, не интересовала политика.
– Ты, Василь, будто монах, – с насмешкой говорили они мне. – Или комиссаром хочешь стать?
Задевали их издевки за живое. Думаю: может, и в самом деле упускаю я в жизни самое интересное?
И вот, помню, получили мы получку. Ребята предложили выпить пивка, сели играть в карты – в очко. На этот раз согласился и я. И уж не знаю, как это вышло, но проиграл я все дочиста. Сижу, будто меня крапивой натерли, горю весь и думаю: что же теперь делать, что я скажу матери? Мать, может, меня и ругать не станет, но только представлю ее грустные, удивленные глаза – и на свет бы не глядел! А тут еще вспоминаю про младших братишек и сестренок. «Отыграться надо. Во что бы то ни стало отыграться. А то хоть и в деревню не возвращайся. И зачем, дурень, сел?» Тогда я попросил Федьку Губарева:
– Дай трешку в долг.
– Зачем? Еще больше продуешься.
И опять стал сдавать.
Не знаю, то ли поскупился он дать взаймы, то ли в самом деле пожалел меня. Я попросил у другого – Павла Козлова.
– Когда играю, отцу родному не дам копейки, – ответил тот. – Примета дурная, сам без гроша останешься.
Я обратился к Павлу Старостенко. Он дал без звука.
Опять стали играть. До сих пор, когда вспоминаю тот день, удивляюсь. Наверно, у меня все чувства обострились – по лицам партнеров читал, у кого какая карта, или судьба ко мне повернулась лицом, только стал я выигрывать. Смотрю, все и разговаривать перестали, сидят серьезные, глаза горят, кое у кого даже руки трясутся.
И вот гляжу – уже Федька Губарев по карманам шарит, кривит губы. Посмотрел на меня, и я прочитал у него в глазах: мол, дай теперь мне трешку. Но сказать все-таки он не решился. А Павлуха Козлов попросил. Ответил я ему тем же, что и он: примета плохая. Лишь Павел Старостенко сидит и улыбается, он по характеру был малый веселый.
– Здорово ты нас, Василь, – сказал он.
– Да, уж поддел…
Вижу, сидят ребята понурые, друг на друга не смотрят. Я тогда собрал деньги, аккуратно сложил рубль к рублю. Серебряной и медной мелочи набралась целая горсть. Встаю веселый. Косятся они на меня, тоже начали подниматься.
– Ну, – говорю, – кто сколько проиграл? Только чур не брехать.
И вот они один за другим стали называть суммы. Да тут, собственно, долго считать не приходилось, мы все знали, кто сколько зарабатывал. Выслушал я и смеюсь:
– Сейчас проверим.
Смотрят они на меня, не понимают. Уж не издеваться ли я над ними вздумал? Я послюнявил пальцы, пересчитал деньги. Правильно вышло, не соврали. Тогда повернулся к Павлу Старостенко и говорю:
– На, держи свои. Точно? На теперь ты, Федя.
И всем вернул, кто сколько проиграл.
Смотрят они опять на меня во все глаза, будто ничего не понимают. Но я вижу, лица посветлели.
– В долг, что ли, даешь? – нерешительно спросил кто-то.
Я спрятал свои деньги в карман, надвинул потуже кожаный потрепанный картуз и сказал:
– Баста. С этого дня карты в руки не беру. Вам тоже не советую. Дома-то семья у каждого, на нас как на кормильцев смотрят. Да разве такой выигрыш мне в карман полезет?
И разошлись по домам.
В Жлобине среди деповских ребят уже были комсомольцы. Вся наша передовая молодежь мечтала получить красный эмалевый значок с золотыми буквами «КИМ» и членскую книжечку. Но в окрестных селах членов союза молодежи еще не было.
В 1923 году из рабочей молодежи и крестьянской бедноты мы организовали инициативную группу. В нее вступили пятнадцать наиболее активных ребят. Вскоре из этой группы в нашей деревне выросла первая комсомольская ячейка. В состав ее бюро был избран и я.
Комсомольцы принимали участие в текущих кампаниях – выходили дружно на воскресники, устраивали рейды «легкой кавалерии», организовывали антирелигиозные шествия под пасху или рождество, спектакли, читку газет.
О чем только не говорилось на шумных собраниях, которые устраивала комсомолия! Мы обсуждали, как работают наши ребята в мастерских, в подшефных селах, какими должны быть отношения в новой, советской семье. Допустимо ли в наше время иметь золотые зубы, поскольку золото – признак буржуазности? Имеет ли право девушка носить перстень, а парень – галстук? Не мещанство ли это?
Театров или кино у нас тогда не было. Откуда им взяться на железнодорожном узле или в таких деревушках, как Заградье, Малевичи? Но везде говорили о просвещении населения. Да и нам самим хотелось жить культурно. И вот в это время расцвела самодеятельность – «Синяя блуза», постановки революционных пьес. В то время не пойдешь в местком или сельсовет, не скажешь: выделите деньги на стулья, на занавес, на костюмы. Мы все хорошо знали: лишних средств для нас у республики нет. Сколько безжизненных паровозов еще стояло на «кладбищах», в тупиках около депо. Еще многие пути надо было восстанавливать. Сколько забот было у государства – возродить заводы, транспорт, дать деревне плуги, гвозди, ситец! Для клубов, народных домов, изб-читален средств оставалось совсем мало.
Накануне одного из «святых» праздников наша комсомольская ячейка решила провести диспут и поставить антирелигиозный спектакль. В качестве реквизита наши ребята взяли из церковной сторожки старый поповский подрясник – «напрокат». Зрителей в клуб, или, как тогда говорили, в нардом, собралось уйма, конечно, в основном молодежь.
Узнав о предстоящем спектакле, церковный староста поднял скандал и пошел жаловаться на наше «самоуправство» в сельсовет. Возглавлял сельсовет тогда наш дружок, толковый грамотный комсомолец Гриша Бойкачев.
– Что будем делать, Василий? – спросил он меня.
– Семь бед – один ответ, – махнул я рукой.
– Значит, кроем дальше?
И пока церковный староста обивал в Совете пороги, наши артисты все-таки выступили на сцене. Роль попа исполнял здоровый краснощекий комсомолец Яша Хромов. Он прыгал по дощатым подмосткам, тряс косичкой, сделанной из пеньки, говорил дребезжащим козлиным голосом, дико вращал глазами и вызвал у зрителей много смеха и аплодисментов.
Сразу после спектакля мы отнесли подрясник в сторожку.
В награду за свой бескорыстный труд мы получили не только аплодисменты. Богомольные женщины, особенно старухи, на улице встречали нас осуждающим взглядом, посылали вслед проклятья.
Церковники пожаловались на вожаков ячейки, и секретарь Жлобинского райкома партии, бывший путиловский рабочий Зеленковский, крепко взгрел председателя сельсовета Григория Бойкачева как «официальную власть». Комсомольцам пришлось собирать закрытое собрание, перестраивать работу.
В клуб на наши спектакли художественной самодеятельности, на модную тогда «Синюю блузу» захаживало все больше и больше народу. Постепенно потянулись на огонек и те, кто прежде стеснялся или боялся запрета домашних.
Весной комсомольцы окрестных деревень запахали на землях малевичского попа «ленинскую десятину», засеяли ее овсом. На вырученные с урожая, деньги они купили грим, книги для своей библиотеки, а также буквари, по которым решили учить неграмотных.
В 1924 году я женился.
Еще в школе со мной училась односельчанка Фрося Бойкачева. Я и не заметил, как она выросла. Потом мы стали «гулять» и наконец решили пожениться. Парень я уже был совсем взрослый: двадцать один исполнился. В наших краях, да и вообще в деревне женятся куда раньше. Иного, чтобы «не забаловал», родители засватают в шестнадцать-семнадцать лет. Попу долго ли? Пропел «Исайя, ликуй», обвел вокруг аналоя и – прощай жизнь холостяцкая!
Мать моя не возражала, даже обрадовалась: давно, мол, подоспела пора. Фросю Бойкачеву она знала, девушка была ей по душе. «Места в хате хватит», – сказала она.
Хуже обстояло с родителями Фроси. Они были середняками, побогаче нас и, видимо, не хотели отдать свою дочку голи перекатной, «Луговцову». Главное же, им не понравилось то, что я комсомолец, безбожник. Тут уж в борьбу за наше счастье вступила сама невеста. Характером Фрося была бойкая, дома она заявила, что, кроме меня, ни за кого не пойдет. И хотя мать ее плакала, а отец грозился взять вожжи и отходить как следует строптивую дочку, Фрося стояла на своем: мол, тогда убежит из дома. И Бойкачевы уступили. Мать только в сердцах сказала: «От Васьки своего понахваталась? Венчаться в церкви, иначе прокляну».
Фрося прибежала ко мне в слезах. Она отлично знала, что я, комсомолец, не мог идти к аналою, да и не хотел.
– Чего ты боишься? – спросил я Фросю. – Не веришь?
Она молча мяла в руках расшитый носовой платочек.
– Не о себе я, Вася. Матери кровная обида. Да и люди как посмотрят. Может… согласишься?
– Пойми ты, шептаться будут лишь те, кто спиной к новому стоит. Церковь – это вчерашний день. Может, вместо кооператива к лавочнику Менделю снова станем ходить? Вместо волостного совета старшину, урядника примемся искать? Нет, Фрося, оглядываться назад нечего.
На глазах Фроси блестели слезы, но она улыбнулась и в знак согласия крепко сжала мою руку.
Все мы, таким образом, уладили, и только не мог я с одной задачей справиться: раздобыть на свадьбу приличные брюки.
Пришлось обратиться к друзьям.
– Выручайте, ребята, – попросил я, стараясь взять шутливый тон. – Первая красная свадьба в деревне. Надо бы в новых штанах показаться.
– Да уж ради такого дела! А поднесешь чарку?
– Пьянства разводить не будем, но постараемся, чтобы горло не было сухим.
После регистрации брака в Малевичском сельсовете мы устроили комсомольский вечер.
В поселковый клуб – дом бывшего попа – народу набилось битком. Пришли не только наши комсомольцы, но и много любопытной молодежи. На всех лавках полно. Потихоньку семечки лузгают, перешептываются, смеются – и все смотрят на «молодых». Всю округу интересовало, какая же она будет, первая комсомольская свадьба без попа?
Мы с Фросей сидели под развернутым кумачовым знаменем, и не знаю, кто был краснее: знамя или мы с ней. Я старался выглядеть гордым, смелым, как и подобает передовому рабочему парню, который отбросил все предрассудки. Фрося тоже крепилась, но временами на нее было жалко смотреть: она то вспыхивала, то обмирала, и я чувствовал, как дрожит ее рука. Я всячески пытался приободрить ее, шептал что-то веселое на ухо.
Пожилых в клубе было мало. Только на минутку заглянула моя мать. О Фросиных родителях и говорить, нечего – не пришли.
Помещение клуба украшали лозунги о новом быте, красные полотнища, еловые ветки. На столе стояли букеты полевых и садовых цветов. Поблескивал стеклом графин с чистой водой и стакан – их всегда ставили для ораторов, но тут они, возможно, должны были намекать на то, что жить мы должны в полной трезвости и пить только колодезную воду. По бокам от нас с Фросей сидели ее подруги, мои друзья – представители ячейки, профсоюза, из мастерских.
Поднялся секретарь ячейки, поздравил нас.
– Вы наглядно видите, товарищи, как полиняла старая жизнь. Вот они новые ростки. – И указал на нас.
Я постарался еще выше поднять голову и улыбнулся, точно меня должны были сфотографировать. Фрося, бедняжка, еще ниже наклонила голову и сидела ни жива ни мертва.
– Религия, она опиум, – продолжал секретарь, – и наш передовой комсомолец хороший слесарь Василий Козлов и его молодая жена не пожелали отравиться ею с первых дней. Мы верим, что они заживут дружно и у них не будет разных старорежимных склок, разных драк, а мир да лад… и поэтому пропадет угнетение женщин. Рабочий класс теперь обходится без попов и всевозможных культов, а кольца вообще буржуазный пережиток. Нам золота на пальцы не нужно. В будущем деньги вообще отменят, а золото пойдет коням на подковы.
Закончил секретарь свою речь такими словами:
– Раньше, когда из церкви привозили повенчанных и начиналась поголовная пьянка, все кричали «горько!». Мы же, товарищи, провозгласим молодым: «Пусть вам будет сладко!» Сладко, товарищи! Сладко!
Он налил из графина в стакан воды и выпил.
Послышался смех, все зааплодировали.
А я сидел и думал, что в кармане у одного из моих друзей припасены две бутылки водки. Стоит ли теперь их пить, может, это противоречит комсомольской свадьбе? Обещал ведь! И решил, что по рюмочке можно.
Председатель сельсовета мой дружок Гриша от местной власти и комитета комсомола поднес нам подарок – два отреза: Фросе на платье, мне на рубаху. Оркестр железнодорожников сыграл туш.
После нас поздравлял представитель профсоюза. Он тоже держал большую и торжественную речь и тоже сделал подарок. Передавая нам сверток, сказал:
– Тут и от нас что-то молодым. В кооперации подобрали. Посмотрите сами.
Среди общего оживления сверток развернули. Фросе там было готовое сатиновое платье, чулки, а мне брюки. Фрося принимала подарок, благодарила, все громко аплодировали, выкрикивали разные пожелания, а я подумал: «Вот спасибо! После свадьбы в собственные новые штаны наряжусь».
Выступали еще и другие представители, наши комсомольцы, и все желали нам разного добра в жизни. Оркестр без конца играл туш. В общем, свадьба прошла весело. Фрося под конец совсем оправилась от смущения, смеялась, и я очень был рад за нее.
В конце я взял слово и всех поблагодарил.
– Хоть нам сейчас разные попы да религиозники проклятья шлют, – говорил я, – ну да нам это глаза не выест. Мы докажем, что не «Исайя, ликуй» связывает людей, а сознательное желание плечом к плечу строить коммунизм. Спасибо вам всем, что почтили. И также за подарки спасибо.
Свадьба наша наделала немало шума. Вновь богомольные плевались.
– Разве это по-людски? – собираясь у колодца, говорили женщины. – Ведь что за столом, что под кустом – все одно. Бог-то, он покарает.
– И-и, соседка. Опозорит он девку да к другой подкатится. Коту абы сливки.
– Про него что речь, Фрося-то, бесстыжая, чего смотрела? Вроде бы и девка была пригожая, работящая, из семьи хорошей, а вон какой оказалась. А все комсомолы, они, идолы, мутят. Нет, не будет им счастья, не будет.
– Тут и сейчас видно, разбегутся они. Месяца не пройдет.
Спустя год родилась у нас девочка. Назвали мы ее Оля, крестить не стали. И тоже пошли разговоры:
– Нипочем не выживет, расшибет громом. Видано ли, крестить не понесли!
Вскоре меня призвали в армию. Было это в 1925 году, совсем мы еще мало прожили с Фросей. Как железнодорожник, я был зачислен в инженерно-технические войска. Служил в Витебске, затем был направлен в полковую школу младших командиров. Вместе со своей частью участвовал в сооружении железной дороги Орша – Лепель, железнодорожной ветки около Ораниенбаума, под Ленинградом, и дороги Овруч – Чернигов. На службе неоднократно получал благодарности командования, поощрения.
Конечно, постоянно читал газеты, ходил на политзанятия и дружил с книгой. Особенно пристрастился к произведениям Максима Горького, а также наших белорусских классиков – Янки Купалы, Якуба Коласа. В армии я вступил в члены ВКП(б), был избран секретарем первичной организации.