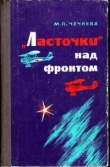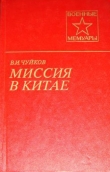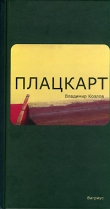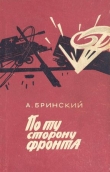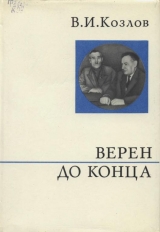
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
По приказу Белорусского штаба партизанского движения в октябре 1943 года партизанская бригада имени Алексея Флегонтова вышла во второй большой рейд по белорусской земле – из лесов Червенщины до Западного Буга, в леса Малоритского района Брестской области. И там мужественные патриоты бригады имени Флегонтова беспощадно громили фашистских оккупантов уже до полного изгнания их за пределы нашей республики.
В тяжелое и суровое для Белоруссии время оккупации сотни юношей и девушек, комсомольцев и несоюзной молодежи из Москвы и других городов обращались с заявлениями в партийные, советские организации и военкоматы с просьбой направить их на оккупированную территорию Белоруссии для борьбы с фашистскими оккупантами.
В июле 1942 года ЦК Компартии Белоруссии, ЦК ВЛКСМ и Московский комитет ВЛКСМ организовали комсомольско-молодежный отряд автоматчиков. Отряд был назван именем бесстрашного летчика Героя Советского Союза капитана Гастелло – верного сына белорусского народа, героически погибшего в первые дни войны в смертельной схватке с фашистскими стервятниками.
Начальником штаба был назначен комсомолец фронтовик Николай Симонов, участвовавший во многих боях с немецко-фашистскими оккупантами во время героической обороны Севастополя. После госпиталя, будучи нестроевым, он обратился с просьбой направить его в тыл врага, чтобы продолжать борьбу с фашистами. В июле 1942 года отряд начал путь в тыл фашистских оккупантов.
В составе отряда были две диверсионно-подрывные группы. Командирами этих групп были коммунисты Александр Жуковский и Казимир Пущин.
Центральным Комитетом Компартии Белоруссии и Центральным штабом партизанского движения перед отрядом была поставлена задача осуществить рейд по тылам врага с севера на юг Белоруссии, на всем пути следования проводить диверсионно-подрывную работу.
После принятия партизанской присяги отряд перешел линию фронта через все те же «Витебские ворота».
В исключительно тяжелых условиях на протяжении 43 дней отряд прошел по тылам врага около 1500 километров. В отдельные дни отряд делал по 50 километров в сутки.
По-товарищески, с большой любовью встречали гастелловцев местные партизаны и население. Весть о движении московских автоматчиков быстро облетела населенные пункты. Распространился даже слух, что движется десант в составе шести тысяч человек. Гастелловцы по пути своего движения проводили большую массово-политическую работу. О рейде отряда стало известно и немецкой агентуре и фашистским наемникам – полицейским. Это усложнило дальнейшее продвижение отряда, но не повлияло на темп движения.
В конце сентября отряд достиг Октябрьского района Полесской области. Здесь действовала в то время группа партизан во главе с Героем Советского Союза Федором Павловским. В первой половине октября гастелловцы расположились лагерем в четырех километрах от деревни Альбинск и поступили в наше распоряжение. Сразу же отряд включился в боевую работу.
Штаб соединения поручил гастелловцам совершить налет на фашистский эшелон на участке Житковичи – Копацевичи. Подрывную группу в составе Василия Шутова, Галины Кировой, Григория Токуева и Льва Гинзбурга возглавил Казимир Пущин. Операция проводилась днем. С обеих сторон железнодорожного полотна гастелловцы выставили наблюдателей, по своей неопытности они не сразу заметили подошедший немецкий патруль. В самый разгар работы подрывников немецкие охранники подняли тревогу. Из вражеского эшелона, который в это время подошел, высыпали гитлеровцы. Завязался тяжелый, неравный бой. Гастелловцы прикрыли подрывников огнем, им удалось сползти в кювет, а дальше нельзя было двинуться ни на шаг, так как шквальный вражеский огонь преграждал дорогу. Только стойкость и подлинный героизм партизан спасли положение. Мощным и дружным огнем гастелловцы принудили гитлеровцев отхлынуть и залечь. Подрывники, использовав этот момент, выскочили из кювета, отползли в ближайший кустарник и стали сражаться вместе со своими товарищами.
Вскоре отряд отступил, но гитлеровцы понесли большие потери. В результате налета на значительное время был задержан эшелон и нарушен график движения, много фашистских вояк легло на поле боя.
Следующая операция на участке железнодорожной линии Копацевичи – Старушки прошла с большим успехом. Здесь был подорван эшелон с крупным отрядом войск СС во главе с генералом и офицерами. Умело маскируясь, гастелловцы-подрывники подползли к линии и подложили под рельсы двенадцать килограммов толу. Взрывом был поврежден паровоз, а большинство вагонов разбито. От трех классных вагонов, в которых ехал немецкий командный состав, остались только щепки. Более ста пятидесяти оккупантов было уничтожено взрывом и огнем гастелловцев.
Гастелловцы под командой Казимира Пущина сыграли огромную роль в рельсовой войне. За время боевых действий в тылу врага этим отрядом, а потом бригадой имени Брагина, в состав которой входили гастелловцы, было разгромлено шесть крупных немецких гарнизонов, подорвано тридцать девять военных эшелонов, уничтожено около четырех тысяч гитлеровцев.
А отрядами нашего соединения, до того как в наши ряды влились гастелловцы, было пущено под откос три вражеских бронепоезда, пятьдесят восемь эшелонов с живой силой и техникой, разрушено пятнадцать железнодорожных мостов, восемьдесят шоссейных, разбито сто сорок семь автомашин, разгромлено сто двадцать немецко-полицейских гарнизонов и участков, сожжено тридцать нефтебаз и т. д.
Были у нас серьезные успехи в партийно-организационной и пропагандистской работе. В соединении и в районах насчитывалось семьдесят четыре парторганизации, которые объединяли около двух тысяч коммунистов; работало девяносто шесть комсомольских организаций. В них насчитывалось больше трех тысяч человек. Во многих районах выходили печатные подпольные газеты.
Газеты, листовки, «боевые листки» и другие издания давали правдивую информацию о боевых подвигах советских воинов, трудовом героизме народа, мужественной борьбе партизан и всех советских патриотов. Это имело большое значение в идейно-политическом воспитании населения на оккупированной территории, укреплении его морального духа. Подпольная печать несла в массы призывы партии, которые указывали верный путь к победе, воодушевляли партизан и все население на борьбу с врагом.
Еще в начале нашей деятельности перед нами встала задача создать хорошую полиграфическую базу. Предстояло достать шрифт, печатные машины, краску, газетную бумагу. Все это надо было добывать у врага.
Почти каждый подпольный райком у нас имел радиоприемники, пишущие машинки, специальные типографские машины и бумагу.
Начали выходить одна за другой газеты подпольных районных партийных комитетов, партизанских отрядов и соединений. За сравнительно короткое время на территории оккупированной, но непокоренной Белоруссии издавалось двенадцать республиканских и областных газет, всего же издавалось сто шестьдесят две подпольные газеты. Они выходили на белорусском и русском языках. Много было издано брошюр, сборников песен и стихов, плакатов, сатирических рисунков.
Партизанская печать поднимала советских людей на священную войну с оккупантами, зажигала в их сердцах пламя яростной ненависти к гитлеровцам. В газетах и листовках разоблачались кровавые преступления захватчиков, рассказывалось о положении на фронтах и в советском тылу. Подпольная печать призывала советских тружеников не склонять головы перед захватчиками, а идти в партизанские отряды, бороться против фашистских порядков, бороться с врагом вплоть до полного его уничтожения.
Листовки и газеты, которые распространялись среди населения, часто служили своеобразным пропуском, с которым рабочие и колхозники, мужчины и женщины всех возрастов шли в леса, становились в ряды активных борцов с фашистами.
В Минской области издавались тридцать четыре подпольные газеты, в том числе «Звязда» – орган ЦК КПБ и Минского обкома КПБ, газета «Чырвоная змена» – орган ЦК ЛКСМБ и Минского обкома комсомола.
Тираж большинства газет не превышал 500—600 экземпляров, формат был непостоянным. Печатались они на половине обычной газетной полосы, иногда на четверти, а то и на восьмой части. Хотя выходили газеты не каждый день, они были грозным оружием в борьбе с врагом.
Много трудностей и невзгод пришлось пережить работникам подпольной печати. Неоднократно они попадали в весьма опасное положение и рисковали жизнью, однако всегда добросовестно, по-партийному выполняли свои обязанности журналиста. Интересы Родины были для них дороже собственной жизни.
Мне вспоминается такой эпизод. Как-то фашистские ищейки пронюхали местонахождение редакции слуцкой подпольной газеты «Народный мститель». Через связного партизанского отряда об этом узнал редактор газеты Николай Достанко.
Необходимо было немедленно куда-то перебазироваться. Но только начали собираться, как типография и редакция были окружены гитлеровцами. Выйти можно было только через болото. По пояс в холодной воде пробирались работники газеты по болоту, на своих плечах тащили большой груз. В одном месте фашисты их почти достали, создалось очень опасное положение. Тогда журналисты решили отказаться от самого насущного для их существования – от сухарей, из типографского же имущества они ничего не бросили. Семь дней, преодолевая голод и холод, они кружили по болотам. Через неделю «Народный мститель» стал снова регулярно выходить и рассылаться по партизанским отрядам. Не обходилось в наших газетах без уголков юмора и сатиры. Очень хорошо запомнилась мне такая шутка из газеты «Большевистская трибуна»:
– Внучек, где ты был, когда горел немецкий склад? Надо было уйти с глаз, чтобы не пристали, проклятые.
– Не волнуйся, бабушка, я не был у них на глазах, я поджигал другой склад.
В агитплакате «Раздавим фашистскую гадину» в июле 1941 года было опубликовано стихотворение Анатолия Астрейко. В нем белорусский поэт, который находился в годы войны в одном из наших партизанских отрядов, пламенно призывал бить фашистов любыми средствами, в любых условиях, всегда и везде:
Если нет оружия,
Подымай топор,
Чтоб в кровавой луже
Захлебнулся вор…
В листовках и обращениях к населению находили отклик все важнейшие события Великой Отечественной войны советского народа. Некоторые из этих материалов лежат сейчас передо мной, бережно сохраненные мною и моими товарищами – партизанами.
Вот листовка от 17 октября 1941 года. В ней Минский подпольный обком партии писал:
«Гитлеровские бандиты распространяют басни о положении на фронте и жизни Советского Союза. Не верьте фашистским брехунам. Фашисты терпят колоссальные потери. Гитлер и его генералы рассчитывали на «молниеносное» окончание войны против Советского Союза, однако мощное сопротивление Красной Армии разрушило эти расчеты: фашистским убийцам нанесены весьма тяжелые удары. На советской земле нашли себе могилы лучшие немецкие дивизии…»
Далее приводились цифры потерь фашистской армии за первые месяцы войны. Листовка заканчивалась обращением к населению:
«Товарищи! Организовывайте партизанские отряды, уничтожайте врага на всех дорогах, поджигайте склады и поддерживайте партизанское движение.
Смерть гитлеровским палачам и их приспешникам!»
В листовке Минского подпольного обкома от 10 апреля 1942 года говорилось:
«…Фашистские войска, отступая под ударами Красной Армии на запад, еще более нагло издеваются над мирным населением. В районах Белоруссии гитлеровские изверги расстреливают мирное население, сжигают села и деревни, бросают в огонь женщин, детей, грабят имущество трудящихся.
Повсеместно слышен плач, стоны и крики женщин, стариков и детей, которых подвергают пыткам фашистские убийцы.
Пусть знают гитлеровские шакалы, что ни пытки, ни террор не сломят народ, поднявшийся против немецкого фашизма.
Товарищи! Приближается день освобождения белорусской земли от фашистской нечисти.
Приближается день, когда белорусский народ снова заживет счастливо и радостно.
Отомстим же немецко-фашистским бандитам за пролитую кровь наших отцов, матерей, братьев и сестер.
Не выпустим ни одного живого фашиста с нашей земли, политой кровью нашего народа.
Пусть белорусская земля станет могилой для гитлеровских захватчиков!
Все до одного на борьбу с врагом!
Организовывайтесь в партизанские отряды!
Взрывайте мосты, железные дороги… Не давайте лошадей, телег, мяса и хлеба фашистам! Пусть эта грязная, вшивая гитлеровская свора подохнет с голоду!
Всеми средствами помогайте Красной Армии и партизанам громить врага».
А вот еще одна листовка, более поздняя, когда уже началось освобождение белорусской земли:
«…Под сокрушительными ударами наших войск фашистские орды, отступая на запад, осуществляют новые неслыханные злодеяния над нашим народом. Они гонят с собой и расстреливают мирное население, сжигают наши деревни, взрывают уцелевшие постройки в городах.
Трудящиеся Минска! Всеми силами и всеми средствами охраняйте уцелевшие здания и предприятия от разрушения их гитлеровскими варварами. Уничтожайте команды фашистских поджигателей и минеров…»
Газеты и листовки распространяли связные, проявлявшие немало находчивости. Например, едет на подводе несколько женщин-крестьянок, будто бы везут продукты на базар или возвращаются с базара с купленными там нехитрыми товарами – бочками, ведрами, вилами. Гитлеровцам и в голову не приходило, что партизанские газеты и листовки были тщательно спрятаны в пустотелых полозьях обычных саней, в пустотелых дугах или оглоблях, в молочных бидонах с двойным дном.
Связная партизанского отряда комсомолка К. Лященя доставляла в села и деревни молодежную газету «Чырвоная змена» в кочанах капусты.
В тех местах, куда трудно было проникнуть партизанским связным, практиковался и такой способ распространения подпольной печати: партизаны ловили в поле лошадей, принадлежащих жителям деревень, в которых находились гитлеровские солдаты или размещались фашистские гарнизоны, и в гриву лошади вплетали газету или листовку. Так они попадали к хозяину, а потом читались всей деревней.
Очень часто подпольные листовки вывешивались на досках фашистских объявлений и приказов, на телеграфных столбах, на дверях фашистских комендатур, на заборах, стенах домов. Листовки и газеты разбрасывались в театрах и на базарах, в лагерях военнопленных, расклеивались на вагонах и автомашинах фашистской администрации, на мельницах и в других местах, которые посещались населением. В районном центре Гресск, например, листовки наклеивали на двери здания, в котором размещалась жандармерия.
Распространение подпольных изданий мы поручали только проверенным людям. Помню такой случай. Связные партизанского отряда, действовавшего недалеко от Минска, М. Гуринович и М. Воронков на автомашине немецкого подсобного хозяйства в старательно замаскированном тюке соломы везли в город очередную партию подпольной «Звязды». Около шлагбаума их остановил патруль. Имевшиеся у партизан документы не вызвали подозрения. Однако гитлеровцы почему-то на этот раз решили внимательно проверить груз. И когда из соломы выпало несколько пачек газет, партизан Воронков быстро выхватил из-за пазухи пистолет и в упор выстрелил в фашиста. С другим успешно справился Гуринович. Не растерялся и шофер: он быстро развернул автомашину. Партизаны вскочили в кузов и исчезли.
Кроме своих подпольных изданий к нам, в Минскую область, присылалось много газет из Москвы, в том числе «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Белоруссия», а также листовки, журналы и другая литература.
Только на протяжении июля – августа 1941 года в тыл врага нашими самолетами было заброшено около тридцати наименований разных листовок и газет общим тиражом свыше шести миллионов экземпляров. По далеко не полным данным, на протяжении 1941—1943 годов Центральный Комитет КП(б)Б распространил на оккупированной территории Белоруссии двадцать миллионов листовок и более пяти миллионов экземпляров газет, брошюр и плакатов.
Особенно пламенно звучал голос центрального органа нашей партии – «Правды», которую подпольщики и партизаны ждали всегда с нетерпением. Помню, в первые дни войны, когда нам удавалось связаться по радио с Москвой, мы радировали:
«Высылайте боеприпасы и обязательно 200—300 экземпляров «Правды»».
Должен сказать, что редакция «Правды» всегда шла нам навстречу.
Из редакций газет «Правда», «Известия» приезжали к нам в подпольный обком партии для налаживания подпольной печати журналисты. Большую помощь оказали прибывшие в подпольный обком корреспондент «Правды» Михаил Сиволобов и корреспондент «Известий» Борис Ямпольский.
В годы Великой Отечественной войны авторитет «Правды» был исключительно велик. Об этом свидетельствует и тот факт, что именем газеты назывались партизанские отряды. Один из них был у нас в Червенском районе.
Центральный Комитет Коммунистической партии Белоруссии и подпольные партийные органы проявляли постоянную заботу о развитии печати, о работе каждой газеты в отдельности, как печатной, так и рукописной. Газеты повсеместно возглавлялись коммунистами, которые являлись членами подпольных партийных комитетов. Минский обком и райкомы КП(б)Б утверждали планы работы газет, обсуждали тексты листовок, обращений, воззваний.
Руководство подпольной печатью было возложено на секретаря обкома Ивана Денисовича Варвашеню. Ежедневно занимаясь партийно-политической работой, он много внимания уделял и развитию подпольной печати.
Особенно усилилась деятельность подпольной печати и партийное руководство ею после пятого пленума ЦК КП Белоруссии. Он обсудил вопрос «О положении и задачах работы партийных органов и партийных организаций в оккупированных районах Белоруссии». Решения этого пленума сыграли заметную роль в жизни партийного подполья и деятельности партизанского движения в Белоруссии. Призвав подпольные партийные организации усилить массово-политическую работу, пленум потребовал от подпольных обкомов и райкомов, от всех партийных организаций улучшить руководство печатью, постоянно заботиться о том, чтобы газеты настойчиво пропагандировали прочность советского строя, укрепляли у населения убежденность в победе над врагом.
Большевистская пропаганда, – было записано в постановлении пленума ЦК КП(б)Б, – должна вестись всеми имеющимися печатными средствами и устно распространяться всюду среди населения оккупированной территории. Это привлечет новые тысячи борцов против оккупантов».
11
Мы строим аэродром. – Воистину народная стройка. – Боевые успехи партизан. – С первым же самолетом вылетаю в Москву. – Мои встречи с товарищами Пономаренко, Ворошиловым, Андреевым, Сталиным. – О партизанах Белоруссии рассказываю рабочим Казани, Иванова, Коврова.
Для того чтобы иметь возможность принимать у себя крылатых гостей, надо было ускорить подготовку посадочной площадки. А где ее возьмешь, когда вокруг одни леса и болота?
Помню, в начале августа 1942 года мы пошли осматривать островок Зыслов. С нами пошел летчик Павел Анасенко, который оказался у нас в лагере после ранения. Перед этим несколько дней лил дождь. Вода на болоте поднялась, пройти трудно, но у Гальчени везде были свои тропинки. Выйдя из деревни Старосек, Герасим Маркович покружил по зарослям и быстро выбрал тропинку, по которой можно было идти смело.
Он шел впереди, мы за ним. Зеленый островок находился в центре наших основных баз и был незаметен для оккупантов. Найдется ли здесь подходящее место для будущего аэродрома? Если найдется, то сразу же приступим к работе.
Гальченя на острове также шел впереди, шел уверенно, видно, хорошо знал, куда ведет. Не было такого уголка на Любанщине, которого бы Герасим Маркович не знал. Под ногами шелестела густая трава. В некоторых местах она была выше колена и обдавала нас росой, хотя солнце было уже высоко. Пахло болотной сыростью, местами трудно было пролезть: орешник, переплетаясь с березняком, стоял живой стеной.
Пройдя около двух с половиной километров, Гальченя остановился, глянул на солнце и повернул вправо. Через несколько минут он вывел нас на просторную поляну и удовлетворенно проговорил:
– Вот вам и аэродром. Подчистить немного, траву скосить – и считай, что готов.
– Двухмоторный сядет – всю площадку накроет, а хвост вон на том дубе повиснет, – добродушно пошутил Анасенко.
Гальченя недоверчиво покачал головой, однако, посмотрев на столетний дуб, который возвышался на краю поляны, смутился.
– Дуб действительно будет мешать, – согласился он, – придется его выкорчевать, а площадка здесь хорошая. Ты разве не садился на таких?
– Садиться-то садился, только не на таких самолетах, какие к нам летают. Вот когда меня подбили, я сел в кусты. Да только подняться уж не смог.
– Сядешь и здесь, – сказал Герасим Маркович. – Сядешь и взлетишь!
– Для того чтобы взлететь на транспортном самолете, – терпеливо объяснял Анасенко, – нужно самое малое пять-шесть таких площадок. Да землю утрамбовать.
Площадка была мала для тяжелых самолетов, это ясно было и нам, но мы были очень довольны, что удалось найти на острове хотя бы такую полянку. Будто сама природа позаботилась о нас. Оставалось посмотреть, можно ли ее расширить.
– Сколько, вы думаете, тут метров? – спросил Анасенко Герасима Марковича.
Гальченя пошел к восточной стороне полянки и оттуда начал мерять ее широкими быстрыми шагами: «Раз, два, три, четыре…» Нам было слышно, как он, досчитав до сотни, начинал снова: «Раз, два, три, четыре…» Ноги его неслышно ступали по мягкой, пересыпанной курослепом траве.
Мы шли за Гальченей.
– Метров четыреста! – громко сказал он, дойдя до конца площадки. – Но ее можно еще расширить.
Потом начал мерять Анасенко. Он делал шаги примерно такие же, как и Гальченя, старался перешагивать через кочки и пни, чтобы идти по прямой. Скоро летчик исчез в зарослях, и только по его голосу и треску сухих сучьев мы определяли, где он.
– Тысяча пятьсот, – услыхали мы наконец последний счет Анасенко. – Идите сюда!
Гальченя удивился:
– Разве мы эскадрильи тут будем принимать?
Мы прошлись по следам Анасенко. Перед нами вырисовывалась площадка длиной около полутора километров, шириной – около километра. Почва здесь хорошая: кое-где болотники – их нетрудно засыпать, местами холмики – можно срезать. Труднее всего будет с раскорчевкой. Часть площади густо заросла орешником, встречались толстые сосны, березы.
– Будет здесь работки, – со вздохом обронил Долидович.
Тревога его была понятна. Для того чтобы быстро оборудовать площадку, нужно бросить сюда значительные силы, а где их возьмешь? Оккупанты наводнили районы эсэсовцами, делали попытки в опорных пунктах создать свои гарнизоны, и нам беспрерывно приходилось вести боевые действия.
– А если взять людей из деревень? Поговорить с ними, объяснить, что это дело очень важное. Они все нам сделают.
Понятно, что некоторые резервы можно было найти в самом соединении, однако, если учесть, что строительство аэродрома – дело срочное, этих резервов было далеко не достаточно.
Подошел Анасенко: энергичное лицо, безупречная воинская выправка.
– Приходилось вам иметь дело с таким строительством? – спросил я его.
– Приходилось, – ответил летчик.
– Дадим вам рабочих, тягловую силу, лопаты, топоры. В полтора – два месяца справитесь?
– Нет, не справлюсь.
– Что вам еще надо? – спросил я.
– Кроме людей мне надо еще около тысячи подвод – без камня и гравия аэродрома не построишь!
– А если мы все это сделаем: дадим транспорт и все необходимое?
– Тогда справлюсь! – уверенно ответил Анасенко.
Тут же мы нашли место для фиктивного аэродрома.
Когда возвращались, Долидович осторожно спросил:
– Где же мы возьмем столько людей и подвод? В отрядах свободных людей не так много, а подвод и совсем мало. Лошади у нас больше верховые.
– А наши зоны?
Долидович задумался.
– Это правда, – в раздумье произнес он, – там люди есть. Но ведь строительство у нас необычное, необходима конспирация.
– Будет и конспирация.
Я верил, что колхозники окружающих деревень помогут нам, как помогали уже не раз. И сами придут и доставят все, что нужно.
Мачульский начал вслух подсчитывать, сколько человек можно взять из деревень Старосеки, Загалье, Альбинск, Калиновка, Нижин, Скавшин, Сухая Миля, Убибачки и других. Он начал перечислять надежных людей из Старосек, которых можно было бы поставить во главе бригад. Перечислил по именам и насчитал больше десяти человек только из одной деревни.
Гальченя внимательно слушал, кивал одобрительно головой, а потом вдруг запротестовал:
– Одних стариков берешь, это неправильно.
– А кто там из молодых? – усмехнувшись, спросил Мачульский.
– Женщин бери, вот кого, – настаивал Герасим Маркович. – Чем плохие будут бригадиры?
На следующее утро Анасенко, Филиппушка и представители штаба соединения отправились в ближайшие деревни, и работа началась.
К болоту подошли люди с лопатами и топорами, подъехали подводы. Пришли все, кто мог быть полезным: пожилые мужчины и старики, женщины и подростки. Предполагалось брать на работу только здоровых и физически сильных людей, но это правило пришлось нарушить. Узнав, что партизанам нужна помощь, на работу начали собираться все. В хатах оставались только малые да совсем старые. Попробуй скажи кому-нибудь, что он не подходит для этой работы! Обидится человек, примет за оскорбление.
В Старосеках был такой случай. Набирая бригаду, Анасенко отвел в сторону пожилого, слабого здоровьем колхозника Антона Синицкого и посоветовал ему:
– Побудь пока дома, пусть идут те, кто поздоровее. Если не будем управляться, тогда позовем тебя.
Синицкий даже в лице изменился.
– Так, значит, не годен? – обиженно сказал он. – На разведку посылали за пятьдесят километров – был годен, фураж отрядам доставлял – годен, а тут – в сторону. Да я не хуже другого молодого потяну!
Женщины, услыхав этот разговор, тоже запротестовали:
– Без него и мы не справимся, он тут у нас всему селу голова.
Подошел Корнеев и как председатель местного Совета порекомендовал взять Антона Синицкого на строительство.
– Таких смело бери, – сказал он Анасенко, – я его давно знаю. Хочешь, скажу тебе один секрет: я тут смотрю, чтобы в каждой бригаде были люди стойкие, проверенные. Сейчас они будут копать, корчевать, а подойдет время – дадим в руки оружие, и пойдут воевать, бить оккупантов. В моем сельсовете можно с десяток отрядов организовать.
Чтобы с самого начала обеспечить необходимые темпы работы, надо было доставить на площадку транспорт, тягловую силу, щебень, катки. Перевозить все это надо через болото, без дороги не обойтись. Начали гатить болото. На трясину насыпалась земля – ее возили, носили. Понадобилось много леса – его рубили тут же. Гать была сделана за несколько суток, и тогда островок впервые за время своего существования заселился людьми. Колхозники были из ближайших деревень, и многим можно ходить на отдых домой, но каждый считал себя мобилизованным, и на время работы люди переселились на остров. Вокруг строительства выросли шалаши и палатки.
Определенных часов отдыха не было. После небольшой передышки бригады выходили на площадку в любое время суток. Ночи стояли ясные, прохладные, и работалось еще лучше, чем днем.
Все шло давно заведенным порядком: бригады имели свои участки, свои производственные задания, соревновались между собой. Посмотришь – колхоз вышел на работу! Но когда приглядишься внимательно, увидишь, что это не обычный колхоз мирного времени. В любой момент работающие готовы отложить в сторону топор и взяться за винтовку.
Когда однажды мы с Мачульским пришли на остров, к нам стали подходить бригадиры. Некоторые старались походить на командиров и докладывали по-военному. Они сообщали, сколько уже сделано и что надо сделать.
Работа была трудоемкая, требовала много времени и сил, но люди работали с большой охотой, и площадка для будущего аэродрома преображалась на глазах.
Бригада старосековцев полудновала, когда мы подошли к ее участку. Кое-где горели небольшие костры, люди пекли картошку, поджаривали на вертелах сало. Некоторые варили что-то в чугунках. Тут же сидело несколько человек из Загалья. Антон Синицкий что-то с воодушевлением рассказывал, энергично размахивая рукой.
– Должно быть, про свою овечку… – улыбнулся Корнеев, подойдя к нам с соседнего участка.
Эта история была известна чуть ли не всей нашей зоне. Однажды Антон Синицкий привез партизанам овцу и бидон молока. Какая-то подлая душа донесла об этом гестаповцам. Синицкого схватили, начали бить и допрашивать.
– Это все неправда, это вам кто-то наврал, – притворно дрожащим, жалобным голосом оправдывался Антон. – Не одну мою овечку, а все стадо партизаны забрали. Шли недавно и забрали штук сорок. И не один бидон молока выпили, а целых восемнадцать. Каждый всего-то раза два глотнул, а восемнадцати бидонов не хватило…
Синицкий не на шутку напугал фашистов.
Увидев нас, Синицкий поспешно встал и сделал несколько шагов навстречу. Он был здесь старшим и считал своей обязанностью первым поздороваться и пригласить нас пополудновать. Мы присели на пеньки.
– Ну, как идет работа? – спросил я.
Антон сообщил, что через день они закончат раскорчевку и тогда вся бригада переключится на выравнивание площадки. Один из загальцев сказал, что раскорчевку они закончат сегодня. Синицкий недовольно посмотрел в его сторону и как бы вскользь заметил:
– Ну какой там у вас лес, кусты одни!
На это загалец спокойно ответил:
– Такой же самый, как и у вас, – наши участки рядом.
Синицкий возразил:
– Сравнил! У нас сосны, хоть на доски пили, ольха, береза.
– И у нас они есть, – ответил загалец. – Да что ты волнуешься? Кончим раньше, придем и вам поможем.
– Лучше мы вам поможем, – упрямился Синицкий.
Потом он обратился ко мне:
– Скажите, а скоро сюда прилетит самолет?
– Как закончим аэродром, так и прилетит.
– А можно будет тогда в Москву письмо послать?
– Думаю, что можно.
– А если бы нам всем собраться написать письмо правительству? Описать, как мы тут живем, как бьем врага. Можно было б такое письмо послать?
– Можно, и обязательно напишем.
Постепенно вокруг нас собрался народ. Каждому хотелось услышать что-нибудь новое про наш советский тыл, про Москву. Синицкий встал, окинул всех быстрым взглядом и сказал:
– Идемте! Сегодня и нам надо закончить раскорчевку.
Все пошли за ним следом.
На острове часто появлялись командиры отрядов, комиссары, вестовые из боевых отрядов и групп. Они рассказывали колхозникам об обстановке, делились своими впечатлениями о боях. И колхозники жили этими новостями. Работали, а мысли их были там, где шли бои, где их товарищи, односельчане и родные били фашистов.