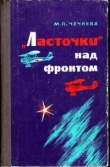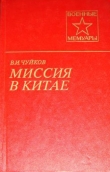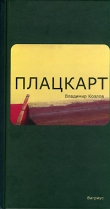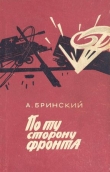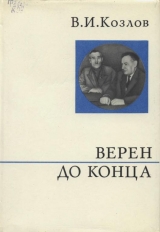
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
В это время наиболее крупные боевые операции проходили в районе деревни Катка на Глусщине, в населенных пунктах Холопеничи, Слободка и в совхозе «Холопеничи». Во вражеском гарнизоне в Катке насчитывалось свыше трехсот фашистов. На вооружении у них были сорокамиллиметровые пушки, семь минометов, больше десятка станковых и ручных пулеметов, автоматы, винтовки. Деревня была обнесена окопными укреплениями.
Штаб соединения решил уничтожить этот гарнизон потому, что он находился на стыке трех районов и сковывал действия партизанских отрядов. На операцию пошли подразделения из отрядов Павловского, Храпко, Гуляева, Пакуша и Макара Бумажкова. Вышли также отряды Цикунова, Патрина. К деревне подошло около пятисот партизан с четырьмя пушками, минометом, шестью станковыми и восемнадцатью ручными пулеметами и автоматическим оружием. Операцией руководил заместитель начальника штаба соединения Константинов.
План операции был такой: подразделения Гуляева, Пакуша, Бумажкова и отряды Цикунова и Патрина наносят главный удар по гарнизону с западной и северной сторон. Для прикрытия флангов Павловский и Храпко выставляют боевые засады у деревни Косаричи и на дорогах, ведущих к гарнизону. Сигналом к началу боя должны служить две красные ракеты.
Перед самым наступлением разведка донесла, что противник с обозом и основным вооружением вышел из деревни Катка и двигается к деревне Хоромцы. К вечеру гитлеровцы заняли Хоромцы и выставили усиленные посты и патрули. Пришлось спешно изменять план операции. Командирам отрядов и подразделений были поставлены дополнительные задачи: резервной группе, находившейся при штабе, нанести удар по противнику с юга; Пакушу и Патрину ворваться в деревню с севера; Бумажкову ударить по вражескому гарнизону в совхозе имени Потапенко. У противника оставалась свободной дорога на деревню Бобровичи. Гуляеву и Цикунову было приказано разместить засады в лесу у этой дороги.
Наступление началось утром 10 августа 1942 года. В результате стремительной атаки гитлеровцы были выбиты из деревни. Они отошли в небольшой лесок на север от Хоромцев и там укрепились.
Тем временем подразделения Павловского и Храпко форсировали реку Птичь. Внезапным ударом они разбили противника в совхозе «Холопеничи» и повели наступление на деревню Катка. Здесь оставались охранные группы вражеского гарнизона и военное имущество. Партизаны уничтожили остатки катковского гарнизона и захватили богатые трофеи. Партизаны разбили также гитлеровский гарнизон в деревне Слободка.
Бой с основными силами гитлеровцев, укрепившихся в лесу, продолжался свыше суток. Более трех десятков фашистов было убито, много ранено. Уцелевшие бежали в Глусск, оставив на поле боя почти все вооружение и боеприпасы. Несколько полицаев сдались в плен.
Наши отряды потерь не имели, только двое партизан были ранены.
Эти боевые успехи вдохновляли колхозников, строивших аэродром, на самоотверженный труд. За две недели площадь будущего аэродрома была раскорчевана. За несколько дней ее выровняли, засыпали щебнем и утрамбовали. К концу августа аэродром был готов.
Если самолеты не ожидались, на аэродроме «рос» обычный лес, и с воздуха невозможно было определить его местонахождение. Колхозники построили землянки для обслуживающего персонала и раненых бойцов, которых мы решили отправлять в тыл, оборудовали ложный аэродром. Так уж получилось, что только небольшая часть строителей вернулась в деревни, большинство осталось в партизанах. Одни вошли в команду обслуживания и хозяйственные взводы, другие получили оружие и вступили в боевые ряды партизан.
С первых дней сентября 1942 года на наш аэродром начали прилетать крылатые гости из Москвы и других городов Советского Союза. Наш аэродром скоро стал известен советским людям за тысячи километров. О нем знали на Украине, в Литве, Латвии. О нем знали партизаны Польши и Чехословакии.
Сотни раненых партизан Белоруссии и Украины были отправлены с этого аэродрома в тыл. Аэродромом пользовались на протяжении нескольких месяцев партизаны братской Украины. Однажды к нам прилетели секретарь ЦК КП(б) Украины товарищ Коротченко и начальник партизанского штаба Украины товарищ Строкач. С лесного аэродрома были вывезены в советский тыл и размещены в специальных домах тысячи детей погибших партизан и воинов Красной Армии. Отсюда мы переправили в Москву видных ученых и крупных специалистов Белоруссии, которые не успели эвакуироваться в начале войны.
Отсюда был эвакуирован в Москву тяжело раненный прославленный партизан Кирилл Прокофьевич Орловский, Герой Советского Союза.
Все годы войны пользовались мы зысловским аэродромом. Он служил важнейшим средством прямой связи с Большой землей для многих партизанских соединений Белоруссии.
Как только аэродром был готов, мы стали с часу на час ожидать самолета из Москвы. Тоска по вестям с Большой земли была настолько сильной, что многие в нетерпеливом ожидании не спали круглые сутки. Волновались все: и те, что дежурили на аэродроме, и те, что оставались в лагере. Да и сам я был очень взволнован. С первым самолетом, который у нас приземлится, я должен буду вылететь в Москву. Центральный Комитет КП(б)Б и Центральный штаб партизанского движения вызывали меня для отчета.
Москва – любимая столица нашей Родины! Во все время суровой партизанской жизни ты была в наших сердцах. Каждую минуту, каждое мгновение мы думали о тебе, великой и могучей, неповторимо прекрасной, по-матерински ласковой и заботливой для своих сынов и дочерей, которые, не жалея жизни, защищали священную землю Советов под знаменем великого Ленина.
При воспоминании о тех днях и сегодня трепетно бьется мое сердце. Помню одну тихую сентябрьскую ночь. Над головой небо будто стеклянное, и звезды стали словно ближе. Тишину нарушал только ветер, сдувающий с ветвей первые осенние листья. Я лежал на взгорке вблизи аэродрома, положив под себя ватную куртку. Глаза блуждали по восточному краю неба. Я ждал, что вот-вот среди множества синих звезд вспыхнут другие, летучие звезды – вестники Большой земли. Перед глазами всплывали волнующие картины Москвы – той Москвы, которую я помнил еще с мирных дней. Красная площадь, гранит Мавзолея, Спасская башня и зубчатая стена Кремля, ровные ряды молодых серебристых елей у стены, высокие рубиновые звезды над кремлевскими дворцами. Сколько раз я ходил и любовался этой красотой! Теперь, на партизанском аэродроме, мне казалось, что я иду знакомым путем, вдоль Москвы-реки, около Манежа и Исторического музея. Но теперь башни Кремля виделись мне могучими воинами-богатырями с нахмуренным челом, несокрушимыми в бою…
Мне очень хотелось побывать в Москве. Зная, что меня вызывают, я все-таки не мог представить себе, что очень скоро окажусь в родной столице. Беспокоило меня одно: надолго ли меня вызывают? Я считал, что я не должен в такое суровое время оставлять товарищей по борьбе. Положение наше было довольно сложным. Гитлер бросил против партизан крупные силы. Отряды нашего соединения вели жестокие непрерывные бои на всей территории Минской, Могилевской, Полесской, Барановичской и Пинской областей. Мы наносили врагу большой урон в живой силе и технике, срывали его планы. Но со дня на день нужно было ожидать подхода новых частей противника.
Время было очень напряженное. Надо больше активизировать деятельность подпольных партийных организаций, усилить их работу среди населения, увеличить боеспособность партизанских отрядов. Я неоднократно задавал себе вопрос: можно ли хотя бы на несколько дней оставить подпольный обком и отряды? И хорошо ли вообще уезжать при таких обстоятельствах и оставлять боевых товарищей и друзей?
Но здраво рассудив, мы все – члены бюро обкома, партийные руководители, командиры отрядов – правильно оценили поездку в Москву: это исключительно важное событие, оно будет иметь большое значение не только для нашего соединения, но и для развития партизанского движения в Белоруссии. Каждый из нас хорошо понимал, что в Москву нужно привезти точные сведения о деятельности белорусских партизан и получить там указания о дальнейшем развертывании всенародной борьбы с врагом.
Надо было видеть, с каким волнением и старанием готовились к моей командировке. Командиры отрядов ходили озабоченные. В своих рапортах им хотелось как можно подробнее рассказать об отрядах, о партизанах-бойцах и об их боевых делах. Члены обкома партии писали об опыте партийной работы в подполье, о политической работе в отрядах и среди населения. Идешь ночью и видишь: светится огонек в лесном шалаше. Заглянешь – и видишь, как после дневных боевых операций сидит при лампе командир отряда и пишет рапорт в Москву.
Приближалось время вылета. Мы вызвали в штаб на беседу командиров и комиссаров отрядов, секретарей подпольных обкомов. Мы не думали, что я задержусь в Москве. Однако всем командирам и комиссарам отрядов надо ясно и точно определить задачи на ближайшее время.
Прежде всего в охранных и экспедиционных фашистских войсках были словацкие подразделения. Нам удалось выяснить, что многие словаки, насильно мобилизованные фашистами, не хотят воевать против нас. Словаки несли охрану на важнейших железнодорожных путях. Нашей задачей было взорвать эти мосты и парализовать движение врага. Надо было немедленно связаться со словаками, развернуть среди них агитацию и перетянуть на свою сторону. С помощью солдат и офицеров, сочувствовавших нам, легче будет выполнить задачу деморализации тыла врага.
Наша разведка доносила, что многие словаки хотят перейти к партизанам, чтобы вместе бороться против фашистов, есть такие и среди насильно мобилизованных поляков, румын, французов и даже среди немцев. Вот эту задачу мы и поставили перед партизанскими руководителями. Моим заместителям – Мачульскому, Бельскому, Бондарю и Варвашене – я посоветовал вести это дело осторожно, чтобы избежать неприятных случайностей.
Другая первоочередная задача – организация взрывов больших мостов на вражеских коммуникациях. Мы и раньше придавали этому особое значение, но в большинстве случаев наши отряды разрушали мосты только на шоссейных и грунтовых дорогах. Большие железнодорожные мосты мы не всегда отваживались взрывать: мало было подрывных средств, не хватало специалистов. Кроме того, эти мосты охранялись крупными силами гитлеровцев.
Теперь же мы были достаточно подготовлены и сильны. Мы могли наносить ощутимые удары по коммуникациям врага: задерживать и уничтожать сотни военных эшелонов с живой силой, вооружением и техникой. Первым надо было взорвать большой мост через реку Птичь. Он находился на стратегически важной железнодорожной линии Брест – Лунинец – Калинковичи – Гомель. Немцы перебрасывали по этой дороге свежие подкрепления в район Сталинграда. Мост охранялся батальоном гитлеровцев. Охрана стояла и на ближайших станциях. Крупные гарнизоны размещались в Петрикове и Копаткевичах. В Петрикове стояли словацкие части.
Начать подготовку к этой операции решили немедленно. Она являлась одной из наиболее важных. Руководство операцией возлагалось на Мачульского и Бельского.
И вот в эти напряженные дни и ночи боевой подготовки пришел наконец долгожданный час вылета. Это было ночью 22 сентября. Над нашим островом появился самолет. Помню, от внезапно охватившей меня радости будто электрические искры пробежали по всему телу, сердце забилось так сильно, что, казалось, слышны были его удары.
Мы зажгли факелы, показывая долгожданному гостю место посадки. Самолет покружился над лесом и, приглушив моторы, пошел на снижение. Все, кто был в это время на аэродроме, замолкли в волнующем ожидании. В это мгновение для нас как будто перестали существовать и фронт и расположенные по соседству немецкие гарнизоны. Необычайно остро, живо почувствовали мы свое неразрывное единство со всем советским народом, с нашей великой, непобедимой страной.
Самолет сел. Я, Мачульский, Бельский, Бондарь, Константинов, штабные работники и партизаны – дежурные по аэродрому – направились к нему. Но из самолета никто не выходил. Летчики еще не были уверены, что попали к своим. Я назвал пароль. Один из пилотов быстро сошел на землю и пошел навстречу.
– Привет вам, товарищи! Привет из Москвы!
Мы по-братски обнялись. Летчик крепко пожал всем руки. Лицо его, простое и открытое, светилось радостью.
– Капитан Груздин.
Героя Советского Союза Груздина мы знали хорошо, хоть и встретились с ним впервые. Он не раз прилетал к нам и вместе с грузами сбрасывал письма. Капитан попросил срочно разгрузить самолет, так как намеревался вылететь немедленно.
Вокруг собралось много народу. Каждому хотелось взглянуть на посланцев Большой земли, побыть с теми, кто вылетал сейчас в родную Москву. Люди жали мне руку, обнимали. В эти пожатия они вкладывали всю душу. И я с особой силой почувствовал, какая ответственность лежит на мне: люди видели во мне своего представителя, того, кто должен доложить правительству, партии, как борются с врагом партизаны, как велико их чувство преданности и горячей любви к Родине. У многих были родные и близкие на Большой земле, у кого жена, у кого родители, братья, сестры. Эвакуировавшись из Белоруссии, они работали в различных братских республиках. Мне передавали для них столько писем, что карманов не хватало. Я знал, что частицу сердца партизана везу любимым, дорогим людям.
Никогда не забыть этих минут!
Мы сели. А летчиков не выпускали партизаны. Они все подходили и засыпали летчиков вопросами и просьбами. Самой большой просьбой было опустить письма в московский почтовый ящик. Иные просто просили передать привет всем советским людям, которые вместе с армией и партизанами ковали победу над врагом. Каждому хотелось быть как можно ближе к Большой земле, полней и глубже почувствовать ее просторы. А она вставала перед нами необъятная, суровая в борьбе, от Мурманска до вершин Кавказа.
Наконец самолет поднялся в воздух. Со мной полетели Константинов и Бондарь. Алексею Георгиевичу необходимо было основательное лечение, рана его часто открывалась.
Я летел, и мне не верилось, что я уже далеко от своих друзей. Еще так ясно стояли передо мной партизанские шалаши, оружейные мастерские, воины с красными ленточками на шапках. На память приходили стихи народного поэта Янки Купалы:
Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.
Чувство, что и ты в какой-то степени выполнил задание Родины, наполняло сердце радостью.
Впереди трудная дорога. Над линией фронта нас сильно обстреляли. Нашему опытному летчику удалось проскочить опасную полосу, и к назначенному времени он привел самолет в Москву. Мы прилетели перед рассветом. В первый момент как-то не верилось, что фронт остался далеко позади, что мы в Москве. Это было первое утро за все время войны, которое для нас начиналось не в боевой обстановке.
Нас встретили командир авиационной части Вениамин Михайлович Коротков и начальник политотдела Иосиф Михайлович Карпенко. Я и сейчас их хорошо помню и буду помнить всю жизнь: это были первые люди, с которыми я встретился на Большой земле.
Высокий, стройный, немолодой командир части радостно пожал нам руки, глаза его блестели возбужденно и взволнованно, он улыбался сердечно и ласково. Вопросы сыпались на нас, как на каких-то особенных, необыкновенных людей, хотя мы, конечно, ничего необыкновенного собой не представляли.
Наши военные друзья пригласили нас к себе, хорошо угостили и разместили на отдых. Здесь я первый раз с начала войны смело разулся, стянул с себя верхнюю одежду – между прочим, сильно уже поношенную, – снял даже оружие, с которым не расставался ни днем ни ночью. Когда я положил кобуру на стол, мне казалось, что я делаю что-то непростительно рискованное и опасное, до того уже я, в прошлом гражданский человек, привык к оружию.
Немного отдохнув, мы переехали в гостиницу. На следующий день не успели оглядеться, как за дверями послышался сдержанный, многоголосый говор. Я открыл дверь и вижу: стоят у дверей человек десять: мужчины и женщины, штатские и военные. Стоят, переговариваются между собой и не решаются войти.
Мы пригласили их в комнату. Среди наших гостей было несколько белорусов, которые надеялись услышать что-нибудь о своих родных городах и деревнях, узнать о близких и знакомых. Остальные – москвичи: военнослужащие, работники Центрального и Белорусского партизанских штабов. Всем им хотелось познакомиться с нами, поговорить, расспросить, как мы воюем, как борются в тылу врага советские люди.
Завязался сердечный разговор. Народу все прибавлялось. Наша небольшая комната не могла всех вместить. Одни выходили, другие приходили. Тут я убедился, что не из простого любопытства старался обо всем расспросить у нас командир авиационной части. Мне стало ясно, что люди всей страны следят за героической борьбой белорусских партизан. Между тем, находясь на оккупированной территории, мы иной раз думали, что о наших делах мало кто знает.
Оказывается, знали очень многие. Через некоторое время зашел первый секретарь Витебского обкома И. А. Стулов. Снова началась задушевная беседа, обмен мнениями о партизанской борьбе в других областях нашей республики. Он много рассказывал об опыте партийно-политической и комсомольской работы на Витебщине, о боевых операциях, проведенных партизанами в Сиротинском районе под руководством директора Пудотьской картонной фабрики имени Воровского Миная Филипповича Шмырева (батьки Миная), секретаря Россонского подпольного райкома комсомола Петра Мироновича Машерова, секретаря Лепельского подпольного райкома партии Владимира Елисеевича Лобанка.
Большую организаторскую работу провели эти неутомимые, инициативные коммунисты, настоящие патриоты Родины. В борьбе с оккупантами они показали исключительный героизм, выдержку, умение успешно пользоваться партизанской тактикой.
Позже все они были удостоены почетного звания Героя Советского Союза.
Мы разговаривали бы, пожалуй, до самого вечера, если бы не приехал секретарь ЦК КП(б)Б товарищ Пономаренко.
Внимательно выслушав мою информацию, он поднялся и, подавая на прощание руку, сказал:
– Все дела потом. Запритесь на сутки, отдохните как следует, тогда начнем работу.
Но нам не удалось воспользоваться его советом: гости продолжали заходить, и у нас не было почти ни одного свободного часа.
Спустя два дня мы встретились с товарищем Пономаренко в Центральном штабе партизанского движения. Беседа продолжалась три часа.
Мы хорошо знали, что делается в деревнях и городах не только Минской, но и других областей республики, и старались обо всем подробно доложить. Я рассказал о первых днях подполья, о наших поисках правильных путей в новой, еще совсем не изведанной области работы. Были у нас трудности и ошибки. Но мы ни одного часа не потратили на бесцельные блуждания, не порывали связи с народом, всегда были с ним и пользовались его полной поддержкой. Наша сила, источник наших успехов заключались в мудром руководстве партии.
В конце беседы товарищ Пономаренко сказал нам, что Центральный Комитет Коммунистической партии ежедневно интересуется борьбой белорусских партизан и что в Кремле состоится встреча руководителей партии и правительства с представителями белорусских партизан.
Под вечер того же дня мы с Константиновым приехали на прием к товарищу Ворошилову. Теплой и радостной была для нас эта встреча. С глубоким вниманием и интересом слушал Климент Ефремович рассказ о борьбе белорусского народа против гитлеровских захватчиков.
Особенно интересовался Климент Ефремович тактикой партизанской борьбы. Я доложил, как мы воюем теперь и как думаем воевать в дальнейшем. Коротко рассказал о наиболее важных и сложных операциях, проведенных партизанами в Минске и Борисове, о старобинской, октябрьской и любанской операциях, о нашем рейде, а также о боевых действиях в Слуцке, Красной Слободе и в деревне Клинок.
Я привел примеры героизма и самопожертвования трудящихся Белоруссии в борьбе с врагом, рассказал о бессмертных подвигах Фени Кононовой, Евстрата Горбачева и других отважных сынов и дочерей белорусского народа.
Задав несколько вопросов, товарищ Ворошилов попросил Константинова поделиться своими впечатлениями о деятельности белорусских партизан.
– Я хотел бы сказать лишь одно, товарищ Маршал Советского Союза, – немного волнуясь, начал Константинов. – Я более года прожил среди белорусов, вместе с ними воевал, плечом к плечу с партизанами ходил в атаки на врага. От души скажу, что глубоко полюбил белорусский народ, этих мужественных, свободолюбивых людей, и сегодня мне как-то грустно от того, что я расстался с ними, хотя, может, и ненадолго. Я просил бы вас, товарищ маршал, послать меня на Белорусский фронт. Я оправдаю доверие партии и правительства.
Мы оба, я и Константинов, были в поношенной одежде. Заметив это, Климент Ефремович, поинтересовался, как партизаны обеспечивают себя обмундированием. Мы рассказали, что вначале, когда круто было, партизаны мастерили себе обувь даже из лозы, научились плести одеяла из сена и соломы. Теперь же у нас есть все необходимое. С величайшим энтузиазмом во всем помогает нам население.
– Белорусские партизаны, в каких бы тяжелых условиях ни находились, ни одной минуты не чувствовали себя одинокими, – сказал я товарищу Ворошилову. – Мы все время ощущали твердую поддержку всего советского народа, всей Советской страны. Понятно, что народная помощь намного облегчила наше положение и с одеждой, и с продуктами питания.
Товарищ Ворошилов, внимательно слушал, делая время от времени пометки на листке бумаги.
В вопросах и замечаниях Климента Ефремовича чувствовалось большое уважение и любовь к белорусскому народу, вера в силу его духа, в его патриотическую доблесть.
Когда в своем рассказе я упоминал названия населенных пунктов и крупных предприятий, не нужно было делать пояснений. Климент Ефремович хорошо знал Белоруссию, не раз бывал там до войны, постоянно следил за ее хозяйственным и культурным развитием. Он был нашим депутатом в Верховном Совете СССР.
Выслушав нас, Климент Ефремович сказал, что белорусский народ всегда был закаленным и героическим народом. Сколько раз ему приходилось преодолевать тяжелые испытания с помощью великого русского народа и совместно с ним отражать нашествия врага! Белорусский народ всегда мужественно боролся за свободу и независимость своей Родины.
В конце беседы Климент Ефремович сердечно поблагодарил нас и сказал:
– Партизаны действительно несокрушимая сила. С помощью партизан Красная Армия и советский народ обязательно выйдут в этой войне победителями.
На следующий день в полдень, когда я собирался идти в штаб партизанского движения, зазвонил телефон. Я снял трубку. У телефона был товарищ Пономаренко. Из беседы я узнал, что Климент Ефремович после нашей встречи говорил с членами Политбюро ЦК ВКП(б). Все они очень интересовались нашими делами, подробно расспрашивали о белорусских партизанах, а потом было высказано пожелание принять меня в Кремле.
Трудно выразить радостное чувство, овладевшее мною. Во вражеском тылу, в тяжелые дни партизанских боев с превосходящими силами врага, в дни суровой подпольной работы мы всегда слышали могучий голос родной Коммунистической партии. Это придавало нам силу и уверенность в победе. Мудрые, окрыляющие наказы партии советскому народу, армии, партизанам открывали нам ясную и четкую программу действий. Сколько раз, собравшись вместе, мы говорили о том, каким счастьем было бы побывать в Кремле, в Центральном Комитете ВКП(б), рассказать о нашей жизни, борьбе, о безграничной любви народа к славной Коммунистической партии, к нашему Советскому правительству.
Все следующие дни у меня было какое-то особенно приподнятое, радостное настроение. Бесчисленное количество раз я пересматривал свои материалы для доклада. Старался представить себе, о чем будут говорить со мной члены Политбюро. Перед глазами вставали многие дни подполья. То, что порой на месте не замечалось, теперь ярко всплывало в памяти, становилось значительным и интересным.
Спустя несколько дней меня вызвали в Центральный штаб партизанского движения. Пономаренко уже ждал меня.
– Василий Иванович, – сказал он, – члены Политбюро приглашают вас к себе.
Сразу же отправляемся в Кремль. Входим в приемную товарища Сталина. Пономаренко берет меня за руку и тихо спрашивает:
– Очень волнуетесь? – И тут же успокаивает: – Ничего, Василий Иванович, пройдет несколько минут, и вы почувствуете себя как дома.
С трудом сдерживая волнение, я вошел в кабинет Генерального секретаря. Здесь уже были И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, А. А. Андреев и другие члены Политбюро. Товарищ Ворошилов представил меня и попросил рассказать, как действуют в тылу врага партизаны, как живет и борется белорусский народ.
Я начал докладывать. Члены Политбюро внимательно слушали и время от времени задавали вопросы. Они интересовались всеми деталями партизанского движения и жизни народа на оккупированной фашистскими захватчиками территории.
Из беседы я вынес, что партизанскому движению придается огромное значение как одному из важнейших факторов победы над врагом, что необходимо сделать все для того, чтобы партизанская борьба развернулась еще шире.
Говоря об очередных задачах партизанского движения, члены Политбюро отметили исключительную важность воспитания в народе непоколебимой веры в победу. Если у людей будет глубокая вера в несокрушимое могущество нашей державы, в непоколебимость ее политического строя, они не остановятся ни перед какими трудностями и будут творить чудеса. Была высказана мысль, что рядом с боевыми делами необходимо широко развернуть среди населения политическую работу, рассказывать людям правду о положении в Советском Союзе, о беспощадной борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели оккупантов, что нужно на фактах разоблачать лживую пропаганду, воспитывать в народе ненависть к фашистским захватчикам.
…В моей памяти мелькали картины недавнего прошлого. Минск, встревоженный нападением гитлеровской Германии на нашу землю. Центральный Комитет КП(б)Б, где собрались руководящие партийные и советские работники республики. Потом местечко Березино, где 3 июля 1941 года я услышал:
«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом… Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!»
Через сотни километров, отделявшие нас от линии фронта, донесся к нам набатный призыв нашей партии и правительства подниматься на беспощадную борьбу с гитлеровскими захватчиками.
…Выступаешь на собрании в полусожженной, разграбленной фашистскими оккупантами деревне. В каждом доме свое горе, своя обида и тревога. И у всех одно общее горе, одна общая тревога за судьбу Родины. Рассказываешь о положении на фронтах, об успехах партизанского движения и не овации, не рукоплескания слышишь, а чувствуешь, как учащенно бьются людские сердца. Какой лаской, любовью загораются глаза при словах о нашей партии, какая сила появляется у людей!
Мы несли в народ призывы партии, и они были самым могучим нашим оружием. Мы обращались к народу от имени партии, и в этом был «секрет» наших успехов.
Во время этой знаменательной встречи были сформулированы основные пункты решения об усилении партизанского движения в тылу врага, о превращении его в небывалое по размаху массовое, всенародное движение. В заключение Иосиф Виссарионович попросил передать белорусскому народу привет и благодарность за мужественную борьбу и сказать от имени ЦК ВКП(б) и Советского правительства, что Красная Армия скоро придет в Белоруссию.
Эти уверенные слова были сказаны в самые тяжелые дни войны, когда фашисты бешено рвались к Сталинграду.
После приема я поехал с товарищем Пономаренко в ЦК КП(б)Б. Мы долго сидели там, обдумывали указания Политбюро.
Возвратился я в гостиницу далеко за полночь. Несмотря на поздний час, в комнате было много народу. Партизанские руководители Украинской ССР, Смоленской, Витебской, Могилевской и других областей, находившиеся в то время в Москве, ждали меня. Каждому хотелось услышать о приеме в Кремле.
Я постарался в точности передать то, что говорили члены Политбюро. С исключительным энтузиазмом встретили мои слушатели слова о скором приходе Красной Армии в Белоруссию.
Мы проговорили почти до рассвета, а когда все ушли, я долго не мог уснуть. Первый раз в жизни я был на таком приеме. Мне хотелось сейчас же вылететь к своим друзьям партизанам, рассказать им и трудящимся Белоруссии о встрече, о тех мыслях и пожеланиях, которые были высказаны нам.
Еще как следует не рассвело, когда я начал звонить П. З. Калинину – начальнику Белорусского штаба партизанского движения, чтобы попросить его ускорить мой отъезд.
Но быстро вернуться в Белоруссию мне не пришлось. Нужно было остаться на некоторое время в Москве. По поручению ЦК ВКП(б) я посещал предприятия, учреждения, встречался с рабочими и служащими. Побывал в райкомах, выступал перед партийным активом. Был у зенитчиков, охранявших Москву. Всюду рассказывал о жизни и героической борьбе белорусских партизан.
Так прошло несколько дней. Однажды мне сообщили, что товарищ Андреев просит меня зайти к нему завтра, в два часа дня.
Я приехал в ЦК ВКП(б). Товарищ Андреев высказал мысль о том, что мне полезно было бы поехать на восток страны: в Казань, в Иваново, Ковров – и рассказать рабочим о партизанской борьбе в тылу вражеских армий.
Через день я выехал из Москвы.
Рабочие всюду принимали меня удивительно дружески. Собрания на фабриках и заводах были многолюдными. Слушали со вниманием. Аудитория – глазом не окинуть, а тишина такая, что муха пролетит – услышишь.
Я не делал докладов, не читал лекций, а вел с людьми простую беседу. Рассказывал то, что видел в тылу врага и сам пережил. Немало было случаев, когда рабочие тут же, на собраниях, писали заявления с просьбой направить их в тыл врага. Многие брали на себя обязательства еще лучше работать на Красную Армию до полного разгрома врага. Рабочие одного завода при активном участии Героя Социалистического Труда Дегтярева сделали во внеурочное время автоматы для командиров и комиссаров нашего партизанского соединения.
Среди моих слушателей были не только представители героического русского рабочего класса, но и украинцы, грузины, татары, казахи. Достаточно было видеть лица рабочих, слезы на глазах работниц, когда я рассказывал о фашистских зверствах, чтобы понять живую силу, глубину и величие братской дружбы советских народов. В свою очередь я с большим волнением и радостью узнавал о самоотверженном труде рабочих и служащих в трудных условиях военного времени.