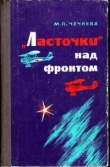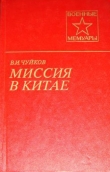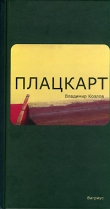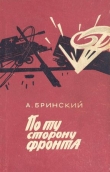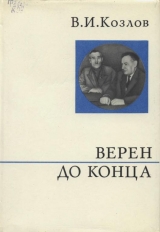
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
10
Еще одна тяжелая утрата. – От хорошо налаженной связи зависит многое. – А если это провокация? – Важная шифровка из Москвы. – Конный партизанский отряд «Боевой». – Молодежно-комсомольский отряд автоматчиков имени Героя Советского Союза Гастелло. – Партизанские газеты.
Вернувшись из рейда, мы первым делом решили узнать, как живут и работают партийные и комсомольские подпольные организации и партизанские отряды, остававшиеся на местах.
Нам надо было встретиться с руководителями и командирами, обсудить планы на будущее. В подпольный обком были вызваны Луферов, Патрин, Храпко, Столяров, Павловский, Жигарь, Бумажков. В отрядах Патрина и Столярова все в порядке, только рост отрядов оказался весьма незначительным. Это настораживало: видно, с политической работой среди населения у них обстояло не все благополучно. Отряд Храпко пополнился за счет населения Глусского района. Но они впали в крайность: принимали в отряд только тех, кто имел оружие, хотя хорошо знали, что оно добывается в упорной борьбе с врагом, а не растет на грядках. Несмотря на указания ЦК КП(б)Б, отдельные командиры и политработники неверно понимали значение всенародного партизанского движения. Областной комитет партии вынужден был еще раз детально и всесторонне рассмотреть вопросы, связанные с развертыванием всенародной партизанской борьбы.
На второй день после нашего возвращения в штаб пришел Адам Майстренко. Я выслушал его доклад о работе комсомольского подполья и с тревогой ждал, что он скажет о Фене Кононовой, подтвердит ли известие о ее гибели, полученное штабом во время рейда. Майстренко рассказал об активной работе комсомольской организации отряда Храпко. Он назвал отличившихся комсомольцев, в частности Николая Татура, который проявил себя во многих боях и оказался хорошим комсомольским организатором. Подробно рассказал о деятельности комсомольцев-подпольщиков в Баяничах, Редковичах, Живуни, Загалье, Озерном. А о Нижине ни слова. Между тем в своих прежних докладах он всегда начинал с нижинской – это же была наша ведущая комсомольская организация! Я не выдержал и спросил:
– А как же твои нижинцы? Как Феня?
Майстренко опустил глаза, лицо потемнело.
– Не сберегли мы Феню, – глухо проговорил он. – Нижинская комсомольская организация до сих пор в глубоком трауре, хоть работы своей не ослабляет. Подпольщиков там стало больше, но Фени нет…
Немного успокоившись, он рассказал все подробно.
…Больше месяца назад Феню послали на задание. Возвращаясь в лагерь, она наткнулась на крупную засаду эсэсовцев. Девушку схватили и повели в Нижин. Сосновский комендант и кузьмичская полиция рассчитывали взять реванш за свои многочисленные неудачи в Нижине. Бургомистр Дубик уже видел себя с немецким крестом на груди. В Кузьмичах и в окружающих деревнях тогда уже не было гестаповцев, и Дубик чувствовал себя полноправным хозяином. Этот выродок решил провести допрос Кононовой в ее родной деревне, на глазах односельчан. Ему очень хотелось отличиться перед оккупантами. Дубик рассчитывал, что через Кононову ему удастся раскрыть всю нижинскую подпольную организацию.
До Нижина Кононову вели трое эсэсовцев и девять вооруженных полицейских. Они связали девушке руки и все-таки боялись, что Кононова может как-нибудь перехитрить их и убежать.
– Ну, теперь все! – оскалив зубы, говорил Дубик, увидев Феню. – Многим ты досадила… Теперь так нажмем, что родного отца выдашь.
– Пес ты бешеный, изменник Родины! – крикнула в ответ Феня. – И откуда ты взялся, подлюга такой? Как тебя земля носит, выродка?
Согнав нижинцев на площадь, Дубик объявил:
– Сейчас здесь будут названы фамилии всех, кто связан с партизанами.
Приказав вывести на площадь Феню, он развязал ей руки, снял с головы платок.
– Показывай, кто здесь бандит! Всех назовешь – живой останешься!
– Вот он, – спокойно сказала Феня и кивнула в сторону Дубика.
– Ты у меня пошутишь! – прорычал Дубик и изо всей силы дернул девушку за косу.
– Отойди, подлюга! – посоветовал Дубику кто-то из толпы.
– Она не пожалеет вас, как некоторые ее жалеют, – обозлился бургомистр. – Здесь у вас не один десяток таких, как она. Вся деревня на подозрении. Помогите нам, и немецкая власть на местах, – он показал на себя, – учтет ваши заслуги.
Над головой бургомистра просвистел камень и врезался в переносицу полицая, стоявшего с винтовкой возле Фени. Тот схватился руками за лицо. Дубик растерялся. Феня быстро нагнулась, подняла камень и ударила им бургомистра по физиономии. Полицаи сбили Феню с ног. Полетели еще камни, полицаи начали стрелять, люди разбежались.
Дубик поспешил под защиту кузьмичского гарнизона. Вслед за ним отряд полицаев увел Феню, которой снова связали руки.
Через два дня Дубик снова появился в Нижине. С ним – конный отряд полицаев, человек двадцать. Приехали показать свою силу и отомстить за недавний позор. Ничего не добившись от Фени в Кузьмичах, Дубик снова привез ее в Нижин. Девушка сидела на подводе еле живая.
– Теперь-то ты у меня заговоришь! – шипел бургомистр.
Он приказал согнать к Орессе нижинских девушек и пригрозил Фене:
– Не назовешь подпольщиков, каждую десятую расстреляю. Так и знай!
Феня взглянула на подруг: они стояли плотной кучкой, жались друг к другу, с доверием и горячим сочувствием смотрели на Феню.
«Родные вы мои, – светилось в глазах Фени, – вижу, что верите мне и теперь, верите, жалеете и надеетесь…»
Феня сделала вид, будто не слышала, что сказал фашистский прислужник. Дубик подошел к саням, ударил ее по голове и повторил свои угрозы. Феня подняла на него опухшее лицо и снова бессильно опустила голову. Это был единственный метод борьбы, который она могла применить. Она решила не реагировать на пытки, не плакать, не стонать. И не говорить ни слова. Пусть фашистские выродки думают, что она не может говорить от страшной слабости, оттого, что полицаи «перестарались» во время допроса.
– Признавайся! – кричал Дубик и все бил девушку кулаком по голове. – Признавайся!
Феня молчала.
– Видите, дуры, – повернулся бургомистр к девушкам, – ей не дорога ваша жизнь, она даже и слушать не хочет. Одну какую-нибудь покрывает, а вас всех на смерть ведет.
– Губители! – не выдержала одна из девушек. – Людоеды, вы ее замучили, а теперь неживую говорить заставляете!..
К девушке подошел здоровенный, взлохмаченный полицай, замахнулся кулачищем, потом передумал и ударил прикладом.
Дубик, войдя в раж, кричал:
– У нас и мертвые заговорят! Снимите ее с воза, поставьте!
Полицаи подхватили Феню под руки, подняли и поставили на мерзлую землю. Девушки заплакали, подались вперед. Феня была босая, ноги посинели и опухли от побоев. Она напрягла последние силы, встала, пошатываясь, но не выдержала и упала. Полицаи подняли ее.
– Развязать? – спросил один из них Дубика.
– Нет! – замахал руками бургомистр. – Вырывайте ей волосы. Держите и вырывайте!..
Феня мужественно переносила пытки. И уже слабеющим голосом сказала:
– Бывайте, девочки мои дорогие! Да здравствует наша Советская Родина!
Когда она потеряла сознание, Дубик приказал бросить ее в ледяную воду Орессы…
Так погибла Феня Кононова, пламенная патриотка Родины, стойкая волей и духом комсомолка.
Нас восхитило мужество комсомолки, ее неодолимая воля к победе над врагом. Мы рекомендовали подпольному обкому комсомола постараться как можно шире оповестить всех о нижинских событиях: комсомольцы должны отомстить за смерть Фени!
Спустя некоторое время кузьмичский гарнизон был разгромлен. Майстренко с двумя боевыми группами из отрядов Патрина и Столярова ночью совершил внезапный налет на фашистско-полицейское логово. Подлые псы-полицаи и их хозяева фашисты были уничтожены.
На кузьмичской улице, на высокой колючей груше-дичке был повешен партизанами изменник Родины бургомистр Дубик.
В партизанской войне служба связи имеет исключительно важное значение. Перед уходом в подполье нам говорили в ЦК КП(б)Б: «От хорошо налаженной связи будет зависеть многое. За организацию этого дела надо браться с первых же дней борьбы с врагом».
Мы так и поступили. Почти с каждым заводом, фабрикой, почти с каждой деревней у нас была хорошо налаженная связь.
Тут, как и во всей нашей работе, помог богатейший опыт конспирации и организации подполья большевистской партией в дореволюционный период. Были у нас свои явочные пункты и квартиры, «почтовые ящики» в дуплах старых деревьев и «почтовые работники». Причем с одним и тем же пунктом нас связывала не одна линия, а две, а то и три.
В первые месяцы партизанской борьбы чаще всего нас выручали наши боевые испытанные подпольщики. Мы поручали им передачу очень важных донесений и всегда были уверены, что они не попадут в руки врага. Следует отметить, что крупных провалов у нас вообще не было.
Служба связи хорошо послужила нам, сыграла очень важную роль в первые месяцы партийного подполья и организации партизанского движения в Белоруссии. Но с каждым днем все более широким и могучим становилось партизанское движение. Изменялись условия борьбы, возникали новые сложные задачи. Нам стало тесно в рамках нашей первоначальной нелегальной связи, она уже отставала от наших потребностей. Назревала необходимость широкого использования технических средств. В начале мая 1942 года мы получили рацию. Белорусский штаб партизанского движения стремился к тому, чтобы в каждой области, в каждом партизанском соединении и даже в бригадах, а позже и в отрядах были свои рации. Это помогало поддерживать непосредственную связь с нашими фронтами и отдельными армиями, координировать действия, регулярно сноситься с Москвой, Центральным штабом партизанского движения и ЦК КП(б)Б. Позже мы узнали, что Центральный Комитет КП(б)Б получал наши донесения. Но вот беда, некоторое время посланные к нам люди по тем или иным причинам не доходили до нас.
Какова же была наша радость, когда одна группа достигла цели. Связисты спустились на парашютах в партизанской зоне, неподалеку от деревень Убибачки и Кузьмичи Любанского района. Два дня люди блуждали по лесу и наконец наткнулись на наши заставы.
В это время мы после осуществления одной операции шли по направлению Старые Дороги – Осиповичи. Отряды остановились на привал возле деревни Озерное, а штаб – у деревни Бариково. В штаб прискакали трое верховых и доложили, что возле деревни Убибачки задержаны двое неизвестных людей с пакетом на мое имя. Люди одеты в немецкую форму, вооружены немецкими пистолетами.
Я взял с собой группу конников, сел в тачанку и поехал в деревню Убибачки. Путь не близкий – по прямой дороге около сорока километров, а объездами так и того больше. На место прибыл уже утром. Задержанные оказались людьми мне известными. Один – бывший председатель Узденского райисполкома Жариков, а другой – бывший директор средней школы Старобинского района Скалабан.
Когда встал вопрос о непосредственной технической связи с Минским подпольным обкомом и партизанским соединением, товарищ Пономаренко приказал подобрать десантную группу из людей, которые знали меня, хорошо ориентировались на местности и могли бы пользоваться доверием населения.
Это дело было поручено товарищу Авхимовичу, который был тогда секретарем ЦК КП(б)Б по кадрам. Позднее он сам побывал в Минском, Полесском, Пинском и Гомельском подпольных обкомах, оказал большую помощь в подборе руководящих партийных кадров и своей деятельностью способствовал развертыванию всенародной партизанской войны.
Занимаясь подбором десантной группы, товарищ Авхимович вспомнил о Скалабане, который в то время работал в Москве. Он вызвал его в ЦК, и Скалабан согласился лететь на Минщину. Когда стали думать о втором человеке, Скалабан рекомендовал Степана Жарикова, с которым он познакомился в Москве. Во время одной из встреч Жариков рассказывал ему, что знает меня.
Но хотя я знал обоих, суровое время требовало бдительности. Я не знал, как они вели себя во время войны, поэтому до выяснения решил быть крайне осторожным. Они радостно бросились обнимать меня, а я поздоровался сдержанно, больше того, холодно.
Письмо от секретаря Центрального Комитета КП(б)Б мы внимательно, прочитали. Хотелось бы порадоваться и порадовать других, но мы не могли сразу, без должной проверки признать подлинность письма. Кто знает, Пономаренко писал его или нет? Гестапо придумывало различные провокации. Мы уже получали письма с подписью секретаря ЦК КП(б)Б. Однажды мы получили письмо, адресованное всем партизанам Белоруссии, с просьбой оказывать всяческую помощь работнику разведотдела Красной Армии. С ним к нам пытались пробраться гитлеровские шпионы. Все провокационные письма, сфабрикованные гестаповцами, были нами разоблачены.
Вскоре привели третьего человека. Это был парнишка с открытым, немного наивным лицом, с живыми, веселыми глазами. Звали его Володей, фамилия – Февралев. Он родом из станицы Цимлянской Ростовской области и попал в группу после окончания курсов радистов в Москве.
Всех троих мы допустили к работе, только на всякий случай Бондарь установил за ними наблюдение.
Я составил радиограмму для передачи в Москву, в Центральный Комитет КП(б)Б и штаб партизанского движения. Радисты передали. На другой день получаю ответ:
«Рады, что связались, поздравляем, желаем успехов…»
«Что ж, – думаю, – первая радиограмма могла быть и такой, нет ничего удивительного». Передаем еще раз и просим конкретных указаний в работе. Вскоре приходит ответ и опять:
«Поздравляем, крепко жмем руку, желаем успехов».
Тут уж мы насторожились: не может быть, чтобы из ЦК КП(б)Б послали нам две одинаковые радиограммы?! Ведь там знают, что не поздравления и добрые пожелания нам нужны, а действенная помощь в работе. Видимо, здесь попахивает провокацией.
Мы решили послать в ЦК еще одну радиограмму, в которой поставили несколько конкретных вопросов. Опять те же приветствия, поздравления и пожелания.
Что делать? Рация есть, а связи с Москвой, с Центральным Комитетом КП(б)Б как не было, так и нет. Снять радиста, поставить своего, так он не знает кода и шифра. А Жариков специально готовился для работы шифровальщика.
Вызываю его в штаб.
– Скажи, – говорю, – Степан Сергеевич, правильно ты расшифровываешь радиограммы?
– А почему выспрашиваете? – отвечает. – Конечно, правильно.
– Почему же все три радиограммы одинаковые?
– Не знаю, – отвечает, – они не совсем одинаковые. Должно быть, там так писали, я за это не отвечаю.
Тут у меня уже не хватило терпения.
– Будешь говорить правду или нет? – крикнул я. – Говори, кто вас сюда послал?
Он заволновался, клянется, что прибыл из Москвы, из Белорусского штаба партизанского движения. Уверяет, что расшифровка точная.
Долго я с ним разговаривал, но, так ничего и не добившись, отпустил. Вечером собралось закрытое бюро обкома. Докладываю бюро, что полученные из Москвы радиограммы вызывают подозрение, что они совершенно одинаковы и неконкретны. Нельзя верить, что эти радиограммы из ЦК КП(б)Б. Можно поздравить, пожелать успехов один раз, но не может быть, чтобы это повторялось три раза подряд! Уж очень неподходящее время для любезностей!
Долго думали, как быть. Срыв непосредственной связи с Москвой не на шутку обеспокоил членов бюро. Надо было немедленно искать выхода.
Бельский предложил вызвать на бюро Жарикова и потребовать от него объяснений. Жариков пришел хмурый, растерянный. Задаем вопросы – отмалчивается или крутит головой, если сурово говорим о его вине. Ничего плохого не признает за собой, даже бесспорные факты отрицает.
Тогда я вношу предложение отстранить от работы шифровальщика Жарикова и поручить товарищу Бондарю провести расследование. Если хоть что-нибудь из наших подозрений подтвердится, применить закон военного времени. Бюро обкома приняло это предложение.
Только теперь понял Жариков, что запираться больше нельзя. От отчаяния и глубокого волнения он чуть не заплакал, а потом признался, что просто забыл шифр. Московские радиограммы остались нерасшифрованными.
– Когда заучивал, казалось, хорошо знал, – оправдывался Жариков, – а пока летел на место, все выскочило из головы.
– Значит, эти радиограммы, которые читал нам, ты просто выдумал? – спросил я.
– Да, – отвечает, – выдумал.
– А Скалабан знал об этом?
– Нет, не знал.
Я приказал изолировать Жарикова, так как у нас появилось подозрение, что он предатель. Выходя из штаба, Жариков наконец сказал, что у радиста Февралева есть запасной, аварийный шифр. Только этот шифр не очень сложный, гитлеровцы могут разобраться в нем.
Пришлось пойти на риск. Я вызвал Володю Февралева и приказал ему передать следующую радиограмму в ЦК КП(б) Белоруссии:
«Нормальную связь установить с вами не могу. Жариков забыл шифр. Полученные от вас радиограммы не расшифрованы. Прошу срочно командировать нового шифровальщика».
Но Володя отказался передавать радиограмму запасным шифром.
– Это шифр аварийный, – заявил он, – им разрешается пользоваться только в случае аварии.
– Так у нас ведь как раз авария, – говорю ему, – у нас проваливается связь с Москвой.
– Почему проваливается? – спрашивает он. – А Жариков зачем?
– Жариков забыл шифр, он арестован за обман и провал работы.
– Не может этого быть, – не верит Февралев. – Мне приказано подчиняться только Жарикову, и я должен выполнять приказ. Пусть Жариков напишет мне, что случилось.
Пришлось принести радисту записку от Жарикова. Узнав его почерк и окончательно убедившись, что иного выхода нет, Февралев передал радиограмму.
В тот же день пришел ответ от товарища Пономаренко:
«Радиограмму получил. Принимаю меры. 29-го будет самолет. Ждите. Укажите место и установите наземные сигналы».
Мы указали место, и 29 мая 1942 года самолет спустил на парашютах радиста и шифровальщика.
С этого времени у нас установилась регулярная радиосвязь с ЦК КП(б)Б. Немного позже нам прислали еще несколько раций и радиоузел. Мы наладили радиосвязь с соседними областями, районами, с наиболее крупными бригадами и отрядами. Каждый день ЦК получал от нас сообщения о партизанских делах, о гитлеровских вооруженных силах, гарнизонах и укреплениях на контролируемой нами территории.
Товарищ Скалабан хорошо показал себя на работе. Он стал комиссаром отряда и много раз участвовал в тяжелых боях.
Что же касается Жарикова, то он сначала не понимал всей серьезности и ответственности партизанской борьбы. Ему казалось, что все эти рации, шифры никому не нужная забава. Зачем партизанам шифр? Какая там может быть связь?
Но очень скоро он осознал свою ошибку. Это произошло после того, как мы послали его рядовым бойцом в отряд Долидовича. Воевал Жариков неплохо, заслужил доверие партизан и через некоторое время стал командиром взвода.
Погиб Степан Жариков, к сожалению, по собственному легкомыслию. Он шел из Ганцевич в штаб за оружием и боеприпасами для отряда. По дороге зашел к знакомому колхознику, отдохнул у него, подкрепился и пошел дальше. Вместо того чтобы пробираться незаметно, двинулся открытой дорогой и наткнулся на гестаповцев.
Радист, прилетевший к нам из Москвы, привез мне письмо из ЦК КП(б)Б. Оно было какое-то загадочное, вначале я не мог понять, в чем дело. Меня спрашивали:
«Когда вы в последний раз были в Москве, в ЦК ВКП(б), с кем вы имели разговор, какой документ оформляли?»
Я думал: в чем дело, зачем мне задают такие вопросы? Потом понял, что это делается для проверки. Последний раз в Москве я был в 1940 году, встречался с секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым и писал там один важный документ. Вот таким образом проверялось, тот ли это Козлов, может быть, кто-то другой, подосланный врагом? Всего можно было ожидать в то время.
Я послал в ЦК КП(б)Б подробный ответ: когда был в Москве, с кем встречался, о чем шел разговор и какой документ оформлял. Через несколько дней после этого пришла очень важная шифровка. В ней передавалась благодарность всему составу обкома и всем партизанам соединения. Затем нас извещали, что Центральный Комитет ходатайствует перед правительством Союза ССР о награждении белорусских партизан, отличившихся в боях с немецкими фашистами, орденами и медалями Советского Союза.
В этой же телеграмме было сказано, что Центральный Комитет ВКП(б) внимательно следит за борьбой белорусских партизан, все знает об их деятельности и, возможно, в недалеком будущем в ЦК будут вызваны руководители партизанского движения.
В одном из живописных уголков Любанщины, недалеко от деревни Старосек, затерялся среди лесных зарослей небольшой островок Зыслов. Река Оресса с широкими болотистыми берегами огибает его с востока. Вокруг острова болото, и добраться до него даже в самое сухое лето не легко. Остров густо зарос орешником, высокими соснами, березами и дубами. Деревенские мальчишки и девчата, проваливаясь по пояс в трясину, ходят туда за земляникой и малиной, а ближе к осени – за орехами. На острове очень много всякой птицы: что ни дерево, то гнездо.
Вот на этом острове Долидович и разместил свои запасные базы. Мы заинтересовались этим островком, когда встал вопрос о постройке большого партизанского аэродрома. Потребность в этом назрела летом сорок второго года. Оставаться без аэродрома было уже невозможно. У нас хорошо наладилась связь с Большой землей, часто в партизанский край прилетали самолеты, но приземлиться им было негде. Летчики сбрасывали грузы, оружие, боеприпасы, но грузы часто попадали в болото или лесную чащобу, и не все мы находили.
Аэродром поможет нам быть еще ближе к Большой земле, к родной Москве. Минские партизаны, как и весь белорусский народ, знали, что Центральный Комитет партии следит за их борьбой с врагом, интересуется их жизнью и деятельностью. Это еще больше придавало людям сил и отваги, поднимало их дух в тяжелой, героической борьбе.
К 1 августа 1942 года только одно наше соединение объединяло около десяти тысяч партизан. Мы имели большое количество винтовок и автоматов, ручных и станковых пулеметов и около двух десятков пушек. Это были силы, с которыми можно оперировать во всех районах Минщины и Полесья и оказывать помощь партизанам других областей.
Мы установили контакт с брянскими, украинскими и польскими партизанами и оказывали им братскую помощь в борьбе с ненавистными оккупантами. Мы помогали украинским партизанам, в частности бригаде Ковпака, которая почти три месяца находилась на территории Белоруссии. Большую и активную помощь оказали белорусским партизанам москвичи и население других областей РСФСР. В наше соединение прибыл из Подмосковья конный отряд под командованием Флегонтова. Перебравшись через линию фронта, кавалеристы провели неслыханные по своему характеру героические рейды по тылам врага.
Командира отряда Алексея Кандидьевича Флегонтова Великая Отечественная война застала на должности управляющего делами Гидрометслужбы при Совнаркоме СССР. Кипучая натура, беспредельная любовь и преданность партии и Родине звали его в бой, на фронты Великой Отечественной войны.
– Я не могу больше оставаться в Москве, в тиши служебного кабинета, – говорил он секретарю партийной организации Гидрометслужбы.
– Ты сможешь принести фронту помощь и здесь, на ответственной гражданской работе, – ответили ему в парторганизации.
– И все же прошу направить меня на фронт, – настаивал Флегонтов. – А еще лучше, если направите меня в тыл врага, в партизаны. В этом деле у меня уже есть опыт со времен гражданской войны.
Через некоторое время партийная организация вместе с военкоматом направила товарища Флегонтова в распоряжение Центрального штаба партизанского движения.
С конца июля 1941 года Алексей Кандидьевич Флегонтов по заданию партии работает на обожженной войной и израненной земле Смоленщины. Применяя свой богатый боевой и жизненный опыт, он помогает партийным организациям Смоленщины в сплочении и вооружении народных борцов, а потом возглавляет один из самых крупных партизанских отрядов.
Огромное нервное напряжение, бессонные ночи, старые раны дали о себе знать. В начале октября 1941 года командование отзывает Флегонтова в Москву для лечения. В это время, как известно, создалась непосредственная угроза сердцу нашей Родины – Москве. И несмотря на еще плохое самочувствие, Флегонтов настойчиво потребовал, чтобы его направили в леса Подмосковья, где в то время формировались партизанские отряды, создавались продовольственные базы, накапливались запасы оружия, оборудовались партизанские стоянки. Он работает инструктором партизанского движения. Дни и ночи разъезжает по районам области, организует партизанские отряды, учит молодых партизан боевым делам, инструктирует их. Под его непосредственным руководством и при его участии был издан «Спутник партизана», который стал потом самым необходимым пособием для партизан. Многие партизанские отряды Подмосковья своими боевыми успехами во многом обязаны Алексею Кандидьевичу Флегонтову.
Когда же в декабре 1941 года и начале 1942 года Красная Армия начала громить фашистских оккупантов под Москвой, Флегонтов был уже самым теснейшим образом связан со многими партизанскими отрядами Подмосковья, координировал их деятельность в оказании помощи регулярным частям нашей армии.
В это же время Алексей Кандидьевич начал вынашивать идею создания специальной кавалерийской части, которую можно было бы направить в тыл врага для боевых действий. Он начал подбирать добровольцев. В свою кавалерийскую группу Флегонтов выбирал наиболее смелых, отважных людей. Одно время он сам занимался и обучением бойцов-кавалеристов.
Конному партизанскому отряду дали название «Боевой». Отряд имел несколько эскадронов и взводов. После подготовки был направлен в тыл врага на территорию Белоруссии. Переходы отряд совершал преимущественно ночью. Незамеченный перешел линию фронта через так называемые «Витебские ворота» и стал продвигаться по Витебской области.
Центральный штаб партизанского движения поставил перед конным отрядом весьма важную задачу: своими действиями, боевым примером, умелой постановкой партийно-политической работы среди местного населения всячески содействовать развертыванию партизанского движения в Белоруссии. Эту задачу отряд успешно выполнял. Уже в пути к месту назначения «Боевой» провел несколько операций в тылу врага.
10 сентября 1942 года отряд прибыл в Лепельский район. Партизанская разведка донесла, что местечко Камень занято штабом гитлеровской дивизии. Флегонтов принял смелое решение – разгромить штаб. Осуществление этой операции было поручено взводу И. В. Жохова. Утром 12 сентября группа партизан прибыла в назначенное место, заминировала шоссе и замаскировалась в 50 метрах от дороги. Налет был рассчитан на внезапность. Отряду это удалось. В результате операции было уничтожено 12 автомашин с боеприпасами, 80 солдат, 3 офицера и генерал. Были также захвачены ценные документы штаба дивизии.
Через несколько дней отряд вступил на территорию Червенского района Минской области. 17 сентября кавалеристы прибыли в деревню Зенаполье.
В семи километрах от деревни, на лесном участке Рассохи, партизаны облюбовали место для своего лагеря. Началось строительство хозяйственных построек, госпиталя. А потом пошла обычная партизанская жизнь в лесу. Небольшими группами почти каждый день партизаны выходили отсюда на боевые задания.
Выполняя ответственную задачу штаба Минского партизанского соединения, конный отряд Флегонтова все время проводил большую организационную работу по укреплению партизанских подразделений. В скором времени отряд Флегонтова перерос в бригаду. В нее вошли партизанские отряды Тихомирова, Ливенцева, Филиппских и Кузнецова. Бригада стала грозной, хорошо вооруженной и мощной боевой единицей. Она имела постоянную радиосвязь с Москвой. Это дало возможность Центральному штабу партизанского движения систематически обеспечивать бригаду необходимым вооружением, боеприпасами, взрывчаткой. С каждым днем ширились боевые операции бригады, все больше и больше проводилось крупных операций против фашистских войск.
В конце ноября 1942 года кавалеристы под командованием Бобкова вместе с отрядом Тихомирова уничтожили фашистский эшелон в районе станции Талька Пуховичского района. Операция была детально продумана и подготовлена. Место для операции было подобрано на перегоне Верейцы – Талька. Лесной массив в этом месте и скрытые подходы к железной дороге содействовали успеху партизан. Под прикрытием своих товарищей подрывники Агафонов и Кузнецов быстро и умело заминировали железнодорожное полотно.
Так был уничтожен эшелон, в котором крупная воинская часть гитлеровцев направлялась к фронту.
Приход кавалерийского подразделения из-за линии фронта в белорусские леса имел большое моральное значение и сыграл определенную роль в усилении партизанской борьбы.
В ряды партизанской бригады Флегонтова приходили люди не только из окружающих деревень, но даже и из отдаленных районов.
Широкое развертывание партизанского движения серьезно беспокоило гитлеровцев. В феврале и марте 1943 года они снова бросили против партизан карательные отряды. И тогда командование партизанской бригады приняло решение временно передислоцироваться в другое, более безопасное место, за пределы Червенского района. Это перемещение проходило с 11 по 13 марта, все время с упорными боями.
В ночь на 13 марта часть бригады в условиях тяжелых боев вынуждена была остановиться около деревни Игнатовка Осиповичского района. Утром каратели окружили деревню. Командир бригады отдал приказ занять круговую оборону и вступить в бой с наступающим врагом. После сильной и довольно длительной перестрелки партизаны бросились в атаку. Каратели вынуждены были отступить и на время притихли. Чувствовалось, что фашисты собираются перегруппировать свои силы. Партизанам же надо было использовать это короткое время для того, чтобы выйти из окружения, вывести обоз и раненых. Флегонтов отдал приказ тыловым службам как можно быстрее отходить в глубь леса, а сам с небольшой группой партизан остался на передовой позиции, прикрывавшей отход обоза.
Тем временем каратели подтянули артиллерию и даже танки. Началась долгая методическая «обработка» леса. После нее гитлеровцы снова пошли в атаку. Комбриг Флегонтов все время лично вел огонь по врагу, своим примером воодушевлял бойцов на подвиги.
Во время этого боя комбриг был тяжело ранен. Несмотря на принятые партизанами срочные меры, спасти его не удалось. На боевом посту, в героической, самоотверженной борьбе с гитлеровской нечистью, отстаивая белорусскую землю, погиб верный сын русского народа старый большевик Алексей Кандидьевич Флегонтов.
На могиле своего комбрига партизаны поклялись беспощадно мстить ненавистному врагу и сделать все возможное для светлой победы, в которую так непоколебимо верил их боевой друг и товарищ. Впоследствии партизаны назвали именем Алексея Флегонтова свою бригаду.