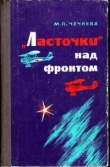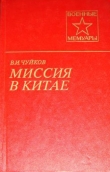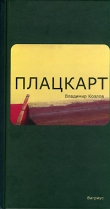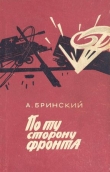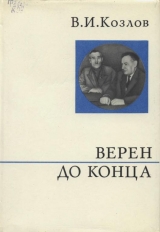
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Всем известно, что местная печать является важным звеном идеологической работы.
После того как Трестинского бюро освободило от работы, мы срочно начали подыскивать нашей газете нового редактора.
А на ловца и зверь бежит.
Я сидел в кабинете, когда услышал стук в дверь.
– Войдите.
Порог переступил худощавый мужчина в командирской форме без знаков различия, в начищенных сапогах. Волосы аккуратно подстрижены, лицо узкое, тщательно выбритое, глаза черные, быстрые. Вошедший по-военному вытянулся, козырнул и четко доложил:
– Товарищ секретарь! После действительной службы прибыл по месту жительства. Разрешите стать на партийный учет.
Помощник мне уже сказал, что это бывший педагог средней городской школы Яков Евсеевич Идельчик. По образованию филолог. Я поднялся из-за стола, вышел ему навстречу, протянул руку.
– Здравствуйте, будем знакомы. Вот кресло, прошу. Рассказывайте, как служили, какие ваши планы на будущее.
Беседовали мы довольно долго. Мне понравились сообразительность, находчивость Идельчика, его толковые ответы. Узнав, что он собирается опять преподавать в десятилетке русский язык и литературу, я предложил ему:
– А если мы порекомендуем вас на другую работу – редактором районной газеты? С кадрами, если говорить откровенно, у нас туговато. А вы коммунист, педагог, прошли хорошую армейскую школу. Как вы на это смотрите?
У Идельчика краска залила лицо. Видимо, он никак не ожидал такого предложения и сильно смутился. Что-то пробормотал о том, что мечтал вернуться в школу, к ученикам.
– А почему вы, Яков Евсеевич, решили, что мы вас сватаем в незнакомый дом? – спросил я. – Вы педагог, воспитатель, мы вам и предлагаем работу того же характера. Разница лишь та, что до армии вы работали с детьми, а теперь будете иметь дело со взрослыми. Партийный работник – тот же воспитатель, тот же наставник…
– Не знаю, что вам ответить, Василий Иванович…
– А вы не торопитесь. Отдохните с недельку дома, подумайте, посоветуйтесь с женой, она ведь у вас тоже коммунист. Потом мы с вами снова встретимся.
Дня через четыре Идельчик явился в райком.
– Обдумал я ваше предложение, Василий Иванович, – сказал он. – Побывал за это время и в редакции «Коллективиста», познакомился с людьми. В молодости я работал наборщиком в типографии, так что печатное дело для меня не чужое. Надеюсь, что освоюсь на новом месте. Но не скрою от вас своих сомнений: сумею ли обеспечить правильное направление газеты? Ведь в сельском хозяйстве я разбираюсь слабо. А это основное в районе.
– Ничего, Яков Евсеевич, все придет в свое время. Мне, к примеру, не раз приходилось в своей жизни менять профессии. Конечно, пота тут жалеть нельзя. Жизнь мучит, жизнь и учит.
Идельчик принял газету.
Действительно, на первых шагах ему пришлось трудно, Но видно было, что это человек деятельный, энергичный. «Коллективист» наш стал понемногу выравниваться: глубже вникать в дела местной промышленности, торговли, школ, шире освещать жизнь района. Недостатки, свойственные прежде нашей газете, – однобокость постановки вопросов, серость заметок, множество опечаток, орфографических ошибок – все это медленно, но упорно изживалось. Вот только сельскохозяйственный отдел, как был убогим, таким и остался.
В газете по-прежнему не появлялось статей, глубоко освещающих дела наших колхозов, работу МТС, – лишь поверхностные, сухие заметочки.
На одном совещании в райкоме я указал Идельчику на это. Он ответил, что редакция понимает свою слабину и отныне постарается уделять больше внимания колхозному строительству, вопросам агрономии, животноводства. В частности, сейчас они уже готовят большой, яркий материал о сельской нови.
И вот однажды утром я раскрываю газету и вижу, что обе ее полосы посвящены делам большого пригородного колхоза «Большевик». Местный фотограф дал в номер несколько снимков, выглядит газета нарядно. Однако прочитал я материал и ахнул: развесистая клюква. Вызвал Идельчика.
Пришел, как всегда, точно, сияет.
– Хорошее дело вы задумали, – начал я разговор. – Колхоз «Большевик» действительно заслужил, чтобы широко осветили его работу, поставили в пример другим. Да вот только… – И спросил его в упор: – Ты сам, Яков Евсеевич, готовил этот материал?
У Идельчика забегали глаза: не поймет, к чему клонится разговор.
– В колхозе «Большевик» я бывал неоднократно. Но в подготовке этого материала не участвовал.
– Кто же писал? Наверно, Курапей?
В редакции «Коллективиста» работал литсотрудником Михаил Курапей. Писал он слабые, подражательные стихи, которые, по его мнению, не ценились по достоинству. Держался Курапей этаким непризнанным гением.
– Да, – ответил Идельчик. – Этот материал готовил Курапей. По-моему, на этот раз он выступил удачно.
– Удачнее некуда! Ошибка на ошибке! С кого теперь спрашивать придется? С того, чья подпись стоит под газетой, – с тебя.
Идельчик вскочил, точно хотел бежать в редакцию распутывать дело. Но тут же вновь опустился в кресло, развел руками:
– Но Миша целых четыре дня сидел в «Большевике»…
– Вот именно «сидел»! И в конце концов высидел такие факты, о которых в колхозе пока еще лишь мечтают. «Большевик» хорошо пошел вверх, все мы этому радуемся. Но зачем было искажать, захлебываться восторгом? Денежная оплата трудодня в «Большевике» преувеличена по меньшей мере в два раза. Не все в колхозе обстоит благополучно с освоением севооборотов. Что же касается борьбы с нарушителями Устава сельхозартели и наведения порядка в землепользовании, то тут «Большевик» сделал только первые шаги. А вы бьете в литавры.
За это время Идельчик оправился от неожиданности, пришел в себя и стал оправдываться: за словом он в карман не лазил. Я знал эту его манеру, поэтому твердо остановил его:
– Ведь ты, Яков Евсеевич, отлично знаешь слабости Курапея. Значит, его материалы следует особенно тщательно проверять. А то что получилось? Этот номер прочитают во всех колхозах и, конечно, заметят «липу». Кто же будет вашему «Коллективисту» верить? А на нем не только твоя подпись. Сверху напечатано, что «Коллективист» – орган райкома партии и районного Совета депутатов трудящихся.
Идельчик перестал оправдываться, угрюмо замолчал.
– Понял теперь, какую ошибку сделала ваша редакция? Придется тебе держать ответ на бюро.
Надо отдать должное Идельчику, он понял всю серьезность обвинений и, глядя мне в глаза, честно сказал:
– Мы эту проработку заслужили, Василий Иванович. – Он вытер платком лоб. – Предупреждал я вас: плохо знаю сельское хозяйство. Это меня и подвело. Ладно, впредь наука будет. Раз уж такой серьезный разговор вышел, выскажу и я вам свои претензии. Мало вижу помощи со стороны организаций… В том числе и райкома. Ответственные работники не пишут статей – не допросишься. Это раз. Тираж «Коллективиста» очень маленький – два. И нужны какие-то меры, чтобы увеличить подписку.
«А чья вина в том, что мал тираж? – готов был вскинуться я. – Разве не редакции? Не умеют сделать газету интересной. Уж не хочет ли Идельчик переложить с больной головы на здоровую?»
И тут же я понял, что не прав. Как ни обидно было себе признаться, но в словах Идельчика была доля истины. «Коллективист» – орган райкома и райсовета. Кто о своем детище должен в первую очередь заботиться? Мы. Идельчик – наше доверенное лицо. Да и к чему приведут упреки? С кем ему делать интересную, содержательную газету? С Мишей Курапеем? А где найдешь сотрудников квалифицированнее?
– Упрек твой принимаю, Яков Евсеевич, – спокойно сказал я. – Давай обратимся к председателям сельсоветов, в парторганизации колхозов, пусть помогут распространять «Коллективист». Но прежде всего редакция должна сделать газету интереснее, приблизить ее к читателю.
– С кем ее сделаешь интересней? – горько усмехнулся Идельчик. – Весь штат: я, секретарь да литсотрудник.
Рассуждал он так же, как и я, ход мыслей у нас был одинаковый.
– Ты мне предъявил претензию, Яков Евсеевич? Теперь я тебе предъявлю. Скажи, сколько у вас внештатных корреспондентов?
Редактор заморгал:
– Точную цифру сказать не могу.
– А приблизительно?
Идельчик признался, что корреспондентская сеть в районе слаба. В редакционном портфеле у него совершенно нет запаса для очередного номера. Поэтому чаще всего материал собирают по телефону. Звонки же дальше сельсоветов не доходят (колхозы да и совхозы в то время не были телефонизированы). Именно поэтому полосы «Коллективиста» заполнялись официальными материалами, перепечатками из центральных газет.
Это общая болезнь низовой печати. У меня уже был опыт работы в Старобине. Как первому секретарю, мне и там приходилось контролировать местную газету, помогать ей в создании актива внештатных корреспондентов.
– Вот в этом и есть наш просчет, – сказал я. – Корреспондентская сеть – основа низовой печати. Как делать макет, верстать номер, я не специалист, а насчет селькорства – могу дать совет. Сам, будучи комсомольцем, пописывал. С чего, Яков Евсеевич, на мой взгляд, надо начать? Обсудите со своим коллективом план работы газеты на следующий месяц. Причем план должен быть конкретным, планируйте статьи работников райкома, райисполкома, секретарей партийных организаций, председателей колхозов. План этот мы утвердим на заседании бюро, как утверждаем план работы райкома и его отделов. Вот так мы сделали у себя в Старобине, и представьте – помогло.
Идельчик оживился, достал из верхнего кармана френча блокнот, стал записывать.
– Для меня запланируйте статью о мерах борьбы с разбазариванием общественных земель колхозов. И еще… Вам лично да и всем надо чаще бывать на полях, в тракторных бригадах, на фермах.
– Это мы и сами знаем, – согласился Идельчик. – Да трудно. Транспорта никакого. Пешком далеко не уйдешь.
– Знаю. При необходимости звоните нам. Когда кто-то едет, всегда прихватит с собой. Главное, создавайте на местах рабселькоровские посты, помогайте редколлегиям стенных газет. Может, организовать районную выставку низовой печати? И наконец, начинайте готовить совещание рабселькоров и редколлегий стенных газет. Словом, вам надо расшевелить народ, оживить работу.
На очередном бюро мы не только «песочили» редакцию «Коллективиста», но и обсуждали вопрос повышения идейного уровня газеты, ее улучшения.
Все это, конечно, положительно сказалось на работе редакции. Червенская двухполоска стала разнообразней по материалам. В ней находили место и важные решения ЦК КП(б) Белоруссии, Совнаркома, давались советы, как применить их в местных условиях, печатались и статьи по краеведению, на злобу дня. Активнее заработал литературный кружок, появились на полосе рассказы молодых авторов, стихи.
Неудивительно, что газету стали охотнее покупать, число ее подписчиков выросло.
В Червене, как и раньше в Старобине, я снова убедился, насколько сложна и разностороння работа секретаря райкома. Она охватывает все отрасли и народного хозяйства и культуры, все, что входит в емкое и ответственное понятие – рождение социалистической нови. Не было такого места в районе, куда бы мне не приходилось заглядывать, не было такого участка работы, делами которого я не интересовался бы.
Организация работы в промартелях, в какой-нибудь бондарной мастерской, торговля в магазинах, в кооперативных лавках, обслуживание в столовых – да разве все перечислишь? А школы? Секретарь райкома должен был знать, как ведется преподавание, достаточно ли учебников, вовремя ли произведен ремонт помещения, парт, не надо ли помочь машинами, рабочей силой. А библиотека?
Бывало, придешь домой часа в три ночи, свалишься в постель, чтобы хоть немного отдохнуть. Тут бы скорее заснуть, а перед закрытыми глазами проходит вереница увиденных за день лиц, припоминаются обрывки разговоров, мелькают сводки, цифры. Мысленно продолжаешь работать: не забыть бы сделать то-то и то-то, тому-то позвонить, туда-то съездить.
Да, секретарь райкома каждый час, каждую минуту должен быть начеку – внимателен, зорок, точен. Ведь с него же первого спрос, если где что не так. Словом, работы невпроворот, успевай поворачиваться.
Но как среди множества тропинок и проселков пролегает главный тракт, «большак», так и у всякого руководителя есть главное направление, главная задача, главная забота. В нашем сельскохозяйственном районе все внимание было отдано земле, сельскому хозяйству.
Рассказывая о Старобине, я уже упоминал, какие там были отличные председатели колхозов. Эти люди поистине снабжали страну и хлебом, и мясом, и овощами, и другими сельскохозяйственными продуктами. Немало таких людей мог бы я назвать по тамошней зоне МТС. Большинство руководителей червенских колхозов тоже народ был весьма дельный, с богатыми задатками.
В первую очередь вспоминается мне председатель артели имени Сталина Петр Григорьевич Мартысюк. Родом Мартысюк был из деревни Ореховка, хлопчиком батрачил – пас скот у богатого мужика в Репище. После школы пошел работать бригадиром в колхоз, а уже девятнадцати лет от роду возглавил артель в соседней деревне Ачижи. Он был самым молодым из председателей и очень толковым. Всегда чем-нибудь интересовался, о чем-нибудь расспрашивал и старался ввести в своем хозяйстве все то передовое и полезное, что видел у других. Про него соседние председатели, смеясь, говорили: «Петра Григорьевича не подпускай к своему хозяйству. Всякую новинку перехватит. Ты еще не успеешь освоить, а глядь, он уже тебе свой опыт передает».
Мартысюк в Червенском районе, так же как и Горячко в Старобинском, всегда точно выполнял свои обязательства перед государством.
Помню, как-то после совещания зазвал я Петра Григорьевича к себе в кабинет. Он рассказал мне о хозяйственных делах в своем колхозе и, как всегда, стал узнавать о делах района, МТС, об очередных кампаниях, советоваться о насущных задачах.
– Не гнешься, Петр Григорьевич? Тянешь артель?
– Кряхтеть приходится, но на ноги становимся вроде крепко. Что я хочу спросить, Василий Иванович. У нас много «бросовых» земель: болота, мхи. В хозяйстве от них никакой прибыли, а под обложением они находятся. Что бы с ними придумать?
Покурили мы с Мартысюком, прикинули и так, и этак. Гася в чугунной пепельнице папиросу, я сказал:
– Как тут не крути – осушать надо болота, Петр Григорьевич. Рано или поздно, а браться за это придется. Так лучше уж не терять время. Трудно, конечно, будет, но все же силами колхозников вы сможете провести кое-какие мелиоративные работы. Зато получите и новые полезные земли, и торф на топку: сразу убьете двух зайцев.
Мартысюк хмурил молодое румяное лицо, что-то прикидывал:
– В Борисовском районе один председатель осушил. В большую копеечку влетело, да и сколько времени потребовалось канавы прорывать…
И, подумав еще, решительно подытожил:
– А пожалуй, другого выхода нету. Поставлю вопрос на общем собрании – и возьмемся. Червенская МТС поможет трактором?
– Попросим директора.
Жадное внимание к новому, практичность и задорная решительность были отличительными чертами Мартысюка. И другая хорошая черта – он всегда советовался с правлением колхоза, как бы ни был убежден в правильности задумки. Может, это шло от молодости, уважения к старшим, а может, сказывалась и правильная школа советского воспитания.
В это же лето Мартысюк организовал народ на осушение болот: вручную прорыли канавы, проделали стрелки. В результате колхоз имени Сталина оживил 100 гектаров «бросовых» земель и получил тучный урожай. Отвел также Мартысюк воды речки Черновки, от которой начали было заплывать луга. Все эти осушительные работы принесли артели богатые результаты: расширились ее сенокосные угодья и стали вдвое больше давать трав.
Между прочим, Мартысюк редко ждал специальных вызовов и, когда по колхозным делам приезжал в Червень, был и гостем райкома, и гостем нашей МТС. Приедет, поговорит с инструктором, с агрономом, походит по мастерским, о чем-нибудь посоветуется со мной.
Один раз попросил разрешения зайти, сел. Вижу, мнется – не похоже на него.
– Что у вас там на внутреннем фронте? – спрашиваю как бы от нечего делать.
– Хочу по личному вопросу потолковать. Можно?
Я как чувствовал!
– Отчего ж? Давай. Не все же общественными делами заниматься.
– Что мне, Василий Иванович, делать с прежним председателем Галкой? Считает, будто я виноват в том, что его сняли. Организовал целое «течение» против меня. Знаете, как бывает? Сверху вода вроде гладкая, а снизу прет струя. Собрал родственников, бывших прихлебателей; мешает работать.
Бывший председатель Галка, снятый за пьянку, кумовство, все еще чувствовал себя в деревне полным хозяином. Его поддерживали прежние собутыльники, лизоблюды, лодыри. Все они были недовольны Мартысюком, называли его «мальчишкой», «Петькой», «сопляком», осуждали его распоряжения и громко, не стесняясь, прочили ему полный провал, а колхозу разорение.
Как всякий ограниченный человек, Галка считал, что виною всему его преемник. План у него был простой: сорвать работу нового председателя. Тогда, мол, колхозники его снова выберут.
С такими типами я встречался.
– Назначьте Галку бригадиром, – посоветовал я. – Окажите ему внимание. Пусть люди увидят, что ты, Петр Григорьевич, против него зла не держишь. И вот если он и тут не станет работать, начнет вставлять палки в колеса, то как следует сумейте пробрать его на собрании.
По тому, как оживился Мартысюк, я понял, что совет мой ему понравился.
– А согласится ли Галка взять бригаду?
– Согласится. Дружки его сразу понесут по колхозу. «Ага, – скажут, – у Петьки слабина. Не может обойтись без Евмена Афанасьича. В ножки поклонился». Галке и будет лестно. Я еще тебя поддержу. У вас когда правление? Через субботу? Я приеду и выступлю о том, чтобы берегли старые кадры. Опытных людей, мол, надо просить активнее помогать в хозяйстве. Это ведь действительно будет правильная установка. После этого ты и выдвинешь кандидатуру Галки. Ясно?
– Еще как!
– Вот и действуй. Коли ж Галка вдруг одумается и станет работать, разве то худо?
– Рад буду. Премируем его тогда. Да разве… заставишь петуха яйца нести?
В конце года, когда я приехал к Мартысюку в колхоз, он весело сказал мне:
– Добрый вы тогда совет дали мне, Василий Иванович. Так мы с парторгом и сделали. И когда колхозники увидели, что Галке создали условия, а он по-прежнему пьянствует, разваливает работу, даже родственники от него откачнулись, и остался он один. Кажется, собирается куда-то в город податься.
Хозяйствовать Мартысюку после этого никто не мешал. Артель его стала приносить крупный доход, он еще выше поднял трудодень, заложил большой клуб, построил новый вместительный коровник, стал подумывать о своей электростанции.
Два года спустя Мартысюк был выдвинут на пост председателя сельсовета, а когда немецкие фашисты вторглись в Белоруссию, по указанию райкома вступил в партизанский отряд. Воевал с винтовкой в руках, позже в Дзержинском районе был комиссаром отряда, потом и бригады. Человек он способный и впоследствии вырос до председателя Борисовского горсовета.
Многие из людей, с которыми мне довелось работать в колхозах, в МТС, в райкомах, со временем зарекомендовали себя как энергичные деятели, выдвинулись на руководящую работу. Когда Мартысюк еще был председателем колхоза, я видел, что из него будет большой толк.
И бюро, и партийный актив дружно решали задачи подъема сельского хозяйства района. Пожалуй, не было ни одного заседания бюро, ни одного пленума, на которых они не стояли бы в повестке дня.
С Мачульским мы работали дружно, совместно готовили заседания бюро, вырабатывали единую линию. У него была замечательная черта: не таить про себя сомнения, возражения. Он всем делился со мной. Нередко мы и спорили, и горячо переубеждали друг друга, но на бюро выходили обязательно с одним мнением.
Партийная принципиальность – вот что было нашим с ним девизом в работе. Я верил Мачульскому, как себе, знал, что он никогда не позволит себе ни малейших злоупотреблений по службе, не подведет районный комитет партии.
Все члены бюро были единодушны в своем отношении к нарушителям советской законности и партийной этики, действовали решительно и бескомпромиссно, но все-таки основой своей работы считали воспитание. Человека, совершившего нарушение, постарайся поставить на правильный путь. И лишь в том случае, если он окажется неисправимым, притяни к строгому ответу. Но сперва непременно постарайся его образумить – вот что мы взяли за правило. И не случайно замечательная книга Макаренко «Педагогическая поэма», появившаяся в то время, стала нашей настольной книгой.
Неоднократно лично мне приходилось вступаться за людей, несправедливо обвиняемых. Это диктовал мне мой долг – долг коммуниста.
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в сентябре 1939 года.
Начался этот год сильными морозами, завеями. Погода была созвучна бурным событиям международной жизни. Ни у кого не оставалось сомнений, что Гитлер от угроз перейдет к делу – вот-вот развяжет войну. Западные империалистические державы затеяли тайную закулисную возню по его «умиротворению». Оно свелось к тому, что по Мюнхенскому соглашению Германии отдали Чехословакию. Становилось все очевиднее, что буржуазные политиканы стремятся натравить фашистского пса на нашу державу.
Стремясь сорвать эти преступные планы, укрепить границы нашей страны, Красная Армия двинулась на запад и освободила окраины своей Родины, много лет находившиеся под пятой оккупантов.
Сколько столетий Белоруссию рвали на куски, топтали, угнетали немецкие рыцари, литовские магнаты, польские паны. Как старались они вытравить все самобытное, национальное! И вот теперь Советская власть покончила с исторической несправедливостью, вернула Белоруссии ее исконные Западные земли.
В этих условиях нам особенно важно было выполнять все наши обязательства. Мы знали, что государству нужен хлеб, скот, продовольствие, надо было снабжать всем необходимым Красную Армию. А положение сразу осложнилось: в армию забрали самых здоровых, работоспособных мужчин, лучшие машины, лошадей. Это весьма чувствительно сказалось на червенских сельхозартелях.
Вот в эти-то жаркие дни в нашем рыбхозе «Волма» случилось ЧП. Надо заметить, что дни в сентябре стояли жаркие, не только в переносном, а и в прямом смысле слова. Все сохло, казалось, снова вернулся знойный июль. И вот в один из дней звонок из прокуратуры: директор «Волмы» Шелепенок и главный рыбовод Макаров обвиняются в том, что вредительски загубили большое количество рыбы, примерно тонн десять карпа. На основании этого материала мы должны были исключить Шелепенка из партии.
У меня сразу закралось сомнение: «В такие дни умышленно потравить рыбу? Это мог сделать только матерый враг нашего государства. Но ведь я хорошо знаю обоих руководителей «Волмы», это были деловые коммунисты, хорошо наладившие свое хозяйство, всегда готовые прийти на помощь другим, выручить. Быть того не может, чтобы они преднамеренно навредили».
Я стал звонить в рыбхоз: никто не отвечал. Видимо, руководители все на прудах. Я тут же поехал в «Волму».
Рыбхоз был новой формой хозяйства, которая только внедрялась в Белоруссии. Закладка и строительство прудов начались еще в 1929 году, задолго до моего приезда в Червень. Раньше на этом месте тянулись болота, лес, стояли хутора. Потом огромная территория была расчищена, выровнена и залита водой. Разводили зеркального карпа, спрос на него у покупателя был большой, и мы намечали вырыть еще несколько прудов, начать строительство жилых домов для рабочих.
В рыбхозе тогда было девять прудов. План отлова рыбы составлял сто сорок тонн. Хозяйство обслуживали сорок пять рабочих.
«Эмка» наша остановилась возле конторы. Я вышел. Как я и ожидал, в здании конторы было пусто, и встретился мне лишь один сторож, дед Путрик.
– Что же, старик, рыбу не уберегли? – спросил его я.
– Это не моя резолюция, – тотчас ответил дед Путрик. – Моя резолюция ночью охранять пруды от браконьеров. А тут в ответе начальство.
– Неужели начальство потравило рыбу?
– Начальство здесь ни при чем. От него независимо. На все воля божья.
И пошел в поселок.
С Путриком мы были знакомы давно. Знакомство наше произошло так: однажды я пришел на пруд с удочкой, закинул. Смотрю, подходит старик, в кепочке, в резиновых сапогах, с ружьем, и строго спрашивает: есть ли у меня разрешение на ловлю? Я ответил, что нет. «Тогда сматывай удочку и ступай вон по той дорожке, а то оштрафую». Как раз рыба взяла у меня поклевку, поплавок запрыгал, но подсекать я не стал. «Почему, дед, такой строгий? У меня ведь сетки нету. Решил отдохнуть после работы. Хочешь, я тебе весь улов на склад отдам?» Старик уперся на своем, а потом вдруг присел и попросил закурить. «Ты кто будешь?» – спросил он. Я назвался. Путрик затянулся папироской. «Из уважения к партии закинь разов несколько. Только не подведи. Э, секретарь, да чего ты рот разинул, поплавок давно ко дну ушел, подсекай». Я вытащил карпа граммов на четыреста. Путрик отцепил его, посадил на кукан, присел со мной рядом, завел беседу. Я заслушался его и даже забыл о ловле…
«Что же здесь произошло независимо от начальства?» – подумал я и отправился на пруды. По дороге встретил Шелепенка и Макарова. Шелепенок был подвижной, черный, а тут совсем словно бы обгорел на солнце. Костюм на нем сидел кое-как, сапоги были грязные, в тине.
Втроем мы прошли в контору, закрылись в кабинетике.
– Ну, рассказывайте, что случилось.
– Что говорить, Василий Иванович? Погубили рыбу.
– Конкретней: как было? По порядку.
– Не рассчитал силы, – суетливо стал объяснять Шелепенок. – Понимаете, в армию забрали людей, самых опытных рабочих… автотранспорт, лошадей. Остались мы, что называется, при нетях. А тут отлов надо срочно производить. Стали из пруда воду спускать – рыба и погибла.
– Кто думал, что так внезапно ударит жара? – вставил рыбовод Макаров. – Надеялись, что сумеем в бочках с водой перевезти рыбу в зимники и полностью сохранить. Жарища подвела…
– Хотя бы одну годную машину нам, справились бы. А то подлатали старую полуторку, а она лишь чихает да стреляет.
Оба руководителя «Волмы» были вконец расстроены и измучены.
Постепенно из их сбивчивых ответов я понял, что произошло.
Зеркальный карп в прудах подрос, в сентябре наступило время для его отлова. Отлов обычно проходит в сжатые сроки, весь транспорт: автомобильный и гужевой, все рабочие направляются туда. Это можно сравнить с жатвой, сенокосом в деревне, когда весь люд – и стар и мал – выходит на работу.
Когда идет отлов, то воду по шлюзам сбрасывают в речку Волму. Водосброс идет постепенно, причем до конца воду не спускают. В этот же раз работали почти одни женщины и по неопытности, в суматохе воду из прудов спустили быстрее и больше, чем следовало.
Кинулись вылавливать и перевозить рыбу в зимники – как назло сломалась единственная полуторка, не взятая в армию по причине своей полной непригодности. Пришлось возить рыбу на подводах, в бочках с водой. А много ли в каждую можно положить рыбы?
А тут навалилась жара. Карп и начал задыхаться, гибнуть.
Когда мы разговаривали, под окном зафырчала машина, из нее вылез грузный мужчина в брезентовых сапогах, защитном картузе. На его гимнастерке блестел орден Красного Знамени. Это приехал из Минска управляющий рыбтрестом Моисеевич – участник гражданской войны.
– Больше десяти тонн, значит, погибло? – угрюмо спросил он. – Много.
Макаров удрученно произнес:
– Начальник червенской милиции уже намекнул нам, что мы нарочно так быстро спустили воду, с умыслом.
Все замолчали.
– Зачем же вы так заторопились с отловом, раз ни машин, ни рабочих? Обождали б, – прервал я затянувшееся угрюмое молчание.
– Сторожей тоже забрали в армию, с охраной стало плохо. Остались лишь старики вроде Путрика. Из прудов начали таскать рыбу все, кому не лень. Из ближних деревень приходили, даже из города. Вылавливали карпа бреднями, сетками… Я и заторопился.
Мы проехали по всем прудам. Пропала рыба только на втором – самом крупном. На остальных уцелела. Перед моими глазами все еще стоял этот огромный пруд со спущенной водой, уцелевшей лишь по ямкам, и в илистой жиже крупная черно-серебристая рыба, уже начавшая разлагаться.
– Пишите объяснение, – сказал руководителям рыбхоза Моисеевич.
Он остался в «Волме». Мне же пора было ехать.
– Духом не падайте, – подбодрил я Шелепенка. – Разберемся.
По дороге домой, в Червень, я еще раз взвесил все доводы «за» и «против».
Было совершенно очевидно, что никакого вредительского уничтожения рыбы в «Волме» не было. Была лишь оплошность. Можно ли за это подвергать людей жестокой каре? Сейчас, наверно, все в республике ощущают, что значит уход мужчин, специалистов в армию.
Конечно, рыбхозовцев мы решили хорошенько проработать на бюро, но уголовного дела создавать не собирались.
Когда я был в Минске, изложил в обкоме мнение бюро. Там меня выслушали, немного поспорили, но все-таки согласились со мной.
Вернувшись в Червень, я предложил прокурору закрыть рыбхозовское дело.
Несколько дней спустя я, как обычно, сидел в райкомовском кабинете. В приемной раздался резкий, продолжительный звонок: обычно так звонила междугородная. Ко мне вошел помощник, вполголоса сказал:
– Минск вызывает, Василий Иванович. Прокурор республики.
Я взял трубку.
– Товарищ Козлов?
– Слушаю вас.
Голос холодный, властный.
– Почему вы защищаете Шелепенка?
Я уже понял, какой будет разговор, отвечаю спокойным, официальным тоном:
– Потому, что бюро не считает его вину настолько тяжкой.
Опять холодно:
– Вам лично известны материалы?
Я не стал объяснять, что специально занимался вопросом, выезжал на место, беседовал с руководителями «Волмы», с народом, был в обкоме. Отвечаю коротко:
– Известны.
Прокурор республики помолчал. Потом с большим нажимом произнес:
– Вы, товарищ Козлов, становитесь на опасный путь покровительства преступников. В условиях военного времени это недопустимо. Может быть, вы ставите под сомнение следствие, проведенное районными органами?
– Нет. Только его выводы.
– То есть, прошу поконкретней.
– Бесхозяйственность в «Волме» налицо. Но она не преднамеренная, есть смягчающие обстоятельства. Бюро райкома считает, что можно ограничиться строгим взысканием.
Опять небольшая пауза. И уже совсем ледяным тоном:
– Вам придется отвечать партийным билетом. Я все равно добьюсь возбуждения дела.
Дали отбой. Я понял, что борьба предстоит серьезная. Видно было, что прокурор раздражен: угроза его звучала резко.
Я еще раз мысленно проверил, правильную ли мы заняли позицию. Решил, что отказываться от нее не буду. Бюро поддерживало меня: все хорошо знали руководителей рыбхоза.
Прошло еще несколько дней. Я опять был в райкоме, когда раздался звонок и мне сказали: