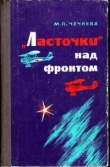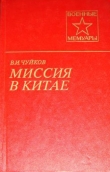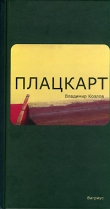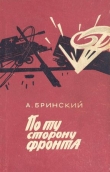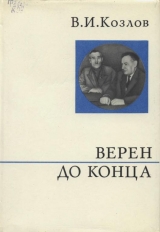
Текст книги "Верен до конца"
Автор книги: Василий Козлов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Большевистские ораторы доходчиво разъяснили собравшимся суть Февральской буржуазно-демократической революции, что из себя представляет Временное правительство и что такое Советы рабочих и солдатских депутатов, к чему сейчас призывает Ленин. Мы, ребята, и то стояли взволнованные.
Выступавших было много. Общее одобрение вызвала бойкая речь литейщика из паровозного депо, малого в расстегнутой ватной тужурке, сбитом набок форменном картузе, из-под которого торчали соломенного цвета волосы:
– Обрадовались мы в феврале революции, как пасхальному яичку… а яичко-то оказалось с тухлинкой. По-прежнему нам говорит начальство: «Поднатужься! Поторапливайся! На оборону работаем!» А из-за чего, если спросить, лично мне воевать? Вот из-за этого тряпья? – показал он на свой засаленный пиджак и сбитые грязные сапоги. – Так я их могу снять и отдать немцу: бери! Подавись! Только он их едва ли возьмет…
В толпе послышался смех.
– Керенский опять всех на войну толкает. Что же это выходит? Царя свергли, а царский договор со всеми французскими Пуанкаре и подобными держим? Вот нам товарищ из Полесья объяснил насчет колоний и прочего. Нам с вами, что ли, ими владать? Господам миллионщикам, разным магнатам, Потоцким, радзивиллам, цебржинским. Они как сидели у нас вот тут, – литейщик хлопнул себя по черной, прокопченной шее, – так и сидят. А попы кадилом мотают: «Идите защищать веру и отечество». Что же изменилось? Что?!
Литейщик будто спрашивал у собравшихся. И в ответ посыпались громкие голоса:
– Хватит лить кровь. Долой войну!
– О трудовых людях пора подумать!
Поднялся шум, гам, над толпой выросли десятки, сотни рук, захлопали оратору, он хотел что-то еще добавить, но лишь махнул темной от въевшейся литейной пыли и грязи рукой и спрыгнул с самодельной трибуны.
И опять звучали речи о воплощении многовековой мечты тружеников: землю без выкупа – тем, кто ее обрабатывает, кто из года в год поливает ее своим потом; фабрики – тем, кто стоит у станков и поэтому является их подлинным хозяином. Не только взрослые рабочие, но и мы, подростки, с особым подъемом, воодушевлением слушали требования большевиков о переходе на восьмичасовой рабочий день без уменьшения оклада. Сверхурочную работу – лишь с согласия самих металлистов, путейцев, строителей и за повышенную плату.
Под крики «ура» и громкие аплодисменты были избраны посланцы в Жлобинский Совет рабочих и солдатских депутатов. Присутствовавшим тут же раздавали «Известия Минского Совета» (как я узнал позже, их редактировал М. Фрунзе), воззвания большевиков Полесья, листовки.
В стороне маленькой кучкой жалось встревоженное железнодорожное начальство в своих черных добротных пальто, в шапках с кокардами, с начищенными до блеска пуговицами. Вот когда я впервые почувствовал силу и власть организованных рабочих, мощь народа, объединенного единой идеей! Ведь все эти начальники, мастера не всегда кланяются в ответ. А сейчас стоят смирненько, словно воды в рот набрали.
Рядом с ними растерянно топчутся полицейские, чубатые казаки. Недалеко от нас в Могилеве была ставка верховного командования, и у нас скопилось много воинских и жандармских чинов.
С этого времени бурные митинги на нашей станции не прекращались, и я и мои товарищи и дневали и ночевали там. Все для нас было ново, интересно, близко сердцу, хотя и не все понятно.
Вскоре на Жлобинском узле был введен восьмичасовой рабочий день и создан профсоюз железнодорожников. В члены его немедленно с гордостью вступили я и все мои дружки.
На одном из первых собраний рабочие узнали о пуске поездов местного назначения, как у нас их называли, «делегатских».
– Жлобинский Совет депутатов, – говорил молодой путеец, – принял решение, значит, насчет облегчения рабочему человеку. После смены-то вон как все устают, а тут тащись по непогоде за десятки верст домой. А теперь как шабаш, будут ходить по нескольку вагонов в сторону Бобруйска от Жлобина до Красного Берега. И в сторону Гомеля от Жлобина до Салтановки. Билетов не брать… бесплатно.
Теперь мы, рабочие, по утрам не месили грязь. «Делегатский» шел медленно, останавливаясь у переездов, у деревень и подбирая всех рабочих, строителей, путейцев. После работы этот же состав переполненным выходил из Жлобина. У Новиков, у Заградья и Малевичей из трех его вагонов вылезала добрая половина пассажиров. Черные, замасленные, но веселые, добродушные. Обычно люди сидели не только на подножках, но и на паровозе с обеих сторон котла. Все были очень довольны, и окрестные деревни без конца обсуждали это знаменательное событие. Вот и наглядная забота народной власти о трудовом человеке! Небось ни царское правительство, ни Временное о наших удобствах не думало.
Короткий состав «делегатского» поезда водил машинист Макар Осмоловский. Проезжая мимо своей родной деревни Малевичи, он непременно давал несколько резких, протяжных паровозных гудков, этим приветствуя односельчан и старика отца, жившего в небольшом домике у болота. Помню, я остро завидовал Осмоловскому: вот бы и мне когда-нибудь огласить протяжным гудком родное Заградье!
Все новости, которые я узнавал в Жлобине, – а в ту пору чуть ли не каждый день приносил новость – я передавал дома. Отец мой словно помолодел, еще аккуратнее брился, подстригал усы и ходил подтянутый, веселый.
– Дождались и мы красных деньков, – говорил он, сидя с мужиками на завалинке. – Царь ни земли не дал, ни свободы. Керенский наговорил с три короба, а толку чуть. Видать, только Ленин да свои рабочие Советы заступятся за нашего брата. Если сейчас сами за них не подымемся стеной, вовек не видать нам хорошей жизни.
В окрестные деревни из разных мест заглядывали новые люди. Из Петрограда на побывку приехали два наших односельчанина – матросы с крейсера «Аврора» Алексей Горенков и Павел Сидоркин. С их помощью в апреле в Заградье, Малевичах, Новиках и других деревнях были созданы крестьянские комитеты.
Председателем комитета в Заградье выбрали моего отца Ивана Трофимовича Козлова. В хате нашей сразу стало шумно от людей. Хоть отец и работал на железной дороге, он никогда не отрывался от земли и близко к сердцу принимал все деревенские дела. Он тут же поставил вопрос на комитете – предоставить крестьянам выпас. Мужики стали выгонять свой скот на помещичий луг и сенокосы, что кольцом опоясывали скудные крестьянские наделы наших деревень.
– Теперь хоть немного вздохнуть можно, – говорили довольные хлебопашцы, – Не будет сердце болеть, глядючи на голодную скотину. Спасибо комитету.
Однако управляющий поместьем и мужики побогаче были недовольны таким решением, они потребовали, чтобы комитет вернул выпасы.
– Самоуправничать голота вздумала? Власть такого не допустит. Все Ивашка Козлов мутит. Рано этот «луговик» возрадовался, морду поднял. Главная-то косточка в Расейской державе мы, хозяева. От нас беднота кормится. И с рук комитетчикам это не сойдет. Вот уж попляшут плети кое у кого по спине.
Дошли эти слухи и до отца. Он сплюнул, зло, едко сказал:
– Припекло «благодетелей». Обидно пану управляющему, попу и богатеям: нельзя, как раньше, драть с мужика сразу три шкуры. Только прошло то времечко, нас не запугаешь.
И этим же летом крестьянский комитет захватил часть помещичьих лугов, разделил их на делянки по душам. Мужики и бабы скосили сено и перевезли в свои дворы. Так же свободно стали они заготавливать и дрова на топку в панском лесу, а кто и бревна на новую хату.
Вслед за железнодорожными рабочими, крестьянской беднотой потянулось и большинство середняков Заградья: сено, строевой лес, дрова нужны были всем. Засвистели косы на лугах Цебржинского, застучали топоры в лесу.
Теперь народ с жадностью смотрел на необъятные помещичьи посевы, политые крестьянским потом. Однако захватить их пока не решались: мешали ставленники Временного правительства, эсеры, прочно окопавшиеся в уездных органах Рогачева. Мешал этому и приказ командующего Западным фронтом, изданный в июле 1917 года и запрещавший «экспроприацию движимого и недвижимого имущества». Мешали провокационные слушки, пущенные кулаками, церковниками к поднявшими голову черносотенцами.
– Учредительное собрание разберется в земельном вопросе, – твердили они. – Сейчас главное – война до победы!
А в стране шло великое брожение. Старый революционер котельщик Карпович разъяснял рабочим и солдатам директивы, получаемые через Полесский комитет РСДРП(б) из Питера. Среди них были такие, которые особенно близко касались Белоруссии, – к примеру, наказ силой изолировать от фронта ставку генерала Духонина в Могилеве, где находился центр офицерского заговора, и во что бы то ни стало задержать эшелон генерала Лавра Корнилова, направлявшийся в Петроград на подавление революции.
На Жлобинском железнодорожном узле, по примеру Гомеля, возник комитет революционной охраны. Рабочие паровозного и вагонного депо соорудили нечто вроде бронепоезда. В прицепленных к нему вагонах-углярках прорезали отверстия для пулеметов, а стены изнутри выложили мешками с песком. Не только мы, подростки, но и взрослые рабочие с гордостью и уважением смотрели на эту своеобразную движущуюся крепость, самодельный блиндированный поезд. Многие рабочие обзавелись винтовками, револьверами, боеприпасами. Их кто находил, кто выменивал.
– Видать, большая каша заваривается, – вслух рассуждали транспортники.
Прежде на нас всегда смотрели как на рабочие руки, а теперь мы становились и военной силой. Все понимали: если ударит грозный час, трудовому народу придется грудью встать за свое кровное дело.
Все мои товарищи, и я в том числе, рвались на этот поезд. Как мы мечтали занять место у его амбразуры! Конечно, мы понимали, что нас не возьмут: маловаты. Однако нашлось и нам дело. Члены комитета в ответ на нашу просьбу о зачислении в рабочую дружину сказали:
– Пока, ребята, у вас другая задача. Надо охранять мосты через Днепр, Добосну, Белицу, кое-какие сооружения тут, на узле. Надо знать, какие поезда с запада идут в глубь России, чтобы, значит, не пропустить. Да как бы и тут, на путях, кто не напакостил. Понимаете? Вот это будет ваша революционная служба.
Нечего говорить, что мы тотчас с гордостью согласились выполнять поручение комитета.
Кроме того, у меня было еще дело: в рабочий перерыв я читал вслух газеты, листовки – многие у нас были неграмотные.
5
«Вся власть Советам!» – Мой отец – председатель комбеда. – Мятеж генерала Довбор-Мусницкого. – Мы защищаем революцию.
Октябрьский переворот мы встретили так, как встречают грозу в знойном, выжженном солнцем краю, где на корню гибнет урожай и люди ждут не дождутся освежающего, живительного ливня. Везде забурлили шумные, горячие митинги. В Жлобине появились отряды большевиков – рабочих, солдат и матросов. На шапках у них были красные полосы, через плечо ленты с патронами, у пояса гранаты, револьверы.
Они призывали население к беспощадной борьбе с контрреволюцией. Замелькали боевые лозунги: «Вся власть Советам!», «Мир – хижинам, война – дворцам!», «Заводы – рабочим, земля – крестьянам!».
В Жлобине возник ревком. В первых числах ноября на станцию прибыли настоящий бронепоезд, полк имени Минского Совета, эшелоны сибирских стрелков. К середине месяца со ставкой генерала Духонина в Могилеве было покончено.
Отец мой как председатель крестьянского комитета развернул в Заградье и окружающих деревнях активную работу. Действовал он под охраной местного вооруженного отряда красногвардейцев. По решению общей крестьянской сходки они захватили имение пана Цебржинского и раздали крестьянской бедноте, семьям фронтовиков, беженцам землю, рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь, хлеб. Часть помещичьего зерна, а также фураж и скот передали революционным воинским частям. Помещичий дом решили сохранить в целости и устроить в нем или школу, или больницу.
Теперь ахнула вся округа. Кого «разбуржуили»! Самого пана Цебржинского! Забрали имение, урожай. Наконец-то восторжествовала справедливость! Люди все больше убеждались, что власть большевиков и есть власть народная.
Дверь нашей хаты в это время ни днем ни вечером не закрывалась. К отцу шла беднота за советом и помощью. Вечерами собиралась молодежь, зная, что тут всегда, найдутся свежие большевистские газеты, принесенные нами со станции. До поздней ночи обсуждались события в деревне, городе, в армии, завязывались споры. Я и мои дружки с подъемом пели новые революционные песни, а я еще любил заучивать стихи. Начал с Демьяна Бедного – «про землю, про волю, про рабочую долю».
С наступлением морозов и установлением санной дороги население окрестных деревень на подводах хлынуло в помещичьи леса. Оттуда потянулись громадные нескончаемые обозы с бревнами, дровами. Почти у всех дворов прямо на улице, а то и на огороде выросли ярусы заготовленного леса для строительства новых и ремонта старых хат, сараев.
И тут появились новые хлопоты у крестьянского комитета и его главы. Безлошадной бедноте, вдовам, инвалидам войны и сиротам самим не раздобыть подвод. По инициативе отца, рабочих-железнодорожников, живущих в деревнях, и не без активной помощи тетки Маруты в деревне была создана общественная взаимопомощь. Добровольцы, мужчины, женщины и подростки, заготавливали в лесу бревна, а в определенные дни крестьяне с лошадьми привлекались на их вывозку.
Только у нашего двора не лежало ни одного бревна, хотя наша старенькая хатенка все больше и больше клонилась набок. Когда отцу предлагали подводу для вывозки строевого леса, он обычно отмахивался:
– Сперва поможем другим, а уж после и о себе подумаем.
В разговор тут же вмешивалась мать:
– Знаете, как два старосты бревно пилили? Каждый к себе тянет, а другому подать не хочет. Хотите, чтобы и мы так поступили? Сперва себе, а потом людям – это так старая власть делала. А Ивана моего народ выбрал, народу все и в первую голову. Нам пока терпится. Успеем. – И шутила: – Зато потом построим себе хоромы не хуже, чем у батюшки.
Многие в те годы сетовали, что жизнь наступила тяжелая, опасная, смутная. Действительно, видали мы и смену властей, грозило нам и офицерство, верное царю казачество, пошаливали местные бандюги – оружия-то везде много было. Появились болезни, страшные эпидемии тифа, «испанки», все беднее становились базары, заметнее ощущался голод. Ложась с вечера спать, мы не знали, что ожидает нас завтра.
Все это, повторяю, было, все это я видел своими глазами, и тем не менее никогда жизнь не казалась мне такой яркой, пестрой, захватывающей. И голод и недостатки как-то мало меня задевали. Да и могло ли быть иначе? Разве мы и в «доброе старое время» ели досыта? Разве мы не ходили такие же обшарпанные, в худой одежде и разбитых лаптях? Зато какие теперь события бурлили вокруг, и хоть и грозные они были, но сколько приносили надежды! Для меня главным стало то, что делалось в Жлобине, что сообщали ораторы на митингах, о чем рассказывали газеты. Конечно, происходило это потому, что и мои родители, и старшие товарищи по работе были настроены революционно и дух взрослых целиком передался мне. В Заградье, Малевичах и других окрестных деревнях нас теперь называли красными, большевиками. Богатеи хмуро говорили: «Иванка Козлов? Он теперь у совдепчиков коренником… да и вся семейка в пристяжке ходит».
Одного я опасался: как бы все не вернулось на старую тропку, как бы рабоче-крестьянскую власть не задавили «контры». Каждый день газеты приносили тревожные вести: там и сям против красного Смольного вспыхивали восстания. Офицерство, недобитая буржуазия все выше поднимали голову.
Не случится ли чего худого и у нас?
И это случилось.
Неожиданно в январе 1918 года белопольский генерал Довбор-Мусницкий поднял мятеж. Сразу стало известно, что он взял под свою защиту панские имения, фабрики предпринимателей.
Новый главком Западного фронта Мясников потребовал от Довбор-Мусницкого, чтобы он не вмешивался во внутренние дела республики. Несмотря на это, корпус белопольских легионеров захватил Минск, Бобруйск, наш уездный город Рогачев и ряд других населенных пунктов. В Рогачеве белополяки разгромили уездный Совет, разграбили казначейство, изъяв свыше полутора миллионов рублей золотом, продовольственные склады.
Затем стали готовиться к наступлению на Жлобин.
Настали очень тревожные дни. Стало известно, что председатель Совнаркома Ленин дал указание революционной ставке и главному командованию Западного фронта задержать наступление белопольских мятежников на Жлобин, отбросить их назад.
В Жлобин спешно прибывали воинские части, в прилегающих к нему деревнях формировались революционные отряды из рабочих депо, лесозавода, путейцев, окрестных, крестьян. Народ был полон решимости. На станции сгружали орудия, пулеметы. Батальоны, неумело шагая в ногу, сурово, решительно уходили занимать оборону. Везде рыли окопы, революционные войска залегли за высокой насыпью железнодорожного полотна, так называемого Пересеченья, кольцевой обводной дороги, идущей с сортировочной товарной станции на Могилев и Оршу.
Орудия и станковые пулеметы выставили и у леса, у болота. Жлобин грозно затих.
Вот когда война, о которой мы знали лишь по газетам и сводкам, слышали от проезжих бывалых солдат, вдруг вплотную подступила к нам.
В доме у нас, казалось, поселился больной. Однако родители панике не поддались. Отец с матерью не спали ночами; часто просыпались и мы, старшие, и лишь малыши сладко посапывали на нарах. Мы, как и все, ловили слухи, чудовищно раздутые в такое тревожное время, прикидывали, как быть. Отовсюду приходили вести, что отряды польских карателей жестоко расправляются с революционными комитетами, со всеми, кто сочувствует «совдепчикам».
Однажды я проснулся среди ночи и услышал негромкий разговор родителей:
– Придется тебе, Марута, с малыми уйти из Заградья… подальше в лесные деревни, – говорил отец насколько мог спокойно. – Наши решили Жлобин не сдавать, держаться до последнего, но… все может быть. Белополяк-то прет, как знать…
– А ты, Иван?
– Я председатель крестьянского комитета. Сама понимаешь, где мое место. В окопах, с винтовкой.
Некоторое время стояло молчание. Верещал сверчок, зимовавший у нас за печкой. В небольшие замерзшие окошки глядела глухая ночь. Мать спросила:
– А старшие ребята?
– Федор сказал, что пойдет со мной. Ваську возьми, он тебе поможет детишек приглядеть.
«Ну, это посмотрим», – подумал я, стараясь не шевелиться, а то родители услышат, что я не сплю.
Только в этом году мне должно было исполниться пятнадцать. Я давно ел свой кусок хлеба и считал себя самостоятельным. Многое я уже понимал в жизни. Вот он настал, тот день, когда на карту было поставлено существование новой власти. Признаюсь, я даже по молодости обрадовался такому грозному испытанию: пусть даже я погибну, но спасу республику Советов. Все тогда узнают, какой был стойкий парень Васька Козлов!
Каждый, кто помнит старую дореволюционную жизнь, поймет меня. Ведь приход легионеров Довбор-Мусницкого означал бы возврат к прежним порядкам. Опять бы только знатные и богатые имели право на свободу и счастье, они вершили бы суд и расправу, уверяя при этом, что «ратуют за народ». А мы – «мужички и мастеровые» – так бы и остались черной костью, ломали бы шапку перед каждым паном. Прощай тогда равноправие, к которому мы так быстро привыкли, прощай хорошее и душевное обращение – т о в а р и щ и. Оставаться бы мне тогда навек с четырьмя классами церковноприходской школы: где уж там мечтать об учебе!
И нет ничего удивительного в том, что теперь я во что бы то ни стало, даже против воли родителей, готов был встать «на баррикады».
Утром я так и заявил отцу: никуда не уйду, где он будет с Федором, там и я.
Он промолчал. Мать цыкнула на меня, я поспешно оделся и вышел на улицу. «Что бы со мной ни делали, – упрямо рассуждал я, – все одно в беженцы не пойду».
И когда отец и Федор, тепло, по-зимнему одетые, рано на заре отправились в Жлобин, я сзади последовал за ними. Мать с Машей и малыми ребятами осталась в избе: братишки еще спали.
С поворота улицы я украдкой оглянулся назад. «Вернемся ли домой?» Сердце колотилось, глаза пощипывало, к горлу что-то подступило; однако никаких колебаний я не испытывал.
Заметив меня, отец остановился, угрюмо спросил:
– Ну?
Тут был и приказ вернуться, и вопрос: что же, мол, ты делаешь? Я тоже остановился, всем своим видом упрямо показывая, что все равно решения своего не переменю. Отец поправил шапку и пошел дальше.
Так я оказался с ним и с Федором в окопах.
Бои под Жлобином длились несколько дней. Теперь я узнал на деле, что такое «передовая», «позиция». Получилось не совсем так, как я мечтал: подвига совершить мне не удалось. Охотников защищать Жлобин нашлось много, оружия не хватало и взрослым, мне даже думать было нечего о том, чтобы раздобыть хотя бы револьвер.
Вместе с другими бойцами мы ломами, кирками поспешно отрывали в мерзлой, расчищенной от снега земле окопы.
Я тоже копал затвердевшую землю; дело было знакомое.
Отец еще раз попытался отослать меня в тыл:
– Ступай, Васька, отсюда. Убьют.
Федор отмалчивался. Он – как, впрочем, и отец – понимал, что идти мне некуда. Наше Заградье, Малевичи, другие ближние деревни очутились в руках врага, и мы сами не знали: спаслись ли мать, сестра и младшие ребятишки, цела ли наша хата?
Скоро отцу стало не до меня: польские легионеры начали обстрел Жлобина. Орудийные снаряды первое время все перелетали через нас. Затем твердо застучали пулеметы, противник повел по нашим насыпям прицельный огонь.
Я забыл про все на свете: так вот она какая война!
Пристально, до рези в глазах вглядывался я в хорошо мне знакомые поля, где я знал чуть ли не каждый бугорок, в синеватую хвою леса, можжевеловые кустарники. Сколько раз я ходил по этим местам и не обращал на них особого внимания. Сейчас они вдруг словно бы изменились, наполнившись грозным и таинственным значением: там, в этих синих лесах, скопился беспощадный и смертельный враг – польские паны, легионеры, драгунские эскадроны. Вооруженные до зубов Антантой, хорошо обмундированные, они мечтали одним ударом покончить с ненавистной им властью Советов в Белоруссии. За ними шли местные националисты, фабриканты, кулачье, их прихвостни.
– Конница! – раздался чей-то тревожный крик. – Атакуют!
Далекое поле в стороне Рогачева зашевелилось, словно ожило: из леска вылетали конники с пиками наперевес и неслись прямо на западную часть круговой обороны Жлобина. Вот он наконец и враг. До чего он стремительно движется! Я сам не заметил, как упал за насыпь полотна в неглубокий окопчик. Зачем-то схватил ком мерзлой земли, крепко сжал, так что он начал крошиться. Или вообразил, что это у меня граната?
Тишина стояла такая, что биение собственного сердца я принимал за бешеный топот копыт. Затем резко застрочили пулеметы с нашей стороны, грянули нестройные винтовочные залпы. Я выглянул через насыпь и зажмурился. Конница неслась лавиной, в свете неяркого дня поблескивали обнаженные сабли. Отчетливо были видны конфедератки, шинели английского сукна.
Наши теперь стреляли густо, без перерыва.
Одна лошадь упала, покатился всадник, другой, четвертый, вон еще, еще! Лавина приближалась, но уже медленнее, нерешительнее. Легионеры вдруг стали поворачивать коней, все смешалось – и вот уже поляки беспорядочно бросились назад, в лес, исчезли, будто их никогда и не было.
Стихли наши пулеметы, винтовки. От волнения я весь вспотел.
– Всыпали! – радовались все вокруг. – Всыпали! Отбили!
Потерь у нас почти не было: несколько легкораненых. Насыпь железной дороги хорошо укрывала.
Долго ли будет длиться затишье? Большую ли передышку даст нам враг или скоро начнет новое наступление?
– Ах, туды-т твою! – неожиданно послышалось рядом со мной. Взъерошенный солдат с потным закопченным лицом, в серой папахе шарил по карманам шинели, ощупывал патронташ. В левой руке он держал винтовку, из-за пояса торчали гранаты, вокруг валялись пустые, расстрелянные гильзы.
Я повернулся к нему.
– Слышь, малый, – вдруг обратился он ко мне. – Видишь соснячок у переезда? Там двуколка с патронами. Добеги, принеси хотя бы пару обойм. А? Для революции.
…Когда полчаса спустя я, еле дыша, вернулся в окопчик, солдат грыз сухарь, держа его озябшей рукой. Он помог мне выгрузить из карманов, из-за пазухи обоймы с патронами. Сунул мне сухарь, а сам стал набивать оба патронташа, заряжать винтовку.
Потом я еще несколько раз подносил патроны и отцу с Федором, и другим бойцам. Приносил суп из полевой кухни, что пряталась на окраине молодого леса, ближе к станции.
Атаки белополяков в этот день захлебнулись. Их кавалерия и пехота под Жлобином попали в ловушку. Легионеры в беспорядке отступили, оставили на снегу сотни убитых солдат, офицеров, трупы лошадей.
На следующий день было отбито еще несколько атак врага, их ночные вылазки. Белополяки стали гораздо осторожнее, а наши, наоборот, почувствовали свою силу, держались уверенно, бесстрашно, несмотря на то что многие защитники из рабочих были необстрелянными.
Так легионерам и не удалось взять Жлобин. Подоспевший советский бронепоезд внес окончательное смятение в их ряды, и они откатились назад в направлении Рогачева и Бобруйска. Боясь преследования, они по пути отхода взрывали железнодорожное полотно, мосты.
Во время одной из таких диверсий красногвардейцы поймали на рельсах польского поручика. Его доставили в отбитые нашими войсками Малевичи. Население признало в нем одного из самых злобных карателей; при полном одобрении крестьян поручик был тут же на шляху у колодца расстрелян.
Странно было мне с товарищами ходить по родной деревне, несколько дней находившейся у врага. Хата наша уцелела; живой и невредимой вернулась мать с ребятами: все это время она спасалась в лесной деревушке у дальних родственников. Соседи рассказали нам, что белополяки, видимо, вместе с местными предателями устраивали возле нашего двора засаду в надежде поймать для расправы кого-нибудь из нашей семьи.
За короткое время хозяйничанья в окрестных деревнях легионеры разогнали крестьянские комитеты. Польские паны и прибывшие с ними буржуазные националисты из Белорусской центральной рады взяли под охрану имение Цебржинского. Изъятые крестьянами из панского имения скот, инвентарь, хлеб они силой возвращали обратно. Сельских активистов избивали нагайками, грозили расстрелом.
– Показали паны свои клыки, – говорили в народе.
К концу января в Жлобин прибыли новые отряды красногвардейцев. Они ударили на Рогачев, выбили оттуда белополяков, разгромили их и под Бобруйском.
Более двух десятков жителей Заградья и Малевичей, главным образом молодые железнодорожники, влились в ряды бойцов дальнебойного бронеотряда, которому присвоили имя В. И. Ленина.