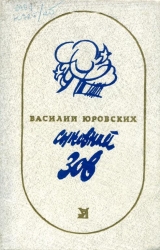
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Юра Артист
Третий день морочает над желтыми лесами с той стороны, где идет война, и Нюрка с Кольшей торопятся сегодня посуху докопать бабушкину картошку. А мы с ней топим баню, что притулилась к пряслу огорода Ивана Яковлевича Юровских. Сперва натаскали воды из колодца: бабушка на коромысле, а я двумя маленькими ведерками. Когда банная посуда – три кадки и бадья для щелока – запростана, начинаем носить дрова.
– Васько, ототкни-ко дымоход! – наказывает бабушка и затопляет каменку. Я лезу на полок и вытаскиваю прокопченную тряпичную затычку в стене над каменкой, куда вытягивает дым из бани.
Сейчас остается следить за жаром и вовремя греть воду раскаленными круглыми гирями. Их бабушка выхватывает из подтопка клюкой и кидает в кадки, откуда гулко ударяет густой белый пар. Тут только успевай убираться за порог, иначе можно ошпарить лицо.
– Слышь, Лукия Григорьевна! – окликает бабушку из своего огороде сосед Иван Яковлевич. – Обожди, чо я те скажу: опять седни в сельсовет похоронка пришла.
– На кого?! – меняется лицом бабушка и роняет на траву шабалу, которой вылавливает угли из бадьи со щелоком.
– Не пужайся, соседка, не на твоих сыновей и не на наших деревенских.
– А на кого боле-то?
– Председатель Олександро Федорович сказывал давеча – Юра Артист погиб. Помнишь, с кином ездил к нам года два?
Дедушка Иван подходит бороздой к бане и тяжело опирается грудью на прясло. Ему не на кого больше ждать похоронные: младший сын, пограничник Дмитрий, погиб в самом начале войны, а старший, тракторист Степан, убит прошлый год под Ленинградом.
– Уж и как не помнить! С Ваньшей моим друзьями были, сколь разов ночевал у нас, сколь работы всякой переробили. Вон и баню они с Ваньшой заново перекатали… Неужто взаправду убили его?
– На войне, Лукия, взаправду убивают. Токо в кине понарошке-то…
– Пошто похоронку к нам прислали? Поди, Лизке Микулаюшкиных, с ней ить Юра похаживал, любили они друг дружку.
– В том и дело, что на сельсовет. Юра-то сиротой рос, никого у него из родни не осталось. А Юровка ему родиной стала, вот он и оставил адрес на нас. Вишь как, горе нонче выходит у всех общее.
Бабушка прислонилась спиной к бане и закрыла лицо запоном, а дед Иван глядел себе под ноги и зачем-то отковыривал ногтем большого пальца присохшую полоску коры на березовой жердине. Я сунулся в баню, сел напротив каменки и вовсе не от дыма тер кулаками мокрые глаза.
Дядя Юра… Неужели и он, как и наш дядя Андрей, никогда больше не будет живым, не привезет к нам кино, не придет ночевать к бабушке и не попарится в бане мягким веником… Кого-кого, а дядю Юру помнят и уважают в Юровке стар и млад. Вон бабушка проплакалась и с дедом Иваном вспоминают его добром, как родного…
– Что и баять, Лукия, немало памяти оставил Юра. Вот прясло у меня с твоего заулка повалилось, так он, слова не говоря, взял да и поставил перетыки. У Офимьи как-то квартировал – амбар перекрыл, куме Парасковье – сено вывез. Солдатке Настюхе печь склал – век простоит и не задымит. У кого он токо ремеслу научился! Ить молодешенек, а на все мастак.
– А кино, кино-то как показывал! Зря ли его артистом и назвали, – вздохнула бабушка. – А уж веселый да обходительный какой был! Худого слова девки не слыхивали от него, а парни при нем меж собой не дрались. Эвон сколько ломов извели на ети… как их называли-то?
– Турники?
– Аха, турники.
– А в клубе хоть бы раз кто при нем сматерился. На што уж поганый язык у хромого Ивана Павловича, однако боялся рот раскрыть при киномеханике, – продолжал дед Иван. – Макарьевцы и те не хулиганили даже.
Я подкинул поленья в каменку, сложенную когда-то дядей Юрой, и тоже вспоминал о нем. Раньше до него возил немое кино хмурый сухощавый парень, и не только ребятишки, а и многие взрослые смотрели лишь картинки на белом полотне экрана. Грамотные, даже учителя семилетней школы, и то не всегда успевали прочитать, о чем говорят люди в кинокартине. В зале слышались крики и шепотки, а после кино все долго еще расспрашивали друг друга – о чем все-таки шло кино?
До Юры безбилетников, нашего брата, и близко не допускали до дверей клуба. Ежели кому удавалось незаметно занырнуть в зал, то завклубом, однорукий Михаил Грачев, – руку ему отняли в больнице после несчастья на тракторе – вылавливал «зайцев» из-под скамеек и зло выпинывал на улицу. Однажды и я получил чугунный пинок ниже поясницы, и у меня пропала всякая охота скрытно проникнуть в кино.
Весной того года, как началась война, вместо неразговорчивого киномеханика привез кино коренастый парень в кожаном летчитском шлеме. Мы с ребятами отирались возле клуба и сразу отметили, как он здорово похож на летчика Валерия Чкалова. Может, родня и на самом деле летчик?
Вначале он не заметил нас: занес в клуб аппарат, динамо и железные банки с частями кино. И только потам весело махнул нам шлемом:
– Эй, хлопцы, айда сюда!
– На што? – отозвался за всех Витька Паршуков, сын командира-пограничника.
– Не на што, а зачем. Нечего лодырничать. Ать-два и развесить по селу оповещения о кино! Понятно? – скомандовал он, и кто побойчее, тем и достались листы бумаги с названием кино и часами показа его в клубе.
Если мой крестный дядя Ваня успевал до кино вернуться с поля, он брал меня с собой и покупал билеты на двоих. Тогда, как и все юровчане, я и узнал, кто такой новый киномеханик и почему все стали наперебой зазывать его к себе на квартиру.
Крутить динамо Юра набирал из взрослых парней команду в два раза больше, чем было частей у картины. И нас запускал в клуб тоже как «динамщиков», у каждого брал в залог фуражку. Парням он возвращал кепки-восьмиклинки после того, как кто-то из них прокрутит часть, а нам – после картины. Михаил Грачев косился на нас и по привычке норовил вышарить, но дядя Юра отрезал:
– Хлопцев не трогать! Они у меня помощники.
Артистом назвали киномеханика неспроста. Юра знал наизусть, о чем писалось в кадрах, и громко, на весь зал озвучивал немое кино. Да не просто читал, а говорил голосами героев кино. Отпала всякая нужда читать надписи, знай смотри да слушай дядю Юру! Окончится кино и все на прощание сто спасиб ему скажут и в гости позовут.
– Ну, и артист, ну и артист! Прямо-таки всяко играет голосом! И где нам нашли такого золотого парня! – слышалось на улице, когда люди расходились по домам из клуба.
Лишь однажды дядя Юра забылся, когда показывал немое кино про Чапаева. В тот момент, когда он переплывал реку Урал и белоказаки стали строчить из пулемета, Юра отступил от киноаппарата и закричал через зал Чапаеву:
– Василий Иванович! Ныряй, ныряй скорее! Убьют ведь, гады, убьют! – И он, и все мы заплакали: так жаль, так жаль стало Чапаева, так обидно, что ничем не можем ему помочь…
Днями Юра успевал кому-нибудь запаять посуду или расколоть дрова, у бабушки вот баню с дядей Ваней перекатали. Любил он париться! Так поддаст на каменку – треск стоит и на улице жара, а он крякает да хлещется веником! Потом окатится холодной водой из таза, горячий и красный, в одних подштанниках вылетает на заулок, мчится к бабушке. А там на столе пофыркивает самовар, к чаю я приносил из погреба костянику в рассоле, бабушка заставляла стол шаньгами и пирогами.
Дядя Юра расчесывал коротко стриженные белые волосы гребешком, они садились с моим лёльком чаевничать. А после кино шли вместе холостовать. И где бы ни пели парни под гармонь, я сыздали узнавал голос Юры Артиста. Оба поговаривали о службе в Красной Армии: дядя Ваня мечтал о флоте и давно носил поверх тельняшки белую морскую рубаху с большим отложным воротником, а Юра твердо решил попасть в авиацию.
Юра жил в районном селе Уксянке, оттуда он и ушел на фронт. Правда, раньше он проводил дядю Ваню и все твердил, что они встретятся на войне. Кроме дяди Вани, никто не знал, что киномеханик сирота и у него самая обычная фамилия – Морозов. И кто мог подумать, что похоронка на него придет в Юровку?
…Ночью морок накопился в длинный осенний дождь. И туда, откуда его наволокло, высоко по небу грозно гудели самолеты. Мне хотелось выбежать на ограду и закричать летчикам, чтобы они отомстили фашистам за Юру Артиста, теперь сына и брата всей нашей Юровки.
Кедр
Дедушка Егор застал нас с Вовкой Мышонком врасплох. Мы с дружком жадно дорвались до кисло-твердой мелочи крыжовника: нещадно укалывая руки, выискивали азартно пупырчики с белесым пушком в колючей зелени и забыли про осторожность. Вот и не слыхали, когда он отпер воротца в сад и возле самого прудка доковылял до кустов на скрипучей деревяшке вместо левой ноги с костылем под мышкой. Свою живую ногу Егор Иванович Поспелов, как мне сказывала бабушка, оставил на японской войне.
– Кхе-кхе, – закашлял кто-то над нами, и нас передернул испуг, словно не мы укололись, а крыжовник сам впился иголками в наши руки. Вскинули с Вовкой головы и поняли: не удрать от деда Егора, пусть он и на деревяшке, и с костылем.
Егор Иванович спокойно смотрел на нас сверху, а мы на него снизу. Я как окоченел на корточках, а Вовка мигом опомнился и сунулся было в куст. Рыжеватый, с маленькими глазками на скуластом лице, он не зазря получил прозвище Мышонок. Да как схорониться в крыжовнике, ежели руки и те в крови? Ну и дедушка костылем где хошь достанет…
Вовка наткнулся лицом на колючки и у него без всхлипа-рева потекли слезы. Еще бы! И перед дедом страшно, и больно…
– Стал быть, ягодки кушаем? – доставая из брючного кармана кисет, спросил дедушка Егор. – Крыжовник што, его с ветками не наломаешь, не черемуха, он постоит за себя, покусается. И на што вам нападать на ево теперя? Ни скуса, ни сытости, кислотье зеленое! А наспеют ягоды, хрушкие и сладкие станут. Во когда, робятки, милости просим!
Помолчал Егор Иванович, посмотрел на свой домик за прудом, на баню у воды. Все тут у него обсажено черемухой, ветлами и тополями, а в палисаднике из цветков мальвы березки тянутся к карнизу.
– Сад энтот все одно общественный, всем краем садили. Малину робята по пути из Далматово навозили, в Серебряковой роще под Песками она растет. Всех, сердешных, на войну проводили…
Дедушка вздохнул и ловко наугад завернул козью ножку из полоски газетки, сыпнул в нее щепотку самосада и стал кресалом высекать искру из черной гальки на проваренный трут. Вот он густо пыхнул дымом и медленно опустился рядом с нами.
– Чего вы, как зверьки ужались? – спохватился Егор Иванович. – По-людски садитесь-ко подле меня.
Молчком пододвинулись мы с Вовкой к нему и тоже уставились на прудок. Вода чистая, без ряски, не как в прудах на Одине. Сюда по логу Шумихе течет ручей, а собирается он из ключей, и где они выбиваются с глуби, там земля зыбкая и студеная даже в летнюю жару.
– Сад, сад, – вновь заговорил дедушка. – Какие тут фрукты-ягоды! Черемуха родится и крыжовник, а смородинник застарел, малинник переродился и трава его задавила. Огораживаю-то я сад вовсе не от людей, а от скота. Животина завсегда лезет к деревьям. Кажись, какой бы вред от овечек? Не огложут они тополя, однако насыхают тополины с овечьего помета.
– Робята, – повернулся к нам Егор Иванович. – А пошто я сад берегу? Трудодни мне колхоз не отмечает за него, их я зарабливаю за починку сбруи, ну и грабли да вилы к сенокосу лажу. Не знаете?! Из-за кедра я сад оберегаю.
– Какого кедра?! – осмелели мы с дружком.
– Покажу, покажу!
Дедушка потушил окурок о деревяшку и, ухватившись обеими руками за костыль, трудно поднялся на ноги. И мы следом за ним пошли в тополя.
– Эвот он, мой воспитанник! – похлопал дед бугристой ладонью темно-коричневый ствол незнакомого нам дерева. Раньше мы замечали его, особенно зимой. В школу мимо Егорова сада я три зимы протопал. Только поближе разглядеть хвойное дерево и некогда: на уроки бы не опоздать и на бегу греешь ноги в старых ботинках. Видно, что не сосна и не елка. Сосны растут на другом краю Юровки, у фермы и в огороде Степана по прозвищу Рева, а ели на Одине, возле дома Настасьи Семифонихиной.
– А как он посажен? – дотронулся Вовка до кедра.
– Как? Семилеткой кедренка привез я из Красноярска. Раны там заживляли мне, япошки-то не токо ноги меня лишили. Подпортили кожу и в иных местах. С тамошним солдатом вместе лежали, он и дал мне на память кедр. Говорит, долго кедр живет, и ежели отрастет, то и я буду жить, и дети мои, и деревня наша не переведется. Так я и заветил кедр не только на себя и на сыновей Мишу с Иваном, а на всю деревню Юровку. Зарастет-приживется он – значит, деревне родной века вековать. А што, ерманца того и гляди победим, сынки покуда живы на фронте. Михаил-то вон капитан, а Ваня на море сражается. И деревня тоже у нас живая.
Дедушка долго гладил шершавую кору своего кедра и рассказывал, почему он зовется чудо-дерево. Смола его раны и ожоги затягивает, иголками ревматизм лечат, а орехи и подавно лекарственные. Масло постное из них свое, не покупное.
– Вот и вы, робятки, берегите кедр. Сам я не могу, а вы осенью залезьте на него. Должны быть шишки. Орешки в них сладкие, не чета крыжовнику. Ладно?
Мы с Вовкой никому не проболтались про кедр, чтобы ненароком не обломали его наши же деревенские ребята. Детдомовцы – те не признавали юровских садов. «Ха, нашли сады! – издевались они над нами. – С каких пор ваши тополя и ветлы фрукты стали родить? Может быть, на них калачи вырастают?» – «А черемуха!» – не сдавались мы. «А пошли вы с ней туда!..» – непечатно ругались детдомовцы, однажды с голодухи испытав вязкое свойство черемуховых ягод. Только в мае, когда она белела живыми сугробами, приезжие ребята с тоской смотрели на нее: поди, вспоминали неведомые для нас яблоневые сады в Лебедяни…
Снег в тот год не выпадал долго на застывшую землю, и было все равно нечего делать нам после уроков. Мы случайно вспомнили про кедр у Вовки дома, а жил дружок недалеко от сада. Эх, прозевали шишки! Кинулись в сад, перемахнули прясло и к кедру. Холодно, но не лезть же в ботинках! Разулись с Вовкой, и сперва я, потом и он забрались до вершины. Сучья у кедра крепкие, не сравнишь с сосновыми, да вот, где шишки? Начали обыскивать хвою, и Вовка аж взвыл от радости:
– Васька! Нашел, нашел!
– Шишки? Неужто есть!
Вовка не ошибся: он и верно отыскал три здоровенных шишки. А больше, сколько мы ни искали, шишек не оказалось. Спустились на землю, обулись и сговариваться нечего – побежали к дедушке Егору. Он сидел в натопленной малухе-избенке и чинил колхозную сбрую.
– Шишки! – заволновался дед, хотел вскочить с лавки, но деревяшка была отстегнута и валялась на полу.
Больше нашего Егор Иванович радовался шишкам своего кедра.
– Всем по штуке! – молвил он и стал повторять: – Спасибо, спасибо, робятки! Не думал я дожить до шишек, а вот и дождался…
Дома я положил шишку в печь, как советовал дед, она подсохла и ощерилась чешуйками. Из-под каждой выглянули бурые орешки. Их мы поделили между собой – мамой, сестрой Нюркой и братом Кольшей. Мама ахала и дивилась:
– На-ко, у нас в Юровке орехи растут! Ране-то на базаре покупали их к праздникам, из Сибири их возили к нам.
А мы с Вовкой загадали: на будущую осень родится много шишек и можно сказать всем ребятам, угостить всех кедровыми орехами.
…Когда в колхозах начали молотить рожь, в Юровке впервые за войну появились грузовые машины. Одну из них мы приметили на мостке через ручей возле села. Почему она шла с Одины – непонятно. И нам еще издали стало не по себе. Неспроста она там остановилась, неспроста.
– Васька! А если машина застряла на мостике, он же худой, по нему и на конях-то никто не ездит, – догадался дружок, и мы побежали под горку к саду.
Возле кедра в саду мы увидели мужика, он со всего плеча рубил топором не тополину, а… кедр. Не успели рта раскрыть, как кедр зашумел вершиной и грохнулся на прясло. Нет, нам не верилось, что среди белого дня кто-то может срубить кедр дедушки Егора, один кедр на всю Юровку! Мы с дружком остолбенело глядели, как мужик быстро отрубил от кедра два коротыша и поволок их к машине на мостке. И был это не какой-то приезжий из города, а зять Никанора Глызенка. Только жил он теперь не в Юровке, а в райцентре. Заехал на Одину к тестю, видно, со стороны соседней деревни Макарьевки, напировался, поди, досыта – вишь, шатается, еле на ногах стоит, вот и понесло его на худой мостик…
Разве сунешься к нему, он и нас топором пристукнет… Эх, скорей к дедушке Егору!
Дед лежал хворый на лавке под полатями, но враз понял нас и сдернул со стены берданку-крымку, как он ее называл. Втроем и выскочили мы из ограды и заторопились к мостику. Да где там успеть… машина взревела мотором и сорвалась с мостика на берег, а там и на дорогу.
– Паскуда… – прошептал дедушка, выронил берданку и с подломленным костылем упал на землю. И нам с Вовкой впервые за всю войну стало страшно за дедушку, за наших отцов на фронте, и за всю Юровку.
Военрук
Самое непростительное, обидное для нас – о его приезде в Юровку первым прознал Ванька Парасковьин, еще и дня не учившийся в школе. Правда, подле нее под окнами он постоянно отирался и зимой частенько ознабливал то уши, то конопатый шелушавый нос, поджидая меня с уроков.
Если Ванька попадался на глаза техничке Ефросинье Поспеловой и она замечала деревянно-белые пятна на лице парнишки, то ему удавалось, по ее милости, проникнуть в полутемный коридор. Сперва кривая Фроська шлепала Ваньку тяжелой ладонью по заднице, а потом добрела и вязаной исподкой, извлеченной из верхонки-рукавицы, оттирала ознобленные места. Жалости у технички хватало ненадолго: перед звонком на перемену отогревшийся у круглой печки в правом углу коридора Ванька получал оплеуху и удирал домой.
Ванька моложе меня на пять лет, и ростом, как и я, мал, а давно считается самым задушевным другом, готов ради меня на что угодно. Скажи ему, и он даже не моргнет, не заозирается, а средь белого дня полезет в огурешник или зауголками на чью-нибудь избу разорить за наличниками воробьиное гнездо…
Нас Ванька разыскал в логу Шумихе, где мы четвертый день глубили самодельную шахту. Перепачканные вязко-бурой глиной и ржаво-синим илом, мы искали вовсе не золото, а нефть и железную руду. Если верить книжкам и учителям, – а кому и чему больше нам верить! – нефть и руда сами себя выказывают: нефть маслянисто-радужными пятнами-разводьями по ручью в Шумихе, руда – рыжей ржавчиной у истока ключевой жилы. С чего же и быть ручью сплошь в жирных пятнышках и ржавчине, оседавшей на осоке и на песчаном дне?
Сперва мы истыкали дно ручья железянками – железными штыковыми лопатами – у бревенчатого мостика в деревне, а после поднялись по течению к истоку, и, чуть не увязнув в илистом зыбуне, облюбовали место посуше под желтым яром. На первых порах суетились и мешали друг другу, задевая черенками лопат. А как сорвали охотку – стали поочередно спускаться в широко разрытую яму. Один кто-то там, остальные наверху откидывают грунт подальше от шахты.
Чтобы дома не бранились матери, мы артельно пропололи огороды у каждого и дружно окучили картошку, артелью поливали утрами и вечерами огуречные гряды. Матери были довольны не только нашей управой. Соседка Антонида Микулаюшкиных говорила маме про работу в логу:
– Пущай, Варвара, базгаются в Шумихе. Глядишь, на дико́ хоть не потянет. А то вон вчерась Вовка Мышонок и Мишка Селиных попались в огурешнике у Анны Поповой. Стыдобушка ихним-то матерям, в лавку глаза не кажи, так в ту же пору!
Работали мы азартно. И все-таки на третий день Ванька Антонидин заныл:
– Никакого здеся карасина и железа нету-ка! Ай-дате лучше искупаемся и гольянов манишкой половим.
– Опять ты, Ванька, закуксился! – разозлился Вовка Барыкин и нечаянно угодил ему в спину липким илом.
– Ты чо кидаешься! – взвыл Ванька. – Не тебе, а мне попадет от мамы за рубаху.
– Чо ты, Ванька, разоряешься, как Витька Стонота? – вмешался Осяга. – А если все же мы докопаемся до нефти или железа? Да нас до самой Москвы похвалят! Война-то ведь не кончилась…
Слово «война» подействовало на Ваньку пуще всего: он снова взялся за лопату, сменив в шахте Вовку, и больше не заикался о купании и гольянах. Все же смекнул, что нефть и железо, найденные нами в Шумихе, помогут Красной Армии скорее добить Гитлера, а после победы Юровку узнают по всей стране. До нее из Далматово проведут железную дорогу, и станет Юровка городом, и тогда отметят ее на карте и во всех школах на уроках географии ребята будут изучать полезные ископаемые возле бывшей деревни. Интересно, как переназовут Юровку? Об этом, может, с нами посоветуются?..
И как раз, когда объявился в логу Ванька Парасковьин, мы докопались до орешника и отрядили Вовку Барыкина за ломом. Иначе делу конец: свинцовый слой глины-орешника почти не давался лопаткам. Сколько ни бей штыком, а только и наколупаешь с горстку коричневых «орешков», с виду не крупнее овечьего помета.
– Тебе-то чо тут надо? – воззрился на своего сродного брата Ванька Антонидин.
Тот будто и не слыхал его вопроса. Оглянулся на кусты краснотала и подмигнул нам:
– Робя! А я чо-то знаю!
– Чего? – просто так спросил Осяга, поглядывая в сторону угора.
– Военрука нового к нам привезли, во! – закричал Ванька Парасковьин, и Вовка Барыкин вернулся к нам уже из-за ручья.
– Воен-ру-ка… Нового?! – хором переспросили мы. – А не врешь?
– Вашим заулком, Васька, провез его на телеге Пашка-сливковоз. К Офимье Бателенковых жить его устроили! – похвастался Ванька.
– А с погонами? – перебил я дружка. – С орденами?
– Не-е. Без погон. А на гимнастерке чо-то скраснело.
– Чо-то, чо-то! – передразнил я Ваньку. – Войной сколь раз играл, а как называют ордена опять забыл.
– Да не забыл, не успел разглядеть из-за крапивы, – заоправдывался Ванька. – Не в заулке я был, а в огороде. На прясло залез, а Пашка мимо шпарит-напонуживает коней.
Мы поняли, что Ванька не обманывает и его не надо заставлять есть землю. Ясно, что в Юровскую семилетку прислали-таки нового военрука и старшеклассники с осени опять начнут изучать военное дело, пойдут к белому яру у речки Крутишки стрелять в нарисованного на доске черного фашиста. Винтовка одна на всю школу – старая трехлинейка, зато самая что ни на есть боевая. Раз не новая, то уж побила врагов. Поди, красноармейцы в гражданскую палили из нее, а может, и белофинских «кукушек» потом сшибали…
С самого начала войны появилась винтовка у нас в школе, и хоть от фронта эвон какая даль! – нам сказали, что она тоже воюет. Все юровские парни и даже старшие детдомовцы учились стрелять из нее, а уж после, на фронте, им давали новые винтовки, автоматы и пулеметы. Кто командиром стал, тому и наган доверяли. Вот и выходит: из какого бы оружия ни стреляли по фашистам наши дяди и братовья, все одно первый выстрел они делали у белого яра на Одине.
Нам не доведется пальнуть из винтовки: война, как поговаривают взрослые, должна вот-вот кончиться. Ну и пусть! Лишь бы поскорей добили Гитлера, а мы настреляемся из рогаток и луков, а подрастем – пойдем с ружьями на охоту вместе с тятями…
– Копать будем или… – не договорил Ванька Антонидин, выглядывая из ямы. И осекся-испугался: вдруг мы снова погоним его из Шумихи?
– Ладно, хватит на сегодня! – решил за всех Осяга, и каждый согласился с ним.
Инструмент спрятали в таловых кустах за ручьем, отмыли руки и вскарабкались наверх. От Шумихи пересекли новину, за ней пологую ложбинку и сельсоветской оградой выбежали к детдому, где до войны был лучший в районе сельский клуб. Остановились у пожарной каланчи и задумались. Всем охота выглядеть военрука, не завтра или послезавтра, а сейчас же, но никакого заделья не нашлось, чтобы всем гамузом пойти к Офимье. А просто так идти… что мы девчонки, что ли? Вот когда на второй год войны садился на поскотину между Юровкой и Макарьевкой самолет, тогда все бегали к нему – и старые и малые. А ребята постарше подрались с макарьевскими: поспорили, на чьей стороне самолет – на юровской или на макарьевской? Дедушка Афанасий с нашей Одины их помирил, сказал, что на ничейной полосе он приземлился.
– Стало быть, завтра у тебя, Васька, собираемся, ага? – кивнул Осяга, и мы разбежались по домам. Один лишь Ванька Парасковьин не отстал от меня. Догадался, что коли я пошел к бабушке, то замышляю обегать к Офимье.
– Ко времени, ко времени, Васько и Ваньша! – обернулась бабушка от печного чела. – Токо-токо упрела нонешняя картошка. Солью воду – и милости просим за стол! А ты, Васька, слазай-ко в погреб за молоком и малосольными огурчиками. Оне там у корчаги в латочке стоят.
Могли мы и еще потерпеть, рано пока ужинать, но в Шумихе я здорово промялся, да и не станешь с порога кричать: «К нам нового военрука прислали!» А если бабушка была дома, когда Пашка на паре прогнал заулком, то она раньше моего узнала новость.
…Первый военрук из приезжих побыл у нас недолго. Безрукого лейтенанта Киху перевели в район, и на смену ему явился в школу наш деревенский парень, одногодок дяди Вани – Михаил Грачев. Он вернулся с фронта по тяжелому ранению, а все равно считал, что его вот-вот вызовут в райвоенкомат и… «дан приказ ему на запад». Наверное, поэтому и не снимал Мишка – его почему-то все звали Мишкой, кроме учителей, и мне до слез бывало обидно за нашенского военрука! – блестяще желтые погоны с тремя белыми звездочками, по-удалому носил черную кубанку с малиновым верхом, и русый чуб вился по ветру, как у казака.
Михаил и сам не считал себя учителем и сначала на больших переменах за школой журил с семиклассниками самосад, рассказывал им что-то веселое и сговаривал на фронт. Но кто-то из учительниц увидал его там в компании старшеклассников, потом, сказывали, постыдила его Анна Вениаминовна Быкова, которая была классным руководителем, когда Грачев оканчивал семилетку, и мы больше не замечали военрука с самокруткой среди старшеклассников. Одним, не попускался дядин товарищ. Где надо и не надо твердил свое:
– Вы, хлопцы, подрастайте, а я – ать-два – и на фронт! Я своего добьюсь!
Однажды Михаил опоздал на уроки и заявился в перемену какой-то шибко веселый и краснолицый. Директор школы – незамужняя Нина Николаевна Крысина строго посмотрела на него в коридоре, а Грачев даже внимания не обратил. Громко, как будто он отдавал приказ, гаркнул:
– Здравия желаю, товарищи солдаты и сержанты!
Мы что-то хором ответили военруку, а он уже не замечал нас. Подошел к Нине Николаевне и тихо, без шутливости произнес:
– Извините, Нина Николаевна, если что не так выполнял. А пока до свидания, уезжаю на фронт.
– Как, почему?! – удивленно и растерянно оглянулась она на нас, будто мы могли задержать Михаила.
Техничка Фроська выскочила из своей комнатки и затрясла что есть силы звонок, но ни учителя, ни школьники не расходились. Ребята постарше давно перестали играть жесткой – овчинным лепешком с приклеенным на жвак пятаком, и в коридоре стояла тишина, какой могли позавидовать учителя на уроках. Только у больного Георгия Васильевича Заварницына, отравленного газами еще в первую мировую войну, на литературе и русском языке никто не баловался. Все смотрели на Михаила, враз ставшего для всех не Мишкой и военруком, а боевым командиром.
– Дядя Миша! И мы с вами! – вспугнули тишину семиклассники, и громче всех кричал племянник военрука Яшка Поспелов.
– Такого приказа старший лейтенант Грачев не дает! – отчеканил дядя Миша и с улыбкой добавил: – Учитесь, ребята, и не узнайте в жизни, что такое война. А мы и без детей победим, правильно? Верите?
– Правильно!
– Верим!
Михаила Грачева так и проводили до подводы у сельсовета всей школой, а потом присмиревшие вернулись на уроки. А он больше не вернется в Юровку: через полгода его мать, Евдокия Кузьмовна, получила «казенное извещение»: гвардии капитан Грачев погиб героем в боях с немецкими оккупантами, защищая от них Советскую Родину…
После Михаила Грачева военруком назначили опять нашего земляка – прибывшего из госпиталя Петра Григорьевича Пестова. Он был немногим старше дяди Миши, однако с первого дня все стали звать его не как-нибудь, а только по имени-отчеству. Ох и серьезный же старший брат моего одноклассника Вани Пестова! Петр Григорьевич тоже не снимал капитанские погоны. А на правой стороне груди – глаз не отведешь! – сверкали два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны. И как по секрету шепнул Ваня: Петр дома не задержится, потребует отправки на фронт, поэтому-де он и не согласился служить в органах милиции.
Совсем случайно мы подслушали в прикрытую дверь учительской, как обиженно пеняла ему директор школы:
– Ну что вы, Петр, как и предыдущий военрук, вдолбили себе в голову – фронт, фронт! Разве в госпитале не знают, кого куда выписать, разве бы вас, будь вы годны по здоровью, отпустили домой? Согласитесь, что доктора правы?
– И да, и нет, – ответил военрук. – В буквальном смысле я не годен для строевой службы, а уж тем более для фронта. Я ведь не подаю виду ни дома, ни в школе, как мне бывает плохо… Вы поймите меня: не могу я спокойно до школы дойти, когда чувствую на себе взгляды матерей, чьи сыновья погибли или воюют. А я вот гуляю на здоровье, и руки-ноги целы у меня…
Эвон откуда строгость у Петра Пестова! Оказывается, он скрывает как донимают его раны, и сам мается, очутившись в тылу…
Добился и Пестов своего, попрощался со всеми вежливо и не строго, но и не так бесшабашно, как Михаил Грачев. Ваня Пестов сказывал недавно, что опять им пришло письмо из госпиталя, однако Петр не сулился домой до победы над Гитлером…
Давно, давно не было в школе военрука. И вот он приехал, поселяли его на постой к бабушкиной соседке Офимье, а мы в своей «шахте» прозевали… Как его повидать? В школу еще не скоро…
– Бабушка, – макая картошку в серую соль, начал я, – а ты не слыхала ничего?
– А што?! – выронила она надкусанную картошку из руки на столешницу. – Поди, с отцом или с Ваньшей что неладно?
– Не, все с ними ладно. Военрука к нам нового прислали и жить определили к Офимье пошто-то! – выпалил я.
– Вот што! – обрадовалась бабушка. – И правильно! Надо к нам в школу военного, чтоб было кому приструнить вашего брата. А что к Офимье направили – тоже правильно! Горница у нее светлая и сухая, девчешки смирнящие. А уж кто-кто, а Офимья за ними присмотрит и пообиходит заместо матери родимой. У самой муж и сын сложили головы на войне. Уж она-то приветит, славнящая женщина, обиходная! А вам, поди, гребтится поглядеть на него? – хитро прищурилась бабушка. – Вижу, вижу! Да чего с пустыми-то руками идти, я гостинцев соберу, а вы с Ваньшей и оттащите.
Я слетал еще раз в завозню и принес из погреба горшок варенца, а бабушка достала из подполья яичек – их она хранила в старом ведре с золой, к ним добавила блюдо с огурцами.







