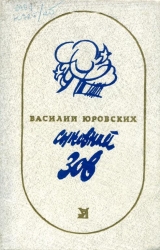
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Июль, июль…
Спокойно лежит поплавок-пробка на заводи. Смотрю на него, окуриваюсь сигаретным дымком и почему-то парнишкой себя вспоминаю. И жалею: мне бы тогда Ольховочку возле Юровки – с весны до осени сидел бы на бережке и хоть на крючки из откаленных иголок и проволоки, а все равно выждал бы полосато-брезентовых окуней. Не чета они гольянам. Для тех и леску плести не стоило. Выдернешь у стреноженной лошади из хвоста пару волосин, скрутишь наскоро и выдержит любого гольяшка…
Поплавок изредка качнет ветерком и расплывается круглая усмешка. И кажется, не с воды, а откуда-то сверху, из зелено-шершавых листьев ольшин, подсматривает за мной Ванька Парасковьин: «Крадче удрал на рыбалку, а я все одно выслежу. И ничо тебе без меня не изловить…»
Я начинаю озираться. Только тихо и безлюдно по берегам неширокой речки. И над головой лишь ольхи раздумчиво смотрятся в заводь. Им, может, ниже хочется склониться, лизнуть прохладистой воды, но жилистый хмель обвил их с ног до головы, раскудрявился холостым парнем, не отпускает из своей обнимки.
И некому за мной подглядывать. Ванька давно не Ванька, а сталевар уральского завода, семью скопил, того и жди – дедом станет. И сам я какой уж парнишка… Пусть не разглядится с отраженья седина волос, шрам под правым глазом и морщины, однако сними картуз, и обсядет-искусает плешину комарье. И дома никто не тревожится обо мне. Разве лишь сгорбленная матушка в селе – оно отсюда за реками и лесами со стороны сердца – вспомнит и благословит меня издалека.
Снова вьется дымок, и снова на поплавок гляжу, и умом перевалы жизни понимаю. А сердцу так хочется в детство вернуться… Колотиться, рваться из груди за утянутым под воду поплавком.
Да и только ли сердцу… Опять вздрагиваю; ожили ольхи ребячьими голосами. Налетели-закопошились синицы, запозвенькивали разом. О чем – не разберешь. Но одна перебила всех и наивно-удивленно завела:
– Июнь-июнь, июнь-июнь…
И подхватила стайка зачиналу, и зааукалось по ольхам и черемухе:
– Июнь-июнь, июнь-июнь, июнь-июнь…
Сбоку от меня подсела на черемшину старая синица. Поотстала и позже молодых к Ольховочке прилетела.
Слушает, как слева стайка неурывно трезвонит: «Июнь-июнь, июнь-июнь», – а сама о чем-то размышляет.
И разглядывает заводь: откуда на ней-взялась неподвижно-жилистая рыбка, почему над водой лилово за-бледнели листья черемухи?
Лишь приумолкла стайка – тогда и сронила синица с черемшины:
– Июль-июль…
Она не пропела, а как бы грустно молвила своим детям, о чем думалось ей. Не поприметилось тем, как отлетел на воду таловый листик, перезябли низом ветки черемухи, а вон за угорчиком береза никак не спрячет побелевшие пряди. И на опушке охватывает изнутри беспечный осиновый трепет украдчиво-багровые языки.
Синицы о чем-то заспорили и куда-то удалились. Упорхнула с черемшины и матушка. Вот сидела рядом, и не стало ее. И не вихрасто-русый парнишка, а я гляжу на поплавок, тру ладонью соломисто-жесткую «отаву» бороды и жду, чтобы сердце заколотилось, как у того парнишки, чтобы кто-то подглядывал за ним, кто-то горевал-волновался дома…
Жду, а над заводью остановилось прощальное слово синицы:
– Июль-июль…
Сорочьи нервы
Весна пришла хотя и ранняя, но какая-то скрытно-тихая, незаметная. Кажется, исподтишка спустила толстые снега с увалов, и не пошумела водопольем, а легонько, по-синичьи, позвенькала и побулькала днями в ручьи, простуженно перехватывая на закатах и без того негромкую болтовню талой воды. Поэтому и не пошагал я в леса, а сразу за городом повернул лугами к реке. Исеть из берегов пусть и не поднялась, да все же осилила льды и, открытая миру, понесла-закрутила извечным путем мутные потоки.
Птицы нутром чуяли невеселую весну и не спешили налетать в приречные тальники и черемушники. С подсохших релок изредка подлетывали жаворонки и, невысоко «помурлыкав», снова опускались на землю. Да еще чистюли-трясогузки храбро семенили подле самой бурной воды; вежливо покачивали хвостиками и детски-простодушно чиликали друг дружке.
Издали присмотрел в кустах темное пятно и стал пробираться на него – свежее сорочье гнездо. А что оно нынешнее, я не сомневался. Зря, что ли, дозорит на вершине молодого тополя сорочий петух. Сама сорока сейчас яичко сносит или парить надумала.
Вроде бы ни к чему мне теперь птиц тревожить, однако поди ж ты, не могу вытравить из себя привычку военного детства! На одни лишь грачиные гнезда «облизываюсь» – на виду у людей они селятся, и даже мальчишки не лазают по тополям и соснам, а что говорить про тех, кому далеко за сорок перевалило… Зато остальные гнезда по лесам и кустам, ну никак не могу миновать спокойно. Все равно забираюсь, чтобы пересчитать яички, подержать одно-два на ладони, и опять, как в детстве, восхититься умением и терпеньем птиц, с каким они вековечно вьют свои гнезда.
Заспешил-трущобой и сухим таловым сучком оставил на левой щеке кровавую прореху. Такая ожгла меня боль, так резануло в голову, что я без всякого стеснения громко ругнул себя, старого дурака, распоследними словами. И тут же запурхалась в гнезде сорока, и свободно скользнула из него через ей одной и видимую лазейку.
Отпетый зорильщик, а такими сделала нас война, конечно же, поймет меня: в подобном случае мигом забываешь обо всем на свете, кроме одного – птичьего гнезда. И вовсе с безрассудством ринулся я кустами; не примериваясь оседлал высокую талину с гнездом. Еще и руку не сунул, а с удовольствием и уважением отметил: боярышника поблизости и в помине нет, но натаскали же трескотуньи сухих веток с колючками!
Понятно, что оцарапал руку, ну да шут с ней! Рука уже в гнезде и пальцы перебирают теплые, словно живые, яички. Сколько их? Ага, восемь штук! Стало быть, запаренные, а коли много – год должен быть урожайным и на хлеба, и на травы, и на грибы, и на ягоды. По три лета кряду донимает нас засуха: березы и эти же тальники скоту на корм переводим, и камыши, и кочки болотные с черной тоской люди запасают на фермы…
Поглядел на яички сверху, погрел в гнезде пораненную руку и, утешенный птичьим прогнозом, спустился с талины. Выводите, сороки, на здоровье всех восьмерых, а пока поднимаете их на крыло – знаю ведь я, сколько всякой вредной всячины скормите жорким птенцам.
Оставил гнездо в покое и осторожно вылез из кустов на речку. Про царапину-рану тогда только и вспомнил, и себя успокоил: ничего, за два-три дня заживет. Прикурил и только-только шагнул, как тут же и остановился: костистое постукивание заставило меня оглянуться. Сзади на ветке сидела слетевшая с гнезда сорока. Сидела очень близко и отчаянно долбила клювом… нет, не какую-то там добычу, а свои же собственные лапки.
«А может она просто так долбится?» – подумалось мне, и я пошел дальше. Но что за штука? Сорока облетела, уселась опять вблизи на куст и снова с каким-то остервенением зачастила клювом по лапкам. Тогда с любопытством стал проверять сороку: пройду мимо нее, а она залетит вперед, сядет на куст и клюет, клюет лапки…
Среди белого дня, и до города рукой подать – вот он, по другую сторону реки, а стало на душе нехорошо, не по себе как-то… Не ахти какая и грозная птица, не орел или ястреб, да ненормальная какая-то сорока, психованная, что ли… И на разговор с ней потянуло, будто бы вздыбился на моей тропе зверюга-медведь:
– Эй ты, сорока, довольно психовать, слышишь!? Я же не взял твои яички, вернись и пересчитай их, все до единого целехоньки. Слышишь?
Для большего убеждения повернулся туда, где позади осталось действительно неприкосновенным ее гнездо. Из-за реки на тополину подлетела ворона, уселась и, вытянув шею, качнула головой, чтобы каркнуть, да не успела. Сорочий петух, дотоле как бы окаменевший, молчком набросился на нее, и ворона, подавившись сиплым карком, шарахнулась от чумной сороки, как от крупного хищника или стаи дроздов.
– Эге, да вы два сапога пара, обе нервные! – махнул я рукой на сороку, все так же долбившую саму себя, и быстро, чуть не бегом направился вдоль реки.
…Домой решил ехать на автобусе и завернул в поселок к ближней остановке. Вечерами в обычные выходные дни вроде бы некуда людям торопиться, незачем тесниться в автобусах. И сперва на остановке, кроме меня, ждали автобус опрятная старушка в старинном платке, смирно подвыпивший мужчина моих лет и трое нарядных девушек. Но стоило показаться автобусу из-за поворота, как пассажиров словно ветром надуло из улиц и переулков поселка.
Я попытался быть шестым в очереди, да где там… Не только меня, а и старушку откинула мускулистая и волевая волна молодых парней и девчат. А прибитый стихийно к двери второй волной, я хотел пропустить вперед почтенного пенсионера, однако в спину властно уперлась грудью крупная телом женщина, и помимо своей воли я попал в самое пекло давки. Чуть замешкался, оберегая девочку с запеленутым в платок крохотным котенком, как женщина – моя «носитель-ракета» – сразу напомнила о себе:
– Чего застрял, как тюхтя! Еще мужик называется!..
– Да зачем же давить друг друга, – успел промямлить я. Но женщина опять понесла меня впереди себя, а на нас напирала ватага рослых длинноволосых парней с гитарами. И пьяные, и трезвые – все тискали друг друга до той поры, пока не лязгнули «челюсти» дверок и автобус, тяжко скрипя и чихая, не стронулся с остановки. В духоте и тесноте мы проехали мост, а за ним была следующая остановка. И опять повторилось то же самое, только наоборот – лавина людская устремилась из автобуса. Стало враз свободно, свежо и покойно, но мы, оставшиеся в салоне, почему-то не занимали свободные места, а теснились в проходе.
– Все куда-то торопимся, все нервничаем и дергаем друг дружку, давим, а зачем? – печально вздохнула знакомая старушка и несмело опустилась на сиденье. И я сел, и вдруг вспомнил сорок: как бы кстати поведать о них, но не было ни сил, ни желания. Хотелось просто поскорее доехать до своей остановки, хотелось идти пешком, как все люди в прежние времена, как сам я когда-то ходил по командировкам за десятки километров.
Муравей
С детства неодолимая тяга у меня к ручьям…
В войну ручьи возвещали нам, деревенским парнишкам, что пришел конец студеной и снежной зиме, и вместе с ручьями отпускали нас на весенние каникулы. Можно было на весь день уйти в поле и на оттаявшей пашне наковырять мороженой картошки, в каком-нибудь ручье отмыть ее дожелта. Отмывать и слушать, как резвая вода утешает-приговаривает: «Перезимовали, перезимовали…»
В ручьях на поскотине, соединявших болота и лывы с Большим озером, мы с братом Кольшей до полуночи ловили самодельными сачками гольянов и желтых карасиков. Ловишь рыбешку, а сам нет-нет да и задерешь голову к небу, откуда из низкой темноты слабо посвечивают отсыревшие звезды. Там, возле них, тесно от птиц – гомонят гуси и казарки, утки и кулики… Таким живым небо бывало только весной: птицу не останавливала война, и она валом валила на родные гнездовья…
С годами все тяготы ушли, все обиды детские выплакали мы в ручьи, но зовут и зовут они, как и раньше, меня своими голосами. Бульканьем и мягким журчаньем, звонким шумом и ласковым шепотом. И нравится смотреть в ручьи, особенно в лесные. Они приглаживают траву по течению и всегда выносят что-нибудь из неведомой глубины лесов.
…Опять на пути моем у кустиков закрасневшего корой шиповника, словно отдаленным токовищем косачей, бормочет и побулькивает лесной ручей. Ручей вытекает из прозрачных берез и по еле заметной изложинке скользит через еланку к оврагу под увалом.
Встаю на колени и подхватываю губами струю – озорную, высветленную солнцем. Чем только не пахнет мягкая вода… Сосластит березовым соком и сгорчит осиновым листом, немного погодя закислит смородиной и костяникой… А грибным духом потянет с ручья – чем не первая за лето груздянка! И уж не пить, а хлебать ложкой захочется лесную снежницу.
Ручей давно отгладил руслице и редко-редко что выкруживает из леса, однако задержался возле него и жду «новостей». Эге, эвон какая-то соринка стремительно плывет-близится ко мне! Может быть, сухая березовая почка или синица сронила чешуйку с набухающей осиновой сережки?
Соринку и не поднесло к ногам, а я уже признал в ней крупного коричнекожего муравья. «Мураш» был жив и пытался выбиться из бойкого течения, и казалось – вот-вот он подправит к бережку. Но свежая струя сбивала его, а водовороты и водопады гасили иссякшие силенки пловца по несчастью. И уцепиться для передышки не за что…
Муравей мог бы покориться судьбе и ждать, когда домчит его ручей до оврага, где авось попадется полузатопленная ветка ивы или затор из разного сухого хлама. Тогда он изловчился бы и спасся. Но до оврага далеко, и кто скажет, что не захлебнется муравей и останется жив? Да как ему потом воротиться в лес и найти свой муравейник?..
Все вышло само по себе: окунул я руку в ручей и муравья прибило к большому пальцу. Сердито заворчала вода вокруг ладони, но вымокший и продрогший муравей уже вскарабкался на палец, а с него, когда положил я ладонь на сушу, потихоньку сполз на согретую землю.
– Давай, друг, обсыхай и топай домой! Да смотри, не лезь, куда не надо, – посоветовал я муравью и с теми словами попрощался с ним.
В городе вспомнил о муравье, и как можно забавнее рассказал о нем одному весьма начитанному товарищу. Он и не засмеялся, и не похвалил меня, а мрачно вспылил:
– Все вот вы, восторженные соглядатаи, бесцеремонно вмешиваетесь в жизнь природы. Ну зачем, спрашивается, полез ты к муравью? Если бы он сам выжил – значит, выдержал экзамен на естественный отбор…
Товарищ подкрепил свою мысль длинными учеными выражениями, и чем дольше он говорил, тем хуже выглядел я со своим поступком в его глазах. Спорить с ним было бесполезно да и не хотелось…
Дома скучным голосом, как бы между прочим, повторил я историю с муравьем любознательной дочке.
– Папа, какой ты молодец! – восхитилась Марина.
– А вот, – усмехнулся невесело я и назвал имя товарища. – Он меня высмеял и обвинил в нарушении закона природы – естественного отбора.
Дочка пока ничего не знала про естественный отбор, но не смутилась, а упрямо сказала:
– Ты спас муравья, а он будет спасать лес от вредителей. А разве только людей спасают в беде?
Марина вдруг загадочно улыбнулась и достала из кармашка платья последнюю конфету с добродушным медведем на обертке. Я было начал отказываться от награды, однако вовремя спохватился и понял – нельзя! Разделил конфету на две равные дольки: себе за муравья, а Марине – за доброе сердце.
Зеленый ветер
До полден и небо глубоко голубело, и солнце нежило-согревало землю. Оно разморило полевого воробья, и тот не понес клок заячьего пуха к дуплистой осине, а задремал на березовом сломыше. Возле него суетилась домовитая воробьиха, ерошила серые перышки и совестила своего хозяина:
– Ты лень-тяк, ты лень-тяк…
– Чо ты, чо ты… – нехотя бормотал-оправдывался воробей и сонно сваливал голову на огниво правого крыла.
Сколько пришлось бы нервничать воробьихе – никто не знал. Но тут прянул с исетских увалов южный ветер, небо и солнце затянуло дымным мороком, и запрыскал-зачастил теплый дождик. Березовый сломыш опустел, и воробьи не показывались из дупла, хотя дым расплылся и лишь ветер шевелил тальники и черемушники. Кусты окутались густым накрапом молодых листьев, и зеленый ветер волновал их по раздолью наволока. Ему отозвался на заречье дрозд-белобровик:
– Запою, запою, напою, напою…
Ветер осторожно стряхивал живой бисер с кустов и слушал, о чем восхитительно-трогательно высвистывал дрозд в залиствевшей черемухе, и раздыхивал сладкую зелень над рекой. Где-то там и запритих он, заслушался белобровика, что песенным ручьем выласкивал предвечерье: «Запою, запою, напою, напою…» А когда над ближним угором навострил уши народившийся «котелком» месяц, из побережного смородинника вполголоса закартавила варакушка:
– Прикатирли, прикатирли… Катирли, катирли…
Мы тоже слушали дрозда и варакушку, дышали зеленым ветром и верили, что он останется по наволоку на все лето, из него и напоют нам не только первоприлетные птицы, а все, кто возвратится домой и жарко обрадуется родимой земле.
Солнышки
Ближе к третьим петухам разбудил меня странный шум. Вроде бы кто-то отсевал на решете зерно и нечаянно рассыпал его на землю. А на самом деле разошелся крупный майский дождь. И когда и куда он отдалился – не заметил. Выбрался из балагана – все синело и сверкало в солнце.
Оглянулся – над березами поднимались зеленые выдохи, а по бугоркам горели охапки горицвета, луговины раззолотили купавки, и одуванчики сплошным звездопадом осыпали умытую землю.
Да как мне идти по цветам?!
Упал я в траву и ничего мне больше не желалось. Лежал, дышал цветами и видел, как из трав встают и раскрываются купавы, шевелятся головки горицвета и моргают глазенками одуванчики. А лывины и болотники затопляет волной желтизна калужниц.
Подлетела на талинку чечевица и аленьким цветочком распелась-заспрашивала:
– Чиво, красиво? Чиво, красиво?
И к чему тут мои слова – нужны ли они!?
Думалось мне легко и приятно наедине с цветами. И впервые они не казались золотыми. Тяжелое и холодное золото – ему не нужно солнечного тепла. А цветы начинали сиять, когда солнце – душа нараспашку – лучисто обнимало землю. И она светилась бессчетными крохотными солнышками, а оно добрело любовью к ней, поднималось оглядеть ее и подивиться: сколько может земля вынежить солнечных деток.
Перепела
Евгению Носову
Когда летний вечер выстлал по ляжинам и речке сырые туманные холстины и начал спелить для ночи желтобокие звезды, тогда с берегов Крутишки стали окликать друг друга перепела. На правом склоне в чистой пшенице картаво шелестел своей перепелке: «Ха-а-ша, ха-а-ша». И чувственно сулился не то ей, не то соседу: «Спеть хочу, спеть хочу». С левого берега озабоченно отзывался: «Буду ткать, буду ткать». И хотя подруга время от времени ворчливо звала его – «спать пойди, спать пойди», перепел сновал челноком в травах и уже ясно и определенно отвечал: «Тку ковры, тку ковры».
Все птицы давным-давно спали, и всяк на свой лад видели сны, а на берегах все бодрствовали два перепела. Справа восторженно двоил: «Ха-а-ша, спеть хочу», слева упорно утверждал: «Тку ковры, тку ковры».
Ночью я завидовал ближнему. Рядом с ним пестренькая курочка, он любуется на нее и жарко шелестит, как она хороша. И пусть еще не спел, но собирается спеть о чем-то, наверное, необыкновенном.
…Расплеснула утренняя заря горячие краски, и справа перепелишка как бы зевнул, уже невнятно пробормотал «Спеть хочу». Слева чего-то долго ждал, но лишь над правобережьем выкатилось счастливое солнце, скромно подтвердил: «Выткал я, выткал я». И тоже замолчал.
Поднялся я от речки на правый берег и оглянулся. По склону лилась к омутам сине-зеленая пшеничная волна. И трудно было угадать в ней влюбленного перепела с ненаглядной перепелкой. А слева по берегу… Посмотрел и замер я от внезапного озарения…
По дымной зелени трав расстилался живой ковер. И каких только узоров не выткал по нему неугомонный творец. Тут лилово распушились позолоченные маковки лугового василька, расшиты ковыльным гарусом кашка и богородская травка, ярко синеет косами вероника и алеет гвоздичка. Там рассыпаны голубые звездочки журавельника и мелкое золото лютиков, раскрыты огнисто-желтые бутоны козлобородника и лазоревые глазки незабудок. А вон волчьи медунки зверовато уставились темно-фиолетовым прищуром на розовые шапочки клевера. Поодаль стелется в обнимку с белоголовыми нивянками густо-лиловый мышиный горошек, и синими гребешками пытается расчесать свои кудри вязиль…
Высоко над ковром распахнулся песенной душой жаворонок, и защелкал-защебетал на тысячелистнике черноголовый чекан. А в поднебесье парил орел и все не мог оторвать зорких глаз от всенощного искусства перепела. Вместе со всеми птицами и солнцем смотрел и я – хотел надолго запомнить ковровые узоры. Хотя… останутся они и после меня. И кто-то уже другой встанет здесь в необъяснимой сердечной радости и до конца дней своих не разлюбит отчие края.
Ящеренок
По влажной черной пахоте карабкался крохотный ящеренок. Глинисто-водянистый, с маковинками глаз. Мы осторожно усадили его в пустой спичечный коробок, и он совершил с нами самое, наверное, большое в своей жизни путешествие.
В селе мы открыли коробок. Ящеренок привстал и посмотрел на нас косо расставленными глазенками. В них было столько невыразимой тоски по сырым луговинам, по запахам лесным и всяким букашкам, что мне стало не по себе. Я закрыл коробок и повернул в поле.
– Зачем? – остановили меня. – Пожалел ящеренка, а он, может, вредитель.
– Пусть ночует у нас, – попросили братовы дочки.
Я оставил коробок на полке. Утром вспомнил, взял в руки и открыл его. Ящеренок был в той же позе, но… высох. И только глаза сохранили невыразимую тоску по сырым луговинам.







