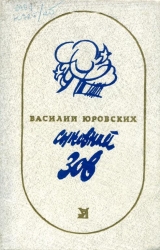
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Истоки
Где же она, речка-то? Шел правильно, как наказывал отец, а воды все нет и нет, лишь осока-шумиха шелестит и редкие ракиты жмутся еле-еле приметной низинкой. Может, все-таки в осоке и отыщу Крутишку?
Долго шуршал шумихой, разминал ее, широкоперую, пока не наткнулся на потную землю, пока не посветила мне доверчивая струйка. Она, она, Крутишка… Сердце слышно заколотилось, и неунятное волнение обожгло-осушило губы.
Вода выструивалась тонко, плутала осокой, и ни кружкой, ни пригоршней ее не зачерпнешь. И я встал на колени, припал к прохладной источине. Она была свежа и не пахла болотной затхлостью. А после питья захотелось разуться, зашлепать, как в детстве, босиком. Удержал себя потому, что воды столь мало и боязно расплескать-разбрызгать ее на осоку.
За неезженной осевшей насыпью – памятью об одном директоре совхоза, охочем до проложения дорог, – признал я степь. И совсем уверился, когда глянул на север. Низинка переросла в тальниковую ложбинку. Тут, неподалеку, должно быть урочище Квасница. К ней водила меня бабушка Лукия Григорьевна, все хвалила-похваливала здешнюю смородину:
– Ягода тутошняя, Васько, на особый вкус.
Бабушка, когда мы приходили на Квасницу, не знаю почему, всякий раз крестила себя и уже после лезла в кусты, где ряса-рясой висели на ветках крупные ягоды.
Помню, сначала я подивился на бабушку: разве можно брать бурую смородину? Она с улыбкой посмотрела из тальника:
– Оне, Васько, завсегда едакие. Окрашиваются все равно бордовыми. Да ты испробуй их, испробуй!
Смородина оказалась спелой даже вовсе не кислой, а густо-сладкой. Сколько ни ел – зубы не «отбил». И мы всегда носили отсюда тяжелые корзины буро-бордовой смородины, непременно делали привал у ближнего омутка. Бабушка черпала берестяным туеском воду, подавала мне пить и хитро щурилась. А когда я ахал, она смеялась:
– Уразумел-таки, пошто Квасницей зовется здесь Крутишка? От земли тут и ягода особая, и в омутнике не вода, а квас…
…Я не сразу решился разнять тальники. Прошло сколько? Ну да, тридцать лет минуло, а какие кусты сейчас низенькие-низенькие… Еще опасался не увидеть ягод, тех бурых и особых на вкус. И когда несмело развел по сторонам талины – с трудом приметил несколько мелких ягодок на смородиновых веточках. Руки опустились, талины сомкнулись, словно толстые старинные двери навсегда закрыли от меня мое собственное детство…
Вместо колков и ракит наступали на Квасницу пустошины, и мне подумалось: вот-вот утонут в дурбети последние кусты тальника с последними побегами смородины, с последней водяной жилкой Крутишки.
В гущине гранатника и репейника нашелся тот омуток с земляным квасом, только не было в нем воды. Неужто не пил я ее, неужто приснились мне в нем зеленые щурята? Нет же, она тут, самая она Квасница. Вон и ложниковое течение водополицы с названием Алмазное. Даже кучка берез уцелела вблизи засмиревшей речки. Может быть, из них и облаивал наш пес Индус молодых тетеревов?
…Снова путался я в осоке и луговых травах, пытался нащупать ускользавшую струйку. А ведь подле течения Рассохи на моей памяти пугали глубью омута и речной разлив синел от весны до осени. И не только мой отец в детстве, но и мы с ребятами пытались изловить черные поленья щук. Но куда-то сплыли с берегов поднебесно-березовые леса Дубравы, зачахли ивняки и куда-то разбежалась черемуха. Нет, как будто и не было сладкого куста, ежелетно черноглазого от ягод. А ведь тут он стоял, где растекалось весной течение Просешное. И всегда из него вылетали белые куропатки, шугали насмешливым гавканьем нас с дружком Осягой.
Омутистая Крутишка ожила ближе к бывшей деревне Морозова, засветилась плесинками из тростников у села Юровка. Пусть не плескались щуки, нигде ребятишки не ловили окуней и пескарей, речка все же пробивалась на север.
…На третий день сидел я на песчаной отмели Исети, где большая река приняла от Крутишки многострадальную чистую водицу. И не столь от нее побежала сильно да быстро, сколь молодо высветилась. Исеть, будто сахар, облизывала песок, кипела водоворотами, вскидывала живое рыбье серебро и дразнила крикливых чаек.
Здесь было просторно и шумно. Вроде, не гостил два дня назад у матери, не искал исток когда-то крутонравной речки. Но стоило оглянуться, и я снова видел родительский дом, у ворот мать и отца. Они провожали сына в путь-дорогу, думали, конечно, и обо мне, и о своей невозвратимой поре. Отец с тихой грустью вздыхал и еще пуще опирался на трость. Ему уже не откинуть ее и не пойти так ходко и твердо, как когда-то, никогда не бывать больше у Крутишки. И седая согбенная мать тоже никогда не побежит к прозрачно-холодному ключу в Согре, не принесет оттуда попить Ивану под черемуховый куст.
Мне жаль оставлять родителей, но я не могу повернуть обратно. И с каждым шагом все дальше и дальше от них, все ниже и ниже становятся одинокие фигурки у ворот. И только долго звучат-живут во мне заботливые напутствия матери и отцовские наказы. И мне все время кажется: где-то по Крутишке встречу молодую здоровую пару, и сердцем признаю в ней родную кровь.
Материнское благословение
Зимой сучья у лиственницы были одинаковые: корявые суставчатые, с какими-то несуразными наростами. Но весной опушилась она свежей шелковистой зеленью, и только на растрепанной макушке зачернела сушинка: вроде шершавые материнские персты сложены в русское благословение.
…С теплом прилетела белобровая горихвостка. И песню первую спела именно с сучка-сушинки. Каждый рассвет на ней встречает: порхнет и голосок подает. Спинка сине-пепельная, а брюшко и хвостик рыжеватые, будто бы солнышко обогрело. Оно, солнышко, где-то чуточку просвечивает, а горихвостка звонко, да так сердечно его вызывает:
– Фьюить-чуть-чуть-чуть!..
Солнце, должно быть, слышит ее: вздыхает розовым туманом, и, светлое и ясное, вырастает над лесом и долами…
Поселился вблизи щегол – писаный красавец. И тоже на ней, на сушинке, затевает бойкое и задорное щебетание, славно выговаривает: «Петь-пели-будем петь… пили-пили-будем пить…» И еще какие-то сверкающие бисеринки рассыпает сверху: уж так славно поется с материнского благословения!
Не поглянулась кому-то сушинка, и однажды не нашли ее птички. Аккуратной да опрятной смотрится лиственница, под стать комолым кленам на городских улицах. Стрижены они под одну гребенку, и хоть листвы копешки, а не слыхать в них птичьего голоса. И лиственница онемела…
Впрочем, случается этакое не с ней одной. Бывает, напишет кто-то языком матери-земли, а другому слова его корявыми покажутся. Ну и вырежет он их, как ту сушинку: ровно да гладко станет, как на асфальте, только… безголосо. Невдомек иному: слово-то, с виду корявое, и было той самой певучей сушиной – материнским благословением.
Седая береза
Замечал я раньше да только не задумывался: отчего среди лета у могутной березы всегда светлеют одни и те же листья? Все окрест зелено-веселое, и лишь у нее странное предчувствие издалека подступающей осени. Ну, если бы стояла в низине, а то ведь на угоре. И не старше многих по гряде Капародовской…
Какая же особая судьбина выпала ей на веку-волоку?
…Разутрело как-то весной и выбрался на угорину с железным рыком трактор. Двинулся он на вековечные пашенные межи, и вороном раскрылилась угорина от росстани до речки Крутишки. И не хотел синеглазый парень, да полоснули лемеха по корням-жилам где-то глубоко в земле. Может, только конек лесной слышал, как больно ойкнула береза, скрипнула да стемнела стволом.
…В сушь июньскую тяжело оту́чилось небо и расколол воздух блескучий клин. Дикой силы удар оглушил березу, ослепило ее ядовито-голубое пламя. Запахло гарью серной, черным варом запеклись на стволе брызги. Однако побитая и обугленная, выдюжила она и рассевала по снегам семена новой жизни.
…Выпало лесистому мыску у росстани делянкой быть. Частозубые пилы заплевали опилом, стали валить и валить березняк – деток березы. Ее оставили, но для питья выдолбили у комля глубокую лунку. Казалось, открыла она перекошенные губы и, как слезами, захлебнулась светлым соком.
…Кто-то шальной от чувства вышел к березе и опоясал-вырезал на стволе «Люблю Маню». Может, и разлюбил тот парень свою Маню или она его, может, и поженились – сколько весен-то сбежало в подгору ручьями. А только слова те, если отвести рукой седую ветку, все еще выступают на коре.
…Выйду на росстань, и вся она у меня на глазах. Дородная, чуть-чуть ссутуленная, куда-то устремленная и отчего-то задумчивая. Не помню я березу стыдливо-молодой, смутно припоминаю, когда стояла сильная и статная. То шумела и спорила с кем-то, то горюнилась и окликала дороги кукушкой. А когда высвистывала иволгой, мне казалось, будто мать погоняет Воронуху, и вот-вот задробят колеса телеги лесной дорожкой по корням березовым.
…Растекаются от росстани полевые пути, теряются в половодье пшеничном, дальних березняках и осинниках. Птичий голос повис в знойном воздухе: «Ты седая, ты седая, ты седая…» И шевелит вздохами ветер желтые пряди, и щемит у меня сердце, и слова мои остановились, словно застыдились они подслуха.
Сыновний зов
На осине-сухостоине топорщился и жалобно пищал молодой канюк. Рядом с ним на сучке сидел сорочонок-слетыш, поглядывал на него: или канючонку хочется есть или он боится остаться один?
Канюк-родитель плавно кружился над распадком Крутишки. Услыхал писклявый голос своего дитяти, с резким криком повернул к осине. Канючонок съежился: а вдруг бить или бранить станет?
Попутно подхватил канюк из пшеницы полевку, принес ее канючонку. Тот неловко проглотил мышь и замолчал. А куцехвостый сорочонок сидел, завидовал… Канюки между тем снялись и полетели вместе. Один сорочонок остался на осине. Да и куда ему торопиться? Успеет вырасти и всему научиться. А канючонку придется скоро лететь в дальние страны, подниматься над тучами.
Засмотрелся я на птиц и почему-то невольно припомнилась история с моим сыном. Приключилась она здесь же, у реки. Надоело ему клубнику собирать, и он давай канючить: пойду да пойду в Пески. Я не держал: пусть идет себе.
За ягодами ушел я от переброда далеко. И сколько времени прошло – не знаю. Расшумелся ветер в старых березах на оплечье бугра, нес он низовой порывистый гул из согры. И каким-то чудом услыхал я отчаянно-потерянный крик – сам удивился.
«Сын… – мелькнуло в голове. – Заблудился». И представилась ночь, глушь, и он один, худенький и несчастный… Никто его не услышит: травы-то все сметаны в зароды.
С бугра на бугор побежал к сыну. Кричал, останавливался и прислушивался: в шуме, как во сне, откликался слабый зов сынишки.
Вот сейчас настигну… Но где он? Почему только березы слышу? Снова закричал. И тогда из ложка побрел мне навстречу сын. Весь сжался в ожидании брани или шлепка.
Молча пошли мы обратно. Из-за кустов поглядывали на нас круглые омутины, мигали камышами-ресницами: дескать, урок ему будет за своеволие. Если б не сыновний зов, то, как знать, чем закончилось бы все…
Поднял глаза – надо мной медленными кругами набирали высоту канюки. Родитель подбадривал молодого, а тот, с испуга или от радости, пищал, но упорно поспевал за старым. Он улетал в небо, из жалкого птенца-канючонка превращался в смелую птицу…
Сын мой когда-то тоже расправит крылья. И, может, поднимется в жизни выше меня и улетит дальше. Одно бы помнил, не забыл бы подать сыновний зов, когда плохо станет… Пусть не будет уже меня; сама земля услышит и поспешит ему на выручку.
Вожаки
Грустная пустота окружает поздней осенью Ягодную падь. Оброненными журавлиными перьями сиротливо волнуются вершинки соломистого тростника, раскудлатились черные шомполы рогоза и клочья палевой ваты рассеивают над плесами знобкие вздохи ветра. И с какой-то скорбно-тоскливой мольбой воздел к небу свои коряво-бурые щепотки круглый камыш-крестовник.
Настывающая затишь не всполошится более утиным криком и шумливым выплеском крыл, не вздрогнет от прощально-протяжного голоса высоких журавлей. Незаметно приутихла и трескуче-путаная скороговорка юрких камышовок. А когда поутру медленно вытаивает солнце – остекленевшие плеса блестят мертвым льдом. И только налимохвостые ныряльщики-ондатры булькают с лавды, отчихиваются брызгами и на клинья кроят опустевшую воду.
Грустная пустота… И не донесется с мыса из конопатого березняка распевно женский зов:
– Манюш-ка-а, иди-ко сюда, здесь брусники крас-ным-красно-о-о!..
А мы с отцом еще затемно заплываем на Гусиное плёсо и днями таимся в заредевшем скраду. Чего ждем – о том не говорим друг другу. И лишь когда я больно часто начинаю сорить окурками, он усмехается и шепчет:
– Ну чо ты, Васька, чадишь бесперечь? Али терпежу нет? Дак пошто я-то по окопам не привык к табаку?
Вместо ответа я прикуриваю новую сигарету и про себя дивлюсь отцовскому терпенью. Не раз доводилось слышать, как фронтовики добрым словом вспоминали табак. Дядька вон тоже уходил на войну некурящим, а домой привез чемодан польских папирос. И сказывал, будто нервы перед атакой махорочная затяжка здорово успокаивает.
А все-таки чего мы-то ждем с отцом? Какого лешего торчим с утра до потемок в камышах?..
И однажды, когда сверху зачастила опилом снежная крупа, седое небо ожило гагаканьем диких гусей. Большая стая наплывала на падь стороной от нас. Неожиданно четкий ее строй рассыпался, и передний гусь с резкими вскриками пошел на снижение. Отец построжел, чуть устремился с ружьем навстречу гусю.
«Дождались, дождались»… – заволновался я и сплюнул прикуренную сигарету на дно лодки. Гусь вырастал, с каждой секундой становился все ближе, и все тревожнее кричала стая. Птицы смешались и тоже опустились на выстрел. Сейчас, сейчас отец поднимет стволы… Пусть стреляет он. У меня все еще будет, хотя как заманчиво сронить гусака. Но тятя, пожалуй, последнюю осень провожает на Ягодной пади, и так без моей помощи ему нынче не бывать бы здесь…
А гусь совсем над нами, и низко-низко – перья можно пересчитать… Тяжело поднимает и роняет он крылья, блекло-розовый клюв раскрыт и лишь крика почему-то не слышно. Ну стреляй же, тятька! Докажи деревенским насмешникам, а прежде старшему сыну, что ты еще добытчик, что не от старости меркнут глаза, а ветер высекает слезу. Ну…
Пошумел гусь, обдал нас холодком воздуха, но… дрогнули стволы и опустилось ружье на колени. Отец провел пятерней по лицу, обернулся ко мне и не узнал я его впервые. Не охотник, а старик мокрыми глазами глянул на меня. И добела вымерзший клок волос выбился из-под шапки на обветренные морщины лба.
– Ихний вожак, Вася, – прошептал отец. – Нельзя, не мог я по нему. Умирать он ушел в камыши. Понимаешь, отлетал свое, отводил стаю за моря-окияны…
Мы не доглядели с отцом, как надлетела стая. И хотя гуси видели нас – не шарахнулись вроссыпь, не взмыли над скрадом. Они долго кружились там, где скрыли камыши их вожака, звали его подняться и полететь во главе стаи. А в ответ волнами катилось грустное шуршание седых камышей, и все осыпалось крупой морошное небо. И почему-то под теплой телогрейкой захолодила меня гусиная кожа.
Когда гуси поняли, что никогда им не вызвать своего вожака, они молчком облетели Ягодную падь, быстро построились, и тогда упал на камыши не крик, а стонущий плач. И стало снова тихо-тихо на плесах, и слышно было, как тонко позванивала о воду жесткая снежная крупка.
Отец как-то странно посмотрел на зябко-синий дымок сигареты и глубоко вздохнул:
– Второго я уже проводил на своем веку… Вот ить как природа устроена. Почует конец вожак и не ждет чьего-то указа, а сам покидает стаю. Айда, Вася, на берег. Ишь, непогода-то как разыгралась. Замешкаемся – намаешься со мной…
Зимой в суете городской нет-нет да и припомнится мне Ягодная падь.
Потолстели снегом заледеневшие плеса, выстудились насквозь продутые и помятые буранами камыши. А из них вдруг глянут на меня отцовские глаза… И тогда заноет левый сосок груди, кольнет-ворохнется сердце, и пойму я, что вместе с гусями простился там с чем-то самым невозвратимо-дорогим.
Ложок
Совсем худенький да неглубокий ложок виляет угориной к речке Барневке. Весной поручьиться по нему снежница, намоет круглолицых галек и затравеет он пижмой, тысячелистником да вязилем. И только где-то под самой сгориной схоронится зеленый родничок.
Заровнять ложок многорукими лемехами ничего не стоит. Агроном не однажды наказывал трактористу Петру запахать его: на лишней сотке пшеница заколосится или горох не один бункер зальет белоградом. И пытался тракторист запустить лемеха на ложбинку, да каждый раз отводил трактор стороной. То парочка серых куропаток выбежит на обочину, то жаворонок вскрылится и долго-долго позванивает. А небо синее высоко-высоко, и в ложке слушает его на гнездышке жаворонушка.
Знает Петр, как под песни колосится усатая пшеница, как нянчит ветер в колосьях полнотелые зерна и спелят их перепела. А лопоухий русачок из самой груди ложка выбирается в хлебные разливы, слушает, как отзывается жаворонку зеленый родничок и свои семейные тайны вышептывает…
На меже у ложка встретил Гаврила светлоокую Марию и не мог до росовысоха расстаться с ней. Тут Гаврила солено-горько поцеловал Марию перед уходом на фронт, и тут же посадили они тонкую калину…
Не вернулся Гаврила к заветному ложку, без него распустилась и наливается кровяно-багряная ягода калина. Без него поседела вдова Мария, вырос русокудрявый Петр и остался там, где жалели друг друга отец с матерью. И пока поднимаются из ложка жаворонки, семьятся куропатки да светятся в родничке галечки, покуда невестится калина и рдеет по осени, засвеченная закатом, живет на земле тракторист Петр. И нянчат ветры хлеба вольные, и душистыми вечерами поднимается чистый месяц светлым сердцем русской земли.
Заступницы
В просторном «рукаве» разнолиственной рощи по увалу, а сыздали, с околицы деревни Тюриковой, она и впрямь напоминает зелено-ситцевую рубаху с плеч богатыря среди наспевших хлебов, наткнулись мы с дочкой на несметную грибную рать. Старинной дорожкой, чья твердь угадывалась еле приметным «швом» меж рукавом и становиной, пестрели сыроежки и загорелые, потнолицые валуи-слизуны; с обочин дозорили плечистые, крутоплечие белые грибы – ни дать, ни взять русские богатыри-дружинники, вон и палицами дождевики – геркулесовы дубинки – подле них в реденькой травке… А уж обабков и в новых и в поношенных шапчонках вовсе не счесть, а уж красношеломных подосиновиков сколько!.. Как есть собрались русичи дать битву на поле Куликовом.
Не успели еще достигнуть рощи ни местные, ни городские грибники, потому и мы тоже не стали спешить – с ходу хватать все, что на глаза попало. Ну и покойное затишье окрест приглашало к неторопливости, сулило уединенное удовольствие грибосбора. Дочка, правда, подозрительно оглянулась и прислушалась, бросилась было навстречу грибной гуще, да тут же и опомнилась: отец как остановился, так и не продвинулся, а словно в своем во саду ли в огороде-пристраивал заплечный мешок с едой в тень тройни берез; рядышком поставил корзину и ведро.
Застыдилась дочка своей горячности, своей недоверчивости-боязни, что кто-то вынырнет-поднимется из папоротника или на машине легковой опередит нас – тогда успевай-имай!.. А как поверила в отцово спокойствие, первой же подсела к мешку и обрадованно предложила пообедать на воле. Да, поди, и устала она, пусть и не показывает виду. Километров восемь отшагали мы после автобуса через поскотину и голой дорогой, поднимаясь сперва увалом к роще, а потом еще и долго огибали подол рубахи, где, как бы сказала моя бабушка: «Ежеденно люди обшаривали-освашивали каждое пятнышко по лесу».
Промялись мы с Мариной на славу и чуть не весь пропитал подобрали за один присест. Дома консервированную скумбрию стараемся не замечать – до того она приелась-надоела, а тут дочка хлебным ломтиком насухо «вылизала» томатный соус в нутре банки. Про запас оставили пару домашних лепешек и полтермоса чая. Я и без этого додюжу хоть до завтра, а у Марины не хватит выти и до сегодняшнего вечера.
– Эй, грибная оравушка, теперь держись! – весело кликнул я, вскакивая на ноги. Дочка того и ждала, опять заблестели азартной синевой ее глаза.
– Я, папа, за белые примусь, а? – попросила она, а сама уже подрезала складешком ближнего крепыша.
– Ага, управляйся, доча, с ними по дорожке, а я рукав прочешу. Авось, там и сырые и сухие грузди напрели, – согласно отозвался Марине и продрался за вишняг. Да сразу и опустился на колени перед кустистой грудой крепкогубых сухих груздков. Похрустывают-поскрипывают ядреные корешки под ножиком, но груздей не убывает. Вороха и кучки растут позади меня, будто кто-то ссыпает щедро из лукошка с берез и осин, я даже невольно вскинул голову, но никого и ничего не увидал, кроме васильковой безгрешности неба и высоко парящих в нем четырех канюков.
Пора, пора бы укласть грузди в ивняковую корзину и голубое капроновое ведро, да эвон приподняли в полупоклоне соломистые шляпы сырые грузди-ветераны. Придвинулся к ним, а вокруг нежатся под толсто-прохладными старыми листьями светло-русые груздки. А дух, дух-то какой искусительный щекочет ноздри! Хоть здесь же и хрумкай их, минуя засольное искусство жены…
– Папа! – кричит дочка, и удивленно-огорчительно добавляет. – Не утащить же нам все грибы, один ты сколько насобирал…
Настает мой черед краснеть перед ней за неуемную работу. Права она: пора и честь знать, пора, и подумать, куда и как стузить-не перемять грибы. Однако тянутся же сами, тянутся руки к задряхлевшему пню – на него ребячьей гурьбой влезли молодые опята. Уж как там кому, а им в теснотище не жарко, не душно, не обидно! Для опяток местечко в мешке, что ли, оставить, не исперемнутся они, спружинят привычно, все равно во-о-он как жмутся и на пне и вкруг него.
Прикинул я наши тарные возможности, а о своей далеко небогатырской силушке, о шутливом и метком прозвище из уст жены – «Сморчок» – почему-то и не вспомнилось, и… закрыл складной охотницкий ножик. Куда нам вдвоем тягаться с грибным урожаем? Если завтра кто и наведается сюда – милости просим, только свиноройством не занимайтесь! Не захочется с кем-то заодно нам грибничать – «ворот» рубахи-рощи целехонек, да и тут экая пропасть грибов и груздей останется после нас!
Как ни уберегал я Марину, но и ей досталась ноша не по годам и силе, поначалу приемная, а постепенно тяжелеющая как бы нашим потом.
С передышками-привалами и «скатились» мы пшеничным увалом к поскотине, где освежило-обдуло нас на полысевшем бугорке, и степным раздольем бодрее доплелись к остановке. Автобус нам все равно ждать часа полтора, он еще с вокзала не отправился на соседнее село Красномылье.
На солнечной стороне кирпичной «ожидаловки» устроили мы скамеечку из белых силикатных кирпичей, настроившись на терпеливое возвращение домой. Когда есть чего везти, тогда любое ожидание не пустое время, а считай – послетрудовой отдых.. Дома-то ой сколько ждет всех нас четверых возни с грибами! Все надо до единого перебрать-переглядеть, каждому угадать свое место – эти на сушку, эти на засол…
Самому странно: почему-мне более по нраву просто искать и собирать ягоды или грибы, чем услаждать себя уже чем-то приготовленным из них за столом? Чего не скажу о рыбе – для меня и ловить рыбу – умопомрачительная страсть, и поесть ее охотник в любом виде. Из двух вершковых окуньков однажды с сыном и приятелем сварили уху в трехлитровом котелке. Может быть, и прозрачно-чистая вода из речки Ольховочки тому виной, но ведь как мы хлебали уху деревянными ложками! Крякали искренне хором, настораживая неробких чечевиц, а и за шесть минувших лет чудится дух и вкус той «тройной» ухи. А грибы да ягоды восхитительны, пока не станут обычной едой…
Размышляя о том да о сем, смотрел я на степочку впереди себя и казалось, что никто и ничто не взволнует нас до прибытия автобуса. И вдруг на ближний взгорок стремглав ринулся откуда-то ястреб-перепелятник, и почти одновременно с резко-грозным писком ударили по бокам две деревенских ласточки – такие крохи-комарики в сравнении с ржаво-полосатобрюхим разбойником! Непонятная отвага касаток смутила меня: добро бы они свое гнездо обороняли под застрехой амбара или конюшни, а тут отгоревшая за жаркие августовские дни голая степь…
Если бы ласточки преследовали-гнали его взашей издали, то зачем бы ему падать к земле с раскогтенными желтыми лапами? Да и не был бы налет ласточек внезапностью для ястреба. Планы перепелятника расстроились мгновенно, и он круто взмыл от взгорка, и тогда та самая малая пядь земли стрельнула насмерть перепуганной желтой трясогузкой. Не той взрослой, что отзолочена и расцветает весной на лугах вместе с одуванчиками, а невзрачно-зелененькой, скорее всего еще желторотой. У нее и дрожливых ножек словно совсем не было – до того плотно она прижалась к асфальту.
Ласточки протурили ястреба с поскотины и, о чем-то пощебетывая на лету, промчались обратно в Тюрикову. Все свершилось настолько быстро, что мы опоздали с похвалой ласточек за спасение трясогузки, беззащитнее той птицы, по имени которой ястреб и получил «довесок» – перепелятник. Вот еще одна грустная история наших дней: перепелов – хлебных телохранителей – чуть не начисто вытравили на полях химикатами, а этот жив-здоров, пичужит в свое удовольствие других птах. «Санитарит», – сердито передразнил я в уме лукавомудрых ученых мужей с адвокатскими замашками.
Дочка хотела приголубить трясогузку, да не успела дотронуться, трясогузка негромко чиликнула, порхнула через дорогу к деревне.
– У нас, у нас, нашла защиту! – взгордилась Марина и огорченно добавила. – А погладить не позволила…
– Что правда, то правда, Мариша! Нынче звери и птицы возле людей ищут спасение. Сама же видала, сколько козлов диких поразвелось у самого города. Только не мы, а ласточки первыми заступились за трясогузку. Они заступницы, хоть и сами малы, не крюконосые и не когтистые.
– Значит, мы и ни при чем? – обиделась дочка.
– Отчего же! В самый раз при чем. Откуда знать трясогузке, что ястреб отступился лишь из-за ласточек? Молода еще! А вот в войну, в сорок втором году, такой же ястреб прямо в сени загнал серую куропатку. Зимовал тогда на нашем огороде целый табунок куропаток. И сам следом за ней залетел. Ладно, брат Кольша за чем-то в чулан бегал, и перепелятник в ограде на тынок уселся, выжидать начал куропатку. Дескать, выгонят и ее на улку. А Кольша хвать тятину одностволку, в дыру меж сенками и зауголком избы бабахнул по нему. Не промазал Кольша, и в двенадцать лет метко стрелял, не то что я сейчас.
– А куропатку неужели не съели? Ты ж сам рассказывал, как голодно вам жилось в войну.
Я не обманывал дочку, рассказывая, как сперва досыта брат, сестра Анна и я нагляделись на нее, поочередно подержали в руках и вынесли птицу на огород, где в лебеде и конопле по меже жили ее братья и сестры. В лесу мы с братом промышляли и куропаток, и петли настораживали на зайцев, зато своего зайца, что облюбовал зимой нашу черемуху на задах пригона, мы подкармливали морковками. Почему-то он не грыз наши гостинцы, леденевшие сразу на стуже, обходился чем-то своим, однако мы не унывали. Мороженые морковки оттаивали и съедали сами, а взамен клали на тропу свежие коротельки.
…На мягком, откидном сидении в автобусе с голубой надписью по кузову «Исеть» можно было и подремать, но мне думалось о ласточках, о своем родном селе Юровка. Вспомнилось какое-то сельское гуляние в довоенное лето. Под гармонии, частушки и пляску сошлись край на край – Подгора и Озерки – взрослые холостые парни и девки. Две «армии» ненадолго приостановились друг перед другом у клубной площади. Что мы, сопляки, делали возле них и для чего крутились подле холостяжника – не в том суть. Забылось… Но явственно и по сегодня слышу, как недобро захрустели-затрещали колья в перетыках соседних огородных прясел, как под ругань, уханье и девичий взвизг все перемешалось. Не родители, не милиция, а девки – позднее я узнал от дяди Вани, что и драки-то затевались из-за них, девок, – бесстрашно усмиряли здоровенных и отчаянных парней.
Драки тогда обходились без увечья, и тем более – без смертоубийства, чего не скажешь о нынешних иных молодцах с ножами всемером против одного.
Парни те все потом до единого ушли на фронт, и никто из них не осрамил юровчан трусостью. Только с войны вернулось их совсем-совсем мало… Через три десятилетия земляки «вернули» своих задиристых парней в Юровку четырехгранным памятником напротив сельсовета. Ежегодно майским днем отовсюду с венками едут к нему люди. И тут в скорбном молчании, как бы поротно, свершается перекличка личного состава, погибшего смертью храбрых.
Парней воскрешает память рано состарившихся заступниц-матань, многие из которых так и не озарились замужеством. Вот только они сами не узнают в себе тех девок. А, может, нарочно не вспоминают, чтобы словами нечаянно не потревожить вечный покой своих ягодин?








