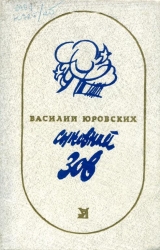
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Синегрудка
За многоголосие назвали первоприлетную птичку варакушкой. Потому как всех-то она передразнивает, на все звуки откликается-варакает. И может любого в искушение нечаянно ввести.
Отец рассказывал, как Егорша Золенок на покосе прохлаждался. Ночь прохолостует, придет в поле, литовку постукает на отбойной бабке, поточит оселком и… завалится где-нибудь в куст. Яков Золенок принесет ему паужну, покричит-послушает, а сынок его где-то с бритвенным жиканьем оберучник за оберучником идет.
– Ишь, работящий у меня Егорша! – порадуется старик и в холодок еду ему поставит. И неохотно отрывать Егоршу: эк он, парень-то, пластает!..
А Егорша сны один слаще другого смотрит. И только птаха-непоседа нет-нет да молоточком отобьет литовку, оселком по лезвию точнет и… раззудись плечо, повались разнотравье по ляжинам.
Обман-то все же раскрылся, и Егорше ремня досталось.
Однако никто у нас на искусницу не в обиде. И величают ее уважительно-ласково синегрудкой. За ее чисто-ясную синь на серой грудке с алым пятнышком зореньки посередине.
Много раз доводилось мне дивиться на птаху и слышать самые разные напевы. То коростелем хрипло запоскрипывает, то перепелкой задразнит Филю Микулаюшкина: «Фып-филип, фып-филип». А бывало, тетеркой заквохчет или селезнем косатым «зашавкает». Как-то возле Крутишки, вдали от деревень, вдруг табун гусей весенне-будоражливо загоготал. И до того явственно – искать побежал. Сам себя устыдился, когда из смородины с задоринкой посмотрела на меня синегрудка.
Однажды майскую ночь коротали мы с другом. Над Согрой звезды свешивались, как черемуховые кисти, и мягкая зелень окутывала землю. И не стерпел друг, спел на русоголовый месяц песню есенинскую. А после один я торопил утренник, и неожиданно из тальника выпела птаха такое, от чего дрогнула моя душа. Нет, не почудилось. Она, синегрудка, выводила негромко:
…Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
Светло и больно билось сердце. И не верилось: неужто в малую птичью душу запал напев самого нежного поэта русской земли? Тогда каким же истым сыном природы надобно взойти в жизнь, чтобы слова твои запомнила и пропела не шибко-то приметная птичка…
И впервые стало мне обидно за ее книжное название – варакушка.
Купавочка
Под нависью черемухи замерцала свеже-желтая головка купавочки. Она расцвела самой первой, но не бросилась в глаза, а как-то скромно жалась в тень. Дочка склонилась к ней и не дыша смотрела на купавочку. И шепотом, точно боялась потревожить цветок, произнесла:
– А щечки-то у нее зеленые…
И снова долго рассматривала купавочку. Поманила меня к себе и торопливо зашептала:
– Папа, слышишь, она о земле рассказывает. О бабушке Зайчихе и дедушке Барсуке, о солнышке и звездочках ночью. Слышишь?
Я поверил дочке. Мне самому слышалось, как юная купавочка радовалась родной земле, теплу и птичьим голосам, белоумытым березкам на пригорке. И, наверное, моей девочке.
Давно ли она охала и всплескивала ручонками на цветочную разноцветь клумб. А увидела в лесу купавочку – замерла, не наглядится на нее. И чудятся ей сказки, и русский край в песенной звени ей видится…
Стоял я рядом с дочкой и неловко мне стало за себя, за взрослых. Как мы порой горячимся при чьей-то яркости… Удивляемся необычности, ахаем и спорим. Потом забудем и даже не вспомним, чему восхищались и для чего столь шума затевалось.
А где-то поднимается рожденный самой землей цветок. И когда он вырастает и раскрывается – мы не примечаем. Только после начинаем спрашивать-сетовать:
– А почему раньше-то не видели? Опять проморгали…
Шмель
Совсем раннее утро, и солнце еще где-то за угорами. И лиловые васильки на взгорке зажмуренные с ночи. На один из них забрался золотистый увалень-шмель. Он долго ползал по сомкнутым ресницам василька, и гудел, словно уговаривал цветок открыть глаза.
Васильку не хотелось просыпаться: еще роса не скатилась и солнце не ласкало. А шмель все ворковал и нежно гудел: «Ну-у-у, ну-у-у…» И васильки зашевелились. Качнули головками, заморгали ресницами и… раскрылись. Шмель помогал им мохнатыми лапками и все тише ворковал.
А солнце еще не вставало.
Остров
Дымные сумерки скрыли тальники и ровный луг правобережья, и реку не разглядеть, лишь смутно белеют острые наконечники гусиных поплавков и слабо отсвечивают первые звезды. Остров, кажется, необитаем и, кроме нас с дедом, что рыбачит с лодки у стрежи на задеве – замытого песком талового куста – нет здесь живой души. Но вдруг на острове зашумели крылья птиц, густые черемшины ожили суматошным галдежом галок.
Откуда они налетели? Ну, конечно, из города, где добывали себе пропитал, копались в мусорных ящиках и на свалках. Галки обвыкли и ничуть не опасаются людей, не отвлекаются на снующие машины и хватают отбросы из-под носа бродячих собак и кошек. А вот на ночь почему-то не остались там, неужто не нашлось им пустого чердака или мало куполов древнего собора на берегу Исети? Как-то даже странно: не лесные жители – галки – уподобились сорокам и воронам. Вон возятся они в кустах, выкрикивают «ах» да «как» и пристраиваются спать на зыбкие сучья черемшины.
Дед приткнулся на извороте к берегу и я, отводя от лица ветки и крапиву, лезу туда через кусты. Все равно клюют одни только мутноглазые ершики и пора осветиться костром, почаевничать и вздремнуть до света. И охота словом перемолвиться с дедом, приплывшим сюда из деревни Туманово. Она от острова километра три вверх по течению, и чем выгребать рекой – старик порешил остаться с ночевкой.
Остерегаясь рикошета угольков, – сухой тальник, как и осина, всегда выщелкивает их из огнища, – мы сидим с дедом у самого обрыва, ждем, когда вскипит вода в котелке. Гаврила Семенович пускает табачный дым в бороду, выгоняя запутавшегося комара, и вздыхает:
– Ране глубь туто-ка была – ужасть! Робятешками ныряли за раками. Уйдешь под воду – грудь сдавит, и в ушах зашумит, и страшно сделается. Навроде как бы в колодец угодил. Вылетишь пробкой наружу, воздуха хватишь, солнышку обрадуешься и опять осмелеешь.
Ныне не то, не то… Замелела река, токо и найдешь ямину на подмывах у берега. А так секи бродком по реке вдоль и поперек, токо в няше и вязнут ноги.
– Давеча, кажется, галки на остров пожаловали? – смотрю я на деда.
– Оне, оне, – откликается он. – И зимой туто-ка обитают ночами. Добро им было, однако надумали в городе обновить собор. Лесами обнесли, все окна и дыры заколотили досками. И вышло у галок – ни в селе, ни в городе; по кустам и мыкаются лет пять.
– Чего же им не жилось в деревне?
– Кто их знает… – чешет бороду Гаврила Семенович. – Можа за людьми погнались, когда те подались по городам. Вона мой сосед Митьша Хабаров всю жизнь хлебушко ростил, хозяйством правил. А туто снялся с земли и теперя на улице зимой снег скоблит трактором. Спроси: «Где живешь?» – «В городе!» – похвалится Митьша. На самом-то деле ниже первого этажа, в полуподвале…
Кто-то потревожил галок, и они загомонили в кустах. Дед снял котелок с круто закипевшим чаем и покачал головой:
– Кто их знает…
В тишине было слышно, как округ острова, словно голыми руками сжав его осевшую лохматую голову, с плеском рыбин убегала на восток Исеть. Она скатывалась навстречу солнцу, и никто не знал, где река переведет дух и задержится передохнуть. Да и можно ли ей остановиться и споткнуться хоть на миг у какой-нибудь деревни, средь лугов или полей.
Дети
Вольный жар июньского дня так и зазывал меня подольше остаться на сухой поляне предлесья, синеглазой от незабудок, но грибная страсть пересилила-заторопила под зеленый сумрак берез и осин, где пока еще сыро после росы, куда солнце выселило с поляны комаров и мошек. И стоило зайти в лес, зашевелить ногами пресно-молодые травы, как зароился вокруг меня крылатый гнус, вскоре отпугнутый ароматом таежной мази. Больше никто не мешал кружить меж деревьев, высматривать грибы и слушать птиц, понимать на свой лад, о чем они поют.
– Ты, ты счастливый, ты, ты счастливый! – радуется на сучке березы никогда не унывающий зяблик.
– Счастливый, счастливый! – вторят ему на весь лес, словно эхо, солнечно-снующие по лиственной вышине иволги.
– Взвеселим, взвеселим! – настраивает тонкий голосок не видимая глазу пеночка, а весь песенный венок заплетают замысловатыми кружевными свистами мастерицы-славки. Даже сорока не потрескивает обычно, как сухая чаща под подошвами, а негромко и нараспев выбалтывает чьи-то тайны.
Совсем не скучно и одному бродить большим Поклеевским лесом, да впридачу с десятком первых кривоногих подберезовиков на дне корзинки. Но извязалась за мной молодая ворона, то и дело залетает наперед; шумно, как неумелый пловец по воде, хлопает грязными крыльями и накаркивает мрачно-тревожное предчувствие неминуемой беды.
– Будь ты неладна! – нервничаю я и швыряю в нее палки.
Все-таки отогнал растрепанную и горластую вещунью, а на душе стало почему-то неспокойно. Однако и лес не без добрых людей: поднялся из низинки на еланку и услыхал справа хруст валежника. Ко мне подходил пожилой мужчина с кухонным ножиком в правой руке и с черным потертым портфелем в левой. Могли мы с ним и разойтись, грибники чаще всего люди скрытные и не любят случайных компаний. Да, видно, и он соскучился, шастая одиночкой, и первым окликнул:
– Как, с грибочками?
– Маловато, – вздохнул я, и он согласно закивал головой:
– Мало, мало, я всего-навсего парочку срезал. Вот и занялся борщевником. И то не с пустыми руками вернусь.
– От борщевника, если хорошо приготовить, пожалуй, и сейчас никто не откажется. А в войну-то с квасом вареный борщевник сметаной забелишь – не оторвешься, – заметил я, и мужчина тотчас оживился:
– Верно! Небось, в деревне выросли?
Грибник далеко не ровесник мне, лет на десяток постарше, но воспоминания о минувшем были у нас общие, и разговор потому сразу нашелся. И мы уже просто не смогли расстаться – пошли вместе, то расходясь, то сближаясь.
Незаметно узнали, что земляки – села наши по соседству, только увезли родители его в город давно, в конце тридцатых годов, четырех лет от роду.
– Сорок лет в Шадринске я живу, а сперва с родителями в Свердловске на строительстве Уралмаша. Отсюда и на фронт сходил. Поклеевские леса сызмальства избе́гал. А как на пенсию по фронтовой инвалидности вышел – все лето здесь пропадаю, – срезая на ходу борщевник, рассказывал о себе Василий Кузьмич.
– Давайте заглянем в одно местечко, – доверчиво предложил земляк. – Прошлым годом я по две корзины белых за день насобирывал там. Грибницу оберегал… И поэтому не давал выследить себя нашим соседкам. Мне бы и не жалко грибков, да как увидал, что вытворяют, – осерчал на них. Ну кто же с граблями грибы ищет?
Земляк не спеша вел меня на свое заветное место, а разговоры были не помехой. Я по-прежнему слушал птиц и рассматривал травы. Вон и мимо чаги не прошел – заметил сперва дегтярные подтеки на березе, а выше – коряво потрескавшийся нарост. И тоже не случайно на сломанной осинке успел углядеть неподвижную сову.
– Смотрите, сова красуется! – крикнул я Василию Кузьмичу, и мы одновременно подвернули к осинке.
– Совенок, слетыш, из гнезда выпал, видать! – догадался земляк, опередив меня.
И точно совенок: еще как следует не оперился и в белом материнском пушке, и клюв нежно-желтый ни разу не опробовал на самостоятельной охоте. Совенок, не мигая, круглил на нас темно-голубые глаза и единственным признаком, что он живой, было то, как он вдруг качнул куцым хвостом и облегчил желудок. Мы засмеялись, и земляк потянулся рукой к совенку, но внезапный грозный шум заставил меня резко пригнуться. Сначала надо мной мелькнула кепка Василия Кузьмича, а следом за ней пронеслась крупная серая птица.
– Сумасшедшая, язви ее в душу! – завопил Василий Кузьмич и так замахал руками, будто отбивался от целого роя пчел. – Ведь больно, больно ударила, шельма! Ладно, кепку зацепила, а если бы в лицо вцепилась когтями… А где она, кепка-то?
– Да вон, на траве, – успокоил я и сбегал за кепкой. И вот-вот бы расхохотался над ним, да вовремя задрал голову и заметил на толстой осине мать совенка – бородатую неясыть, изготовившуюся к новому налету.
– Бежим! – крикнул я и схватил попавшуюся под руку березовую сушину.
Неясыть и не собиралась преследовать, ей было довольно, что мы, не тронув совенка, резво отдалились от насеста. И мы лишь тогда и пришли в себя, и оба вдоволь насмеялись сами над собой. Два мужика испугались одной-разъединственной совы. Хотя как раз она в нашем лесу и опаснее человеку, когда защищает своего птенца. Можно глаз лишиться, а уж поранить когтищем неясыть кого угодно способна…
Урожайная полянка была пустой, недавнего ливня оказалось мало, чтобы напрели белые грибы. Мы огорчились ненадолго: повалились на редкую траву отдохнуть и снова вспомнили сову. Земляк не переставал дивиться на то, как отчаянно мать охраняет своего дитенка:
– Вот и возьми ее голыми руками, а? Хотя оно и понятно – дите бережет.
Василий Кузьмич нахмурился и враз стал старше:
– А нас с Анной взять… Вырастили Павла и нарадоваться не могли, когда начал он кузнецом работать на заводе. Да спутался с дружками, в драку с ними попал, и смертоубийством она кончилась. Вот и выревела мать белый свет из глаз… Эх, дети, дети!.. – состонал он и долго чиркал спичками, все пытался прикурить потухшую сигарету.
Неловко ссутулившись, он глядел мимо меня на легкую дрожь листвы, а я рассматривал сникший стебель купены с молочными цветками, что свисли к земле, словно горючие родительские слезы.
Наволок
– Воздух нужен ей, этой песне,
Словно хлеб многодетной семье,
И не только там, в поднебесье,
Но и здесь, на земле.
Федор Сухов
В кои века – никому не ведомо – затянуло межречье кустарником. По разливу-водополью натянуло ивняка да черемухи, и теперь, сколь глаз достанет, лохматятся да клубятся они наволоком. Не всякому место здешнее приглядно…
– Экая унылина… – протянет иной.
– Дурбеть! – сплюнет больно рачительный.
– Гниет земля… Мне бы развернуться! – вопьется в наволок ястребиным глазом охочий до корчевья да вспашки-перепашки.
Послушать их – и в самом деле земля пропащая. Кусты да кусты… Краснотал, чернотал, белотал, ракитники… А я разговор с дедом вспоминаю. В синий вежливый март шли мы с ним наволоком. Зажмурился он на серебристо-розовые вербочки и ковыльной бородкой кивнул по сторонам:
– Поди, и ты падуном наволок-то считаешь? Не-ет, земля тут шибко здоровая. Жизни она продление…
…Много сугробов сошло с той поры, много троп наторил я наволоком. И понял, как питают здешний воздух зеленым соком ивняки. И сколько трав улыбнулось солнцу… А птах… видимо-невидимо разлетелось-распорхнулось по белу свету… И все отсюда, из наволока.
Поверну за куст, а тут дубровники на репейнике задумались. Вроде бы полынной пыльцой напудрились, только щечки черные да на крылышках по два зеркальца белеет. А там, как маковки золоченые, желтые трясогузки качаются на кипрее.
А сколько жаворонков поднялось отсюда на песне… Высоко-высоко! Надолго им песни здесь хватает. Где-то не успел взлететь – кончилась песня, выдохлась. Воздуху мало певуну. Над наволоком из вида скроется: нет как нет его, только льется голосок веснопевца, словно само сердечко неизбывной радостью исходит…
Бывает, зальет наволок весной – одни вершинки кустов подрагивают. И тогда все зверушки на бугре вместе спасаются, к барсуку в гости сбегаются. Тут и лисы тоскливые, и зайчишки пугливые, и косули тревожные, и горностаюшки отчаянные, и мышки сиротливые.
…Стечет вода полая – и задымятся зеленые ивняки да запышет пеной черемуха. А потом травы вымахнут, будто земля сама за песнями на цыпочках тянется к небу. В озеринах да проточинах загуляют караси, всплывет ежами телорез, затаятся утки на гнездах. И сколь глаз достанет – зелень-зеленая.
К осени ягода наспеет, злаки созреют. Понесут люди калину, мешками, останется на зиму и птахам. И злаков полно снегирям и синицам, чечеткам и щеглам. А из бурьяна сосенки шустрые глянут по наволоку.
…Долго-долго смотрю я с горы Затеченской. Клубятся-стелются ивняки, поднимается над ними песня. И почему-то боязно мне: вдруг да вопьется в наволок ястребиным глазом кто-то охочий до корчевья?
По песни
Древний дедушка ласково говорит на ухо такой же старенькой бабушке:
– Бают, грибочки пошли. Теперь бы лукошко да за ними, молоденькими, сходить…
И оба улыбаются как-то лучисто и светло. Ну, совсем малые дети.
И я тоже думаю о грибах. Право, весточка о них покоя не дает. Ровно рыбаку услыхать о добром клеве где-то на речке. С вечера утра ждешь не дождешься…
Летние ночи – светлозоры. Закат еще не погас, а с востока слабый свет занимается.. Белеет небо, звезды, словно глаза, зажмуриваются, а окна чистой синью наливаются. Нет-нет да и озарится край неба вспышкой молнии. Рокотнет сонно дальняя гроза, и снова тишина.
Выхожу сухой теплой дорожкой, а ближе к лесу росными травами шагаю. От берез туманной прохладой веет, просыпаются под золоченым крылом зари птицы. Сперва с паузами, неуверенно, пропел певчий дрозд. Ему негромко отозвалась кукушка, а в соснах захлопала крыльями серая ворона. Вроде бы певцам аплодирует…
Растекается рассвет по небу, высветляет полянки и межстволье березняков, оттесняет сумрак в борок и ельниковые посадки. Здесь и первые грибы ищу, склоняюсь к хвойному настилу. А на меня уже глядят блестящие маленькие маслята, они то шоколадные, то сливочные, то светло-коричневые. Скользят из рук прямо в корзинку, будто радуются: «Ах, ты! Экая рань, а уже человек пожаловал!»
Дышу грибным запахом, неторопко брожу борком. Там ватажка маслят, а вот особинкой один пока приподнялся, на задорную шляпку хвоинку подцепил. Протягиваю руку и думаю: вдруг отпрыгнет он в сторонку и покатится сказочным колобком вслед за бурым зайчишкой и быстроногой косулей, туда, где дикий голубь пробует ворковать. Где-нибудь и лисоньку повстречает на лесной тропинке…
А солнышко тоже колобком взбирается все выше и выше. И все звонче зяблики – первые по лесу песельники – заливаются. Кажется, не листва и хвоя над головой, а одни только песни. Там дрозды стараются, тут иволги восторженно свистят, здесь лесной конек: «Ты сияй, ты сияй», – упрашивает. То дятел подаст голос, то синички около дупла по-весеннему распоются.
Земля росой дымится, капли радугой переливаются. Покачнулась белоснежная ромашка и холодным душем обдала косолапый подберезовик. Не зябко будет ему в компании маслят и сыроежек. А тут еще сухой груздь забелел на опушке…
Маревая истома наполнила воздух, заголубела зеленая даль. Славно так выйти на свежий простор, постоять у алеющего шиповника. Земле родной улыбнуться и душу свою послушать. И весь я в сладостном ожидании: вот-вот раскинет земля скатерть-самобранку, пойдут по грибы и песни наши люди, и будет у них на сердце тоже солнечно и радостно.
Грибное гуляние
Шел березняком, слушал заливистого зяблика. И вдруг почувствовал, будто кто-то пристально смотрит на меня. Глянул по траве – руками всплеснул. Батюшки! Грибов-то сколько, того и гляди невзначай зацепишь какой-нибудь. Ну совсем как бы грибное гуляние…
Вот холостежь-обабки куда-то повалили, и все хмельные, развеселые. Ишь, в обнимку двое идут, чай, нестойко ноги держат. А наискосок через дорожку тоже обабок – шляпа набок, грудь колесом, и сам он удалым молодцом. И тальянка вроде бы в руках. Тех двоих, кажись, сманивает:
– Робятушки! Айда к девкам, синявкам-сыроежкам! Ух и гульнем-споем на весь зелен лес!..
Ребята и грянули лихо под гармошку:
И все прямо-прямо к сыроежкам. Шумят, грозят слизуну:
– Ей, валуй, не балуй!
Только один повеса лишку хватил и средь бела дня заблудился в трех березах. Запнулся за желтые рогатики, ругнулся в горячах:
– Эх вы… лапша!..
А синявочки-то как вырядились… Полушалки да платочки розовые, бордовые, и красные, и бело-розовые… Сбежались, сплетничают, хиханьки да хаханьки… Миленков дожидаются. Сторонкой голубоньки да зелененьки с честью выглядывают, меж собой о чем-то шепчутся. А солнечно-золотистые до чего пригожи… Уста медовы – сладость одна… Потупились зазнобушки, застеснялися. Поодаль шибко спесивые стоят. Гордынь неприступная! Косынки красные да фиолетовые повязали, статью выхваливаются. Востроухий груздок одним глазком из-за пня за ними робеючи поглядывает и обабкам:
– Ой, робятушки, остерегайтесь-ко их! Жгуче-едкие да остро-едкие они… Позаритесь на басу-красу, опосля горюшко мыкать станете. Обласкайте-ко скромниц в коричневых платочках. Сиротинками они пригорюнились, о дружках разлюбезных задумались…
Прислушиваюсь да приглядываюсь и замечаю еще беленьких-беленьких сыроежек. Игривые такие, кинулись кто куда, смеха и визга девичьего на весь лесок. А в середке стройный обабок в собольей шапочке. Замешкался парень: какую ему облюбовать, какую девицу догнать да обнять-зацеловать?..
Зазевался я и чуть-чуть было на гриб не наступил. Морщинистый, сухая травка седой бородкой свесилась. Сгорбился дедушка-обабок, на холостежь щурится. И с какой-то ласковой радостью вздыхает…
Дрогнуло что-то во мне, возле сердца больно-больно кольнуло. Жалость какая-то полилась, будто самого себя увидал. И почему-то из берез пошел. Утешаю себя: «Полно тебе, не стар ты покуда. Сколько тебе еще зоревать, по земле хаживать, с ней миловаться…»
Поднял глаза – окрест розовая пшеница растеклась-расплескалась. Под незакатным солнышком синий ветерок тихонько гуляет, дышит медовостью разнотравья, щекочет в колке трепетные осинки. Только гриб тот забыть не могу. Сам не пойму, как мне почудилось-почуялось в нем что-то не лесное, а нашенское, людское…








