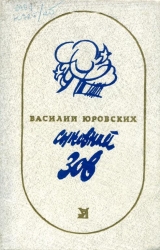
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Как я учил бабушку
Дядя Ваня, он же и лёлеко – так у нас называли крестных, женился на моей бывшей учительнице Нине Николаевне. Она приехала к нам в Юровку после института с Волги и многие здешние слова долго не могла понять, да и теперь еще нередко просит дядю Ваню растолковать ей то или иное бабушкино слово. Нина Николаевна не смеется над речью свекрови, но мне, окончившему восьмой класс средней школы в райцентре, стыдно за бабушку, а заодно и за самого себя.
«Как же научить неграмотную бабушку правильно, по-русски разговаривать?» – часто думал я, однако советоваться с кем-то стеснялся.
И вот, когда дядя Ваня с Ниной Николаевной уехали проводить отпуск у нее на родине, подвернулась ненастная погода. Вёдро, как мы порешили с бабушкой, сглазила заведующая избой-читальней Шура Мальгина. Пока я рисовал дядиными цветными карандашами карикатуры для колхозной стенгазеты, Шура тренькала на балалайке и пела одну и ту же частушку:
– Вот она посыпала,
Погода сыроватая.
Сама белого лица,
Любила черноватого…
– Кого, кого ты опять присушила? – хитро прищурилась бабушка на бойкую рыжую девку, но Шура озорно стрельнула зелеными глазами и отмахнулась:
– А никого, Лукия Григорьевна! Никого! Наши-то кавалеры в солдатах и по фезео…
– Ну тогда небушко изурочишь, дождя наворожишь, – заметила бабушка.
И верно, в самый разгар сенокоса позарез нужна сухая погода, а тут – не из тучи гром – затянуло небо облаками и заненастило. Подойдет перевала – ливнем льет, в промежутках – бусенец матрусит. Земля напилась, не принимала в себя дождь, и все кругом водой занялось.
Куда по такой погоде? Ни в лес, ни на речку ловить щук жерлицами, ни в огород…
Бабушка вязала шерстяные носки Нине Николаевне, а я перебирал книги своей тетушки. Правда, тетей я ее еще ни разу не называл, а все по имени-отчеству, как раньше в школе. Книги все много раз читаны-перечитаны, ни одной свежей нету. И вдруг под тетрадями увидел новую книгу. Обрадовался вначале, да тут же и огорчился: словарь. Хотел ее обратно положить, да вовремя вспомнил о своем желании научить бабушку правильному русскому языку.
Раскрыл словарь наугад и говорю:
– Бабушка, слушай меня и научись говорить!
– Говорить научиться? – изумилась она. – Да ты в уме ли, Васько? Девятый десяток живу и никто мне не баял, будто я говорить не умею.
– Да нет, бабушка, говорить-то ты умеешь, но говоришь неправильно.
– Чего, чего?! – засмеялась она. – Как ето неправильно?
– Как? А вот как! Скажи мне слово – интеллигенция.
– Ин-ин… – неуверенно начала повторять она и скороговоркой выговорила: – Интелего!
– Ну и неправильно! – захохотал я и снова уткнулся в книжку. – Скажи – автобус.
– Табус! – не задумываясь брякнула бабушка.
– Массив – скажи!
– Шшив! – отвечает бабушка.
– Да никакой не шшив, а массив! – сержусь я. – Допустим, массив леса, массив хлеба, поле то есть!
– Эвон што! – не обижается бабушка, продолжая ловко вязать носок! – А по мне, так оно и есть поле. Ну пашня, ну покос, ну увал, ну угор… Правильно?
– Нет, бабушка, неправильно! А скажи, кем работает дядя Ваня?
– В школе этим, этим…
– Военруком! – подсказываю бабушке, и она с облегчением подхватывает:
– Во, во! Им, им и робит!
– Так ты скажи, скажи!
Однако бабушка не повторяет слово военрук, а смеется. И я смеюсь, вспомнив, как шли мы с ягодами из Согры по соседней деревне Макарьевке и знакомая старушка задала Лукии Григорьевне этот же самый вопрос:
– Кем у тебя Ваньша-то робит?
– Да индуком в школе! – отозвалась бабушка.
Странное дело: старушка поняла ее и не переспросила…
Помню, в войну жила у бабушки на квартире воспитатель детдома Тамара, так бабушка ее звала не иначе как Самара.
Нет, не научить мне, видно, Лукию Григорьевну русскому языку!.. Читаю ей заковыристые слова, а она молчком слушает да носок вяжет.
– Бабушка, да ты повторяй их, заучивай! – прошу ее, а она только головой кивает.
– Не русские они, Васько, эти слова-то! – наконец говорит бабушка и серьезно смотрит мне в глаза.
– Как не русские?!
– А так. Раз я не могу выговорить правильно и ты сам по книжке читаешь. Ну, стало быть, и не русские.
– Какие тогда, по-твоему, русские?
– Какие? – бабушка быстро произносит несколько слов, я ищу, но в словаре их нету. Я-то их понимаю и знаю, да найти не могу.
– Бабушка! Какие же они русские, если в словаре русского языка их нет!
– А чьи же они тогда?
– Ну чьи, наши! – отвечаю я бабушке.
– А раз наши, стало быть, и русские! – твердо говорит она. – Если бы не русские, то разве бы ты их понимал?
И неожиданно:
– Васько! Паужнать время, сбегай-ко в завозню и принеси латку с варенцом. Да загляни под сарай, не каплет ли на травы на пятрах.
Я оставляю книгу на столе, вскакиваю с лавки и бегу к двери. Бабушкин заботливый голос настигает меня у порога:
– Набрось на плечи Ваньшин дождевик, да не выскакивай на улку нарастопашку!
– Нараспашку, – поправляю я бабушку, и она не обижается:
– Ну, ну, нараспашку! Думаешь, я и совсем худа на язык.
Пока доставал из погреба латку с варенцом, квашенным отварным молоком с поджаристыми пенками, пока заглянул под сарай на пятры, бабушка застелила на середе столешницу льняной скатертью, положила подовые витушки, поставила деревянную миску, а в ней каждому по узорной деревянной ложке.
– Ох, Васько, совсем я выжилась из ума! – всплескивает бабушка руками. – Забыла наказать, чтобы и лагунчик с квасом ты заодно захватил…
– Ничего, на той же ноге обернусь! – живо откликаюсь я и снова бегу в завозню. Мне нравится бабушкин ядреный квас на семидневном мелу, с листьями смородины и вишняга.
Потом поочередно мы умываемся из медного рукомойника, утираемся чистым рукотертом и садимся паужнать. Хлебаем варенец с витушками и ведем речь о том, куда пойдем с ней, когда перестанет матрусить дождь. Говорим и говорим с бабушкой, говорим понятными для себя словами. Я напрочь забываю, что в тетушкиной книге не отыщутся многие произносимые нами слова: бельник, елань, рёлки, копанец, ляжина, слизуны, глубяна, вишенье, пестереюха…
Когда после паужны вспоминаю о книжке в горнице, где столько трудных для бабушки слов, мне становится неловко за свою затею – учить ее правильному русскому языку. Она права: ну разве можно в одну, пусть и толстую книгу поместить все народные слова? Только что мы разговаривали с ней понятными нашими словами. А раз они наши – стало быть, они и русские.
Журавлиные корни
Тоскливо одному в избе, и пуще того есть охота. А заслонку у печи шевелить нечего: мама поставила отварить кринку простокваши на творог. И чугунка на шостке пустая, остатки «трахмального» киселя я насухо выскреб.
Чего делать, куда пойти промышлять? Вороны и сороки яички свои давно запарили, на картошище сушеную картошку собирать боязно, всходы проклюнули землю и зеленым дымом окутали пашню. Если по водополице прогонял нас оттуда хромой бригадир Сано Кочненок и отбирал ведра с мерзлой картошкой, то сейчас живо потащит в сельсовет на глаза какому-нибудь уполномоченному. Еще засудят и тяти с войны не дождуся…
Чего делать? Кольша с Нюркой в Пески ушли, дяде Василию дрова пилить. Поди, завтра и воротятся домой…
И тут с заулка в окно бабушка побрякала и поманила меня за ограду. Выскочил я на крылечко и махом через заплот перепрыгнул. Обрадовался. Бабушка чего-то скажет.
– Што закручинился, Васько? Айда-ко на угор за пропиталом, – притянула она меня к себе.
– За каким, баушка? Чо в лесу-то найдем? Кислетка не отросла, пиканов нету.
– А знаешь, што я надумала? Журавлиные корни испробовать на еду.
– Какие журавлиные корни?
– Дак я же показывала их тебе. Спомни-ко! Стебли-то тебе до пупа, с одной стороны листочки гребешком, такие сизоватые. А низом цветочки мелкие, бело-зеленые. Купеной правильно зовется. Ею, Васько, сколь людей лечила я. Ну ревматизму, грыжу, поясницу и ишшо кое-што. А теперя и на пишшу бы попробовать.
– Счас, счас, баушка! – кинулся я через заплот. В чулане забрал корзинку, закрыл сени изнутри на жердь-запорину и был готов идти с бабушкой хоть куда.
…Май обсушил и отогрел землю, из нее прощипнулась и резво пошла в рост всякая трава. Расправлял-разглаживал мягкие морщины на первых лопушинах репей, фиолетовые ростки крапивы притворялись нежалючими, а щепетки полыни сразу заявляли о себе горьковатым духом. На заулках и улицах уже не кололо босые ноги, подошвы ласкал загустевший конотоп – удивительно терпеливая и выносливая травка.
Спустились мы в подгору к речке и напротив Серафимьиного огорода бродком перешли на левый берег. Крутишка врезалась в тальниковые берега, но текла довольно хлестко, на изворотах и по намывам-запрудам сердито пошумливала, вертела-буравила свеженачатые в половодье ямины и омутки. Вода там была мутно-коричневой, выкруживала со дна ил и песок, отсевала к берегам галечки и зернинки песка. Сюда же попадали посудные черепки, извитые кральки раковин и бледно-синие лепешки съедобной глины – «каменного масла».
Покуда бабушка оттирала ноги – вода студеная, и на суше у нее заломило суставы, – я копнул живой ворох песка, выудил плоские лепешки и тут же сунул в рот.
– Лампасейками угощаешься? – заметила бабушка. – Поешь, поешь на здоровье.
Поискать бы чертовы пальцы. Из Степахиного ложка их каждую весну намывает. Да некогда сегодня, журавлиные корни копать да рыть надо.
…Пересекли луговину, пока зыбко-сырую, пробрели болотину с шубный лепень, где воды было уже тонко и она, теплая, загустела закисавшей зеленью. За розовой красноталиной выбрались на дорогу и поднялись по ней на угор. Дорога не углажена, не укатана, и комочки сохлой грязи больно потыкивали необвыкшие подошвы. А уж за лето кожа до того задубеет – боярка не страшна. Ступишь в траве на сухие ветки – и только иголки захрустят. Нет, не проколоть им тогда наши подошвы. А сейчас на шипику угоди – и то насадишь занозок. Потом после бани ковыряй их хомутной иголкой…
Но некогда оберегать ноги. Бабушка вон свернула с дороги под березы и осины, бумажно зашуршали пересохшие листья. Я побежал к ней и вспугнул из вишняга задремавшую пташку-овсянку. Она с перепугу шлепнула белую капельку на овчинный листок медунки. А когда села на сучок и осмелела, стала разглядывать нас с бабушкой.
Мы ползаем на коленках вокруг стеблей купены, разгребаем сопревшие рыхло-бурые листья и роем землю. И там не вглубь, а вдоль тянутся узловато-белые, с тонкими ворсинками журавлиные корни. А за что их журавлиными назвали? Ага, вот весь корень целым откопал, и так он похож на длинную ногу журавля. Надо у бабушки спросить…
– Што тут сказать, Васько! Верно ты угадал. А мне моя баушка говорила: журавли осенями в теплы края улетают, зиму переждать на чужбине. Земля родимая у них здесь. И чтоб воротиться весной, не заблудиться им, оставляют они корни дома. Как прилетают журавли, так и корни оживают. Стебель-то вишь какой! Навроде перо журавлиное с правой стороны, а низом цветочки. Опосля ягоды нальются темно-синие. И как закурлыкают на отлете журавли, осыпаются оне на землю.
…Корней в корзинках все больше и больше. На них малыми медвежатами налетают шмели, кружат и недовольно ворчат-дундят. А муравьи дружной артелкой берутся за корешок, кожилятся, хотят утащить его обратно в землю. Поди, непонятно им: зачем люди роют журавлиные корни?
– Отвозились мы с тобой, Васько, – смеется бабушка, когда снова перебродим речку. – Умоемся-ко…
Мы умываемся сами, ополаскиваем и корни. И потом торопимся домой.
Утром мама парит на вольном жару журавлиные корни. И когда они разбухают и выпирают из ведерного чугуна, мама подхватывает его ухватом и вытаскивает на шесток. Пробует: уварились ли?
– Мягкие, иди, Васька, чисти и толки в ступке.
Я спрыгиваю с полатей и аккуратно чищу корни. Они вязко-липучие и белые-белые. И что-то знакомое напоминают… Перед войной тятя привез нам из города две буханки белого хлеба. Ели его в потемках, а в памяти остался светлый мякиш буханок. Так то был хлеб, а тут корни.
Скоро ли, скоро ли испекутся лепешки?!. Их на два листа хватило. Брат с сестрой не шибко верили в съедобность лепешек, и мама закликала их, если они начинали подсмеиваться.
Попробовали пышные лепешки: вкусные и сытные. Ели и обжигались, запивали мелкими глотками холодного молока. А я радовался: нашли мы с бабушкой пищу, не замрем до ягод и груздей. Но скоро после застолья всех нас слихотило и стало рвать. Я ползал у саманухи, стонал и харкался. Мама отпаивала нас молоком и твердила:
– Испробовали и ладно. Живые и ладно. А корни-то жабрея вредней.
Полегчало мне, и я прямо огородами побежал к бабушке. Она, бледная и вялая, лежала на нижнем голбце, чего-то шептала мне. Я слазал в яму за молоком, стал отпаивать бабушку.
– Охо-хо, охо-хо… – постанывала она. – Ревматизму, грыжу и поясницу лечила я купеной-то, а от голоду не годна она, Васько. Ядовита она. Дак испробовать охота было…
– Ничо, ничо, баушка, скоро кобыляк отрастет, кислятка и пиканы вырастут. Не замрем, правда?
– Не замрем, Васько, – приподнялась на голбце бабушка и так хорошо улыбнулась мне глазами и всеми морщинами. – А знаешь, што я ишшо надумала испробовать, а? Токо смотри, никому не говори…
Милая, милая моя покойная бабушка, Лукия Григорьевна… Как вовремя пришла на ум мне твоя просьба, а то уж с языка вот-вот и сорвалось бы, чего мы еще пробовали с тобой, какое «лекарство» искали. И не от хвори. Как-то и не хворалось нам тогда. И нашли, не замерли…
А все же не забываются журавлиные корни. Вспоминаю, когда хожу лесами и вижу похожую чем-то на ландыши купену… И часто-часто моргаю, когда сентябрьское небо окликает меня журавлиными голосами. Они расстаются с родиной, а корни их остаются здесь. И мои корни тут же, где стала пухом бабушке родимая земля.
На Исети, у Ячменево
Облазили мы с сыном все потайные места, где за двое суток, бывало, никого не увидишь и не услышишь, кроме птиц и растелешенного полоскания рыб. Однако летний свинолагерь (ох и название ему кто-то дал – не постыдился!) намертво занавозил лопушистые омута речки Крутишки; суховейное лето, словно солощее коровье стадо, ополовинило кроткую речушку Ольховочку, и она виновато проглянула мшисто-зеленым дном и бурыми скелетами ольховых коряжин; родниковой Боровляночке «ужал губы» засолоневший песок.
Чего уж тут речки, если Максимовская и Замараевская старицы подняли свои берега, и лишь выскочки-чебачишки, высверкивая из ускользавшей от них воды, живили сонливое течение. И совестно выбрасывать их на сушу, и муторно снимать с крючка да споласкивать с рук жидкие блестки чешуек.
Вышли к реке Исети, куда скатывалась вода с отсыхающих рукавов – стариц и речек, но и она не утешила. Не задирая подолов юбок и платьев (хотя у девок нынче задирать-то нечего, ежели не в мужских брюках), ее бродком пересекали у Загайновского перевоза и старухи, и девки. А вдоль реки брел-восьмерил загулявший мужик, пускал по течению застрявшую в голове частушку:
– Моя матаня далеко,
А на Исети глыбоко,
Эх-да!..
Я разденуся-мырну
Да убегу на Одину.
Эх-да!..
Когда ему попадались горбатые проплешины песчаных отмелей, он старался чего-то сплясать, и так шлепал ладонями по мокрым штанам, будто бы вдали у села Ячменево бабы на плотиках колотили вальками замоченные половики. Мы не теряли из вида мужика-водомера: а вдруг он где-то на самом деле «мырнет» и найдет для нас ямину? И он бы все равно довел нас до глуби, но тут на повороте с косы цвета осеннего жнивья голые парни замахали мужику гитарой:
– Эй, дядька-мореход, причаливай свою ладью к нам!
Мужик нагнулся и хотел пропеть поглянувшуюся частушку, да уразумел, что его неспроста зовут парни, вытащил из кармана штанов свежий огурец и взбурлил илистое мелководье. Так и застрял он на косе, застрял, видать, надолго, коли вскоре настигла нас у Ячменевского переброда пустая склянка. Брошенная наугад, она не захлебнулась и теперь независимо-бойко подныривала внаклон, пошатывалась на воронках и рвалась дальше. Рвалась в сторону города, где и произвели ее на белый свет.
И ведь доплывет, черт ее подери, если не выловит бережливый сельский житель или рыболов, брезгливо и люто ненавидящий всякое захламление реки. А то и в сетях застрянет: ставят же их любители подводного улова, ставят ночью и ясным днем. Угрюмые «ночники» впотьмах и с реки украдутся, а «денники» лирикой прикроются. Девок насадят в лодки, опутают ямины капроном, и кружат Исетью, оглушая реку звериными воплями транзисторов и тиская подружек под нездешние визги…
Побережная дорожка вывернулась на изгибистый обрыв, где река закипала пенными кругами, как уха в мирском котле. Увидали мы с сыном, и присохли ноги к отгоревшей траве, руки самовольно потянулись к лямкам рюкзаков и оба выдохнули одновременно:
– Нашли!..
Мы сразу поняли: наткнулись на самую глубь, а стало быть на самое рыбное место. И только скатились под обрыв, как на середине ямины вывалился матерый язь. Трехколенные удилища не доставали, а прямо-таки рвали из брезентового чехла, впопыхах столкнули банку с червями и еле-еле ухватили ее от самой воды. Вот где забылась по крови унаследованная тятина привычка – рыбачить без чужого глаза.
Живо нацепили вертких, выморенных заранее навозных червей и закинули удочки. Сын под навислый подмытый таловый куст, а я ближе к берегу. Ну, можно закурить и оглядеться. Напротив за лугом тянулось бугром обредевшее село Ячменево – в тополях и черемухе, с шиферными крышами скотных дворов и приземистой, обезглавленной церковью. Лугом белели островки гусиных выводков; паслись телята и гнедая кобыла с резвым жеребенком; носились вперегонки ребятишки в сопровождении черно-кудлатой собачонки. На отложине правого берега щуками темнели перевернутые смоляные лодки. «Славное местечко», – спросил я взглядом сына, и он ответил довольной улыбкой.
Отдыхать нам не довелось. У сына поплавок резко пошел наперерез напористой стреже, а леску моей удочки кто-то отчаянно пробовал «на разрыв». И пошло-поехало… Под «эх», да «ух» завылетали из ямины широкие чебаки и увесистые ельцы, нетерпеливо подстерегали удочки солидные пескари, радужные окуни и желтобрюхие ерши. Недоступные глазу – бились на глубине за червяка самые ловкие, сильные и нахальные. Рыбины и в садке не скрывали характеры: если пескари сразу же глупо смирели и плотно ложились на дно, то чебаки метались и кровянели глазами, подъязки и ельцы настырно выискивали лазейку, а ерши-слизуны норовили исподтишка подколоть чистотелых одноречан. Только окуни не психовали и не унижали ни своего достоинства, ни тех, кто очутился вместе с ними в тесном садке.
Мы позабыли с сыном о привычке, о дорожке возле обрыва, размотанной конотоповым половиком еще с далекой старины между селами Замараево и Ячменево. О безлюдье нечего и думать: мостом-времянкой задробили колеса конной подводы, а ей навстречу газанул мотоциклист в красной каске. Он, конечно, не приметил нас, а мужчина на телеге перед обрывом тпрукнул лошади и неслышно свис головой:
– Как оно, берет или брезгует? – подмигнул он белесыми ресницами.
Я почуял в нем рыбака и доверчиво приподнял садок. Мужчина одобрил рыбу кивком серой фуражки и все так же вполголоса подсказал:
– Вы, ребята, по сумеркам посидите. Рыбка тогда похрушше загуляет подле берега. Днем она только дразнит на ямине, а свет уйдет – на жратву ее поманит. Ладно? А мне вон баба наказала осоку по ляжине выкосить, и опять же у скота ночевать.
Мужчина отвернул с дорожки на траву и без грома миновал нас под обрывом. Да, он не отвлек, не помешал. Наоборот, как-то даже веселее стало и приятнее: рыбак, а не любопытный пустомеля.
В азарт клева притормозил шофер молоковоза и тоже заглянул под обрыв: «Если этот рыбак, то обязательно позавидует и завздыхает, что не дают в колхозе два выходных дня», – почему-то подумалось мне.
Круглолицый парень пыхнул папиросой и негромко поздоровался. Прищурил карие глаза на выловленного окуня и молвил:
– Добрая тут ямина. Меня на нее пацаном батя таскал, до войны еще. Сегодня после дойки не удастся вырваться, кино интересное привезли и с Маней, женой, в клуб пойдем. А вам ежели охота с лодки порыбачить, то моя эвон лежит. Берите, мы не приковываем лодки, берите. На моей… – парень немного помолчал и вздохнул, – «Лаврентий» написано по бортам. Батю моего так звали. Ночевать надумаете – чего у огнища маяться. Росные ночи пошли. Приходите в Ячменево, у меня под окнами три тополины. Или спросите Сычева Семена. Ладно?
Молоковоз приглушенно прогудел в сторону села, и снова мы наедине с яминой, снова торопимся насаживать червей и охаем да ухаем на свой улов. Сын радуется клеву, а я еще одному знакомству с хорошим человеком…
– Да ты-то, Марея, должна помнить хромую Лизавету, – заворковала над обрывом старушка. – Помнишь? А ить она изувечилась из-за отца. Все праздновали, а Терентий Ульянович лошадей в жнейку и Лизу в поле с собой. Она: «Тятя, что ты забыл, што ли, – на Фролы да Лавры коней на воду, а не хлеба жать?» А он ей: «Нечо всяки басни плести. Рожь наспела, колды ишшо жнейки выпросишь у Миньки Короленка».
Дак ослушался Терентий дочери. Зачали оне косить рожь на Заручье, Лиза на вершине. Ниоткуда возьмись заяц, лошади испужались и кинулись полоской. Она ето упала и обрезала жнейкиной пилой ногу и руку повредила. Долгонько опосля лежала Лиза в Шадринске-то, в больнице.
Поправилась-таки, выходил ее дохтур Пашков. Ногу-то изладили ей резиновую, искусственную. Ульянович искупил вину швейной машинкой, отделил Лизу в пятистенник, у Петьши Анчугова купил. Тот на «кудельку» в Асбест-город подался. Ну дак и стала Лизавета белошвейкой. И то как бывает в жисти-то… Мы с сестрой Клавдей до невест с вершины не слезали, все лошадей подгоняли. И ничо не случилось. Да-а-а…
Ишшо знашь, что я те скажу про Лизавету, – убавила голос старушка. Она, конечно, не ведала о нашем присутствии, а я представил, как она оглянулась по сторонам. – Любил ее Евлен Иванович. С девок любил. Женили-то его на Анне из Русской Течи. Добром оне жили, а к Лизе до ерманской ходил.
Чево, не помнишь Евлена-то? Да ростом высок был, рыжеватый и лицом крупный. Приглядный мужик-то. Чо те Илья Муромец, чо те Бова Королевич! На ерманской его убило. А страсть веселяшшой бывал. Стих найдет – начнет боронить, что попало. А уж как они любили друг дружку!.. Как убило Евлена, и враз двое овдовело. Анна опосля замуж вышла, в дом Федьшу одноногого приняла. Помнишь, с гражданской на костылях воротился. А Лиза увяла…
Старушки обе горестно вздохнули и замолчали. Я догадался, что шли они из Замараево и присели передохнуть на ветлу, подваленную к земле тяжелой льдиной по веснополью. Заслушался их и совсем было прозевал поклевку. Елец взлетел выше обрывного среза и запутался в полыни. Не успел я его отцепить, как надо мной ласково пропела старушка:
– Ловцу – ловиться, а завидящему на берегу задавиться.
Запрокинул голову и встретился взглядом с добрыми светло-синими глазами бабушки. Моей родимой бабушки Лукии Григорьевны… Стукнулось, ушиблось сердце. Да откуда, откуда же ей быть-то? Вон уж Вовка мой, ее правнук, завтрашний солдат, перерос тогдашнего меня, когда сентябрьским утром в последний раз глянула она на белый свет, когда навечно приняла ее к себе юровская земля. И только в сердце и в памяти воскресает бабушка, не осталось за долгую жизнь от нее ни одной фотокарточки.
И проводить в последний путь я не смог. Не отпустил меня с уроков завуч Уксянской десятилетки: «Много найдется у вас всяких бабушек-дедушек, вам бы только в свои деревни бегать!» – сверкнул он очками и захлопнул дверь учительской перед носом оглушенного горем девятиклассника. А тут заверещал звонок и пришлось отсидеть химию.
С истории и еще с двух уроков я сбежал. За эмтээсовским поворотом на ходу заскочил в кузов грузовика и на полном газу спрыгнул с машины на песчаную твердь юровской улицы. Мне нельзя было постукать по кабине: вряд ли бы шофер стал слушать меня, скорей всего напинал бы, как случалось иногда с моими одноклассниками.
Грохнулся я посередь дороги и напрочь содрал кожу с ладоней. Да никакой боли не почувствовал, а сразу соскочил и побежал к бабушке. Я прибежал, а ее… не было. В доме сидели пасмурные старушки, сидели родные, и только не было моей бабушки. Не успел я проводить ее и уронить в боязную глубину могилы горстку той земли, которой столько обласкала и полила потом бабушка за свою жизнь, по которой столько исходили вместе наши ноги, которую научила она меня уважать и жалеть…
Эх вы, учитель истории… Всякие обиды и поклепы наносили мне люди по злу и без умысла – все отболело и ушло из памяти. Высохли слезы осиротевшего при живых родителях того парня, наросла на ладонях новая кожа, и сколько раз сходила она мозолями. Все прощает моя душа, кроме обиды за самого родного человека: за нее, за бабушку, не утихает боль… И не потому ли зацепилось в голове прозвище «аржаной сноп», данное вам безымянным школьником-острословом, не забывается ваш стеклянно-студеный взгляд…
– Спасибо, бабушка! – вырвалось у меня, а ее и след простыл. Над обрывом голубело высокое небо с белыми вспышками летящих чаек да сновали ласточки, как мальки на речной отмели. Но не показалось же мне, не почудилось… И голос старушки слышал, видел ее глаза и седую ковылинку у левого виска, ее лучистое лицо и зеленый кашемировый платок…
Не рыбу бы мне удить, а скорей на обрыв и догнать старушек. Настичь и идти рядом с ними, слушать их и помнить себя голопятым парнишкой, а не отцом взрослого сына. Помнить и верить в чудо – воскресение бабушки Лукии Григорьевны. Ведь сколько я не успел дослушать ее слов о жизни и травах – ста травах людского исцеления…
Верить еще и потому, что давно нет в помине того кладбища, где с годами усыхал и обрастал травой-муравой могильный холмик, уже без креста и полевых цветов. Там ежегодно оживают веснами зерна и тяжелеют осенью хлебные колосья. Ветер с Макарьевской поскотины клонит их к Юровке, отступившей за последние годы дальше Одины, за лог Шумиху и ручей…
Мне бы шагать рядом со старушками и узнать, есть ли у них внуки, и порадоваться за них. И я тогда отыскал бы внуков и рассказал им о бабушках.
– Папа, клюет же, клюет! – напоминает мне сын. Он весь в азарте, однако не скрывает досады на прохожих и проезжих по дорожке над обрывом. В сыне постоянно оживает дедовская привычка – укрываться на рыбалке, его в будни окружает городское многолюдье и лязг железа. У сына жива бабушка, моя мама, и чтобы увидеться, ему стоит купить билет на автобус и через полтора часа он будет с ней…
Ему нужно все-навсего семьдесять пять копеек.








