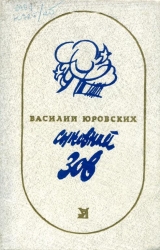
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Песенный дом
Ночевал ли он у себя дома – в дупле сырой, посеревшей от старости осины, – откуда я мог знать, коли забрел переночевать на сухую хребтину острова, когда залепестились по весеннему небу крупные звезды. Они ярко отсвечивали на разливе талой воды кругом суши, словно всюду было одно небо, кроме кусочка отогретой за день земли. И пока не заснул, мне чудилось, будто я куда-то плыву среди безбрежного вселенского простора.
Разбудил меня скорее не предрассветный холодок с воды, а чье-то зябкое, вполголоса: «Быр-р-р, быр-р-р». «Кто-то тоже в лесу спал и проснулся наперед меня, и теперь бодрится, греется да еще покрикивает», – подумал я и заозирался. Еще широко не рассвело, но и при слабом синем свете, что начинал разливаться с оттаявшего востока, никого на острове не оказалось. Меня окружала вымочка – посохшие редкие березы и осины без кустарникового подлеска, спокойно посветлевшая вода-снежница, а вглубь чернели полузатонувшие в болоте тальники.
– Быр-р-р! – воскликнул кто-то справа и, когда я запрокинул голову, увидел красноголового пестрого дятла. «Быр-р-р», – повторил он и скользнул осиной к темному пятну на стволе. Дятел стаял в нем, и я уже точно знал: тут, на месте отмокшего и иструхшего сучка, дятел пробился до красноватой мягкой сердцевины, выработал ее и изладил в живой осине надежное жилье.
– И я озяб, сосед, и мне свежо на утре, – сказал я дуплу, куда юркнул дятел, и занялся костром. А вскоре и забыл о соседе, слушая заблеявших и затекавших бекасов, дальнее побулькивание косачиного тока и задорный голосок большой синицы:
– Тут пою, тут пою, тут пою!..
Вспомнил про соседа случайно, как и в самом начале утра. В дупле затеялась возня, вырвалось наружу отчаянное верещание, потом из дыры с воплем выбросился скворец. И не искристо-черный да гладкий, а грустно-растрепанный и враз помельчавший. Он уселся на сушину и долго ворчал да выкрикивал чего-то своему обидчику. Попритих скворец, охорашивая перышки, когда подлетела к нему молчавшая до сих пор скворчиха. Она полопотала негромко ему что-то нежное, и тот лихо отряхнулся, весь заискрился, высвеченный проглянувшим сквозь лес солнцем.
Не обидчик, а хозяин трудно сработанного жилья, ловко вынырнул из дупла, повертелся на осине, покричал, видимо, свою подругу. Никто дятлу не отозвался, и никто не подлетел к осине. Опять полазил дятел вверх и вниз, недоверчиво покосился на умолкших скворцов и не вытерпел – порхнул с острова за разлив, где бело-розовым крутояром подымался спелый березняк.
И моргнуть я не успел, как скворец метнулся к дуплу, скользнул в дыру и не скоро высунул голову. Конечно, доволен дуплом, пусть только-только вытурил его оттуда дятел. Но раз оставил он жилье, успевай занимать, иначе останешься бездомным. Скворец длинно и мягко свистнул. Пока скворчиха перебирала лапками и готовилась спорхнуть с березовой сухостоины к осине – стало поздно. Возле дупла опять очутился дятел, гневно выкрикнул и смело ринулся в дыру. Снова внутри осины затрещало и заверещало, снова после недолгой возни дупло «выстрелило» растрепанного скворца. Будто бы и не приглаживал он давеча искристые перышки…
Не мне, человеку, вмешиваться в дела птичьи, а кого больше пожалеть – еще сложнее решить. Дятел для себя долбил нутро сырой осины, и лес ждет его будущих детей, ждет каждым деревом. Но и скворцы разве виноваты, если березу, где прошлой весной было у них свое дупло, порушил ветер и грохнулась она на край острова, разлетевшись на несколько трухлявых бревнышек. Одних пожалеешь – других обездолишь…
Дятел нервно покричал у дупла, помялся как бы в раздумье и не в березняк, а на ближнюю сухую березу слетел. Простукал ее вполдерева и полетели-посыпались щепки да труха на землю.
Время от времени он подавал голос, словно сам себя поторапливал. Чего же задумал дятел? Скворцы догадались раньше моего: они вдруг оживились, повеселели, и скворец обрадованно свистнул, а после затрепыхался всем телом и перышками – зашелся в пении. А дятел все глубже и глубже уходил в березу, становился все короче и короче. Вон и совсем один куцый хвост торчит, скоро и его не останется снаружи.
– Ай, молодец, парень! – растроганно похвалил я дятла, залил из котелка огнище и пересек разлив в узком месте. Надо было идти в леса, на песни птах и разморенно-затихающий тетеревиный ток.
…Когда снова забрел я на остров, то уже не застал дятла на березе. Высоко от земли в бересте желтело свежее дупло, в нем копошилась, выкидывая мусор, скворчиха, а ее скворец, трепыхая крылышками, выкатывал и выкатывал из искристого зоба песни родного леса. В нем одном сразу собрались десятки птиц, и каждая подавала свой голос – иволга и перепелка, кулики и коршун, селезень кряквы и тетерка, и всякая, всякая певчая мелочь…
Солнце скраснело за лесом и укатилось за край земли, а скворец пел у своего дома. Ни одного звука не принес он с собой из той стороны, где зимовал. Напрасно один мой знакомый как-то дожидался от них чужих песен. Он не услышал и огорчился, что скворцы глухи к заморским голосам.
– Ну как же так! – недоумевал знакомый. – Столько пролететь, столько жить до весны, столько всего услыхать и вернуться с тем же, с чем улетал.
– Квасной патриотизм! – отчаявшись, выругал он скворцов. – Домоседская глухота!
Знакомый не понимал упрямства скворцов и, раздраженный, перестал таскаться за мной…
Дятел не волновался больше за осиновое дупло, он раскатывал березняком свою песню и звал подругу. А мне слышалось уже не «быр-р-р», а многократное «дыр-р-р, дыр-р-р». Да разве обычные дырки продалбливал дятел? По соседству со своей осиной он «выстроил» еще один песенный дом.
Светлый день
Наутро по лесу с ночного заморозка, как в настуженной избе: дымно дышится и нежило-тихо. Онемелыми стволами туманятся березы, отчужденно-холодной зеленью выступают осины и щетинятся опушкой кусты боярки. Лес разобиделся на весну: согнала снега, поманила ростепелью и нате – снова стынь, снова сдерживай токанье сока, молодую дрожь тела.
Вон рассвет расплавил острые льдинки звезд и они скатились за увалы. Вон обтаяли мелкие тучки и меж ними растеклись извилисто-палевые ручьи. А лес молчит. Вот ягодкой костянкой закраснели капельки застывшего сока, вспотела береста на березах и обмокла кора осин, а лес не верит и не отзывается. Видать, не прощает апрелю-насмешнику колкие шутки-прибаутки. Не откликается лес…
И когда солнце во все глаза глянуло на обиженный лес, зелено-желтый пушок поднялся над пустошкой. Закружился вровень с березами и откровенно обрадовался:
– Светлый день, светлый день…
Присел пушок на вершинку стеснительной березки и оказался большой синицей. И такая она, егоза, счастливая – каждое перышко звенит. Пожмурилась птаха на солнце, перевела дух и опять затоковала над пустошинкой:
– Светлый день, теплый день. Светлый день, теплый день…
Синица правду пела, сердцем чуяла наступавший день. И он разгулялся светлым и теплым, приголубил каждое дерево, каждый кустик. Боярка обмякла и завишневела, а березы засмеялись крупно-сладкими каплями.
…В жизни и человеку бывает тяжко-тоскливо, свет темнеет в глазах. И тогда вспоминаю я тот звонкий пушок, и лес, обманутый апрелем, но снова поверивший весне.
Живая вода
Побулькивает ручеек в ложбинке, словно кто-то прополаскивает горлышко. Слушаю его, и кажется: пройдет самая малость – и он запоет. И солнце оперлось подбородком на пухлое облако – ждет. И зайчишка под таловым кустом уши навострил – тоже ждет: запоет ли?.. И я жду…
Ждал, ждал и задремал. Тогда и запел надо мной жаворонок. Кажется, переместился ручеек высоко в небо, чисто-чисто заструился и вернулся на землю песней… А земля слушала, нежилась и дышала. По-над пашнями стояло сине-сине. И березовые колки плыли, казалось, вдаль по морю-окияну горделивыми белыми лебедями…
Много ли надо для радости? Припал жаворонок к воде, освежил горлышко и запел. И все окрест высветилось. Потому, видно, и деревья, и цветы, и зверушки – братья наши меньшие – к земле припадают. И все они от ее материнской груди возносятся к солнцу.
Кум
Затяжелевшее солнце затонуло в располневшей от водополья Исети, там оно остыло, и окоем затянул багрово-парной морок. Он медленно угасал: сперва затемнели леса и кусты, потом сыро помутнели поля, и, наконец, все слилось. Блекнущий закат, откуда подлетали простуженно «шавкающие» селезни, кротко отпевали с вершин деревьев дрозды-дерябы. А когда затвердевшая дорога завела нас в сосны, их печальные свисты стали доноситься реже и реже, а скоро и совсем замерли в сумрачно-теплой тишине бора. По сторонам обманчивыми просветами возникали березы. Казалось, кто-то развесил на соснах отбеленные на зиму льняные рукотерты, они подвяли за день, и лишь с некоторых срывались на сухие листья тукающие капли.
Неспешно брели мы и намечали передохнуть на открытом бугорке, где дорога огибает опушку бора и скатывается в улицы деревни Максимовой. Шли и вспоминали с приятелем смешные истории, а мой сын удачно рассказал, как у них в цехе токарь Толик напивается вторую неделю на работе и заочно угрожает начальству:
– А ну, затроньте меня – не глядя махну к белым медведям. Хотя нет, я подожду, когда умрет теща. Продам тогда ее дом в Осеево и куплю машину.
Втроем мы захохотали над отчаянной мечтой незадачливого Толика, а дорога как раз вывела на бугорок. Наш перемноженный эхом ядреный смех поднял с гнезда ворону, она с бестолковым хлопаньем вылетела из хвойной черноты и сделала круг над пашней. Мы привалились к соснам и услыхали грустно-просящий зов:
– Кум, кум, кум…
– Сват, сват, – откликнулся я, и не успели мы снова засмеяться, как тут случилось непредвиденное. Ворона закаркала у гнезда и «кум»-невидимка явился: вечер всполошился истошным воплем вороны. Кто-то сгреб ее, стал душить, она билась-вырывалась, и все тише и тише молила о пощаде. Мы бросились на помощь, заорали: вверху зашумел кто-то огромный и сильный. И уже из бора слабо вякнула напоследок ворона, а тот, укарауливший ее, костисто пощелкал клювом. И всем нам стало морозно и не по себе за горькую судьбу полоротой вороны.
– Эх ты, серое горе! – вырвалось у меня, а приятель повел плечами и добавил:
– Эдакой страсти я и в тайге не слыхал…
– Докаркалась! – зло и растерянно сказал сын. – Докаркалась. Уж ей ли не знать, кто в лесу живет. Ночью-то хоть помолчала бы…
Похрустывая шишками и сучьями, мы вернулись на опушку к рюкзакам и удочкам, а в спины нам снова запричитала невозмутимая сова: «Кум, кум, кум…» Но у меня не было уже охоты отозваться насмешливым «сват, сват…» И без того накаркали на ворону кума-свата – ушастого татя-филина. Небось, довольнешенек потрошит он ее где-то.
Конечно «серое горе», как мы нарекли ворон, и сами охотницы до чужих яиц и цыплят. Я однажды видел, как на сжатом кукурузном поле стая ворон напала на зайчат-листопадников. Лопоухие сжались в серенькую кучку, и, может быть, сумела бы их отстоять зайчиха (ее, видно, тоже вытурил из кукурузы трактор с комбайном) – не знаю. Однако мы с трактористом Петькой Ильиных враз забыли о зеленой массе и убранных гектарах – не договариваясь, ринулись полем на выручку зайчат.
Да мало ли припомнится случаев. Вон у моего брата в селе Бараба серая ежедневно таскала из конюшни куриные яйца. И гнездо свила на тополе в соседском огороде. Повадилась и обнаглела: курица еще сидит и не снеслась, а ворона погуливает возле нее да изредка долбает хохлатку – торопит: дескать, не тяни, подавай скорее яичко. Сколько ни скрадывал ее брат, ничего не получилось. Пришлось ему из ружья расстрелять гнездо и только тогда избавился от настырной нахлебницы.
И все-таки не по себе, когда лишь за крик на беззащитную и одинокую ворону нападают из темноты, а в тело кривыми ножами впиваются когти филина. Тут не очищают совесть припоминаемые за вороной грешки. Может, именно сию минуту где-то на глухой и неосвещенной улице города неклейменые подонки грабят человека и слышится его зов о помощи. И сам-то он, возможно, не святой и когда-то ловчил в жизни, да о том ли думать людям, если они услыхали его крик, может быть, уже предсмертный?
– Откаркала… – глухо повторил сын, когда мы спешно оставили сухой и уютный бугорок. А бор молчал, как будто ничего не произошло. И расцвеченное небо невинно лучилось сеевом звезд, и слева до самой дали берега реки Исети весело озарялись электричеством.
Мы оставили бор, где до самого света сова будет монотонно звать кума, а утреннику не пошлет свой немудрящий, но такой бодрый и необходимый крик ворона. Уходили к лесной избушке у Старицы и молчали, и думалось не о ночлеге и ужине. Лучше бы не хохотать нам, а приберечь радость души на весеннее солнце.
Веселуга
Издали почувствовал: пусто и безголосно на релках, куда распустила река Исеть два живых рукава, а все равно повернул с моста к берегу бурливой проточины. Вспомнилось название здешним лугам – Веселуга. Поди, предки наши не рассыпали попусту слова налево и направо, знали, где они должны прорасти и оставить о себе память. Веселые, стало быть, луга были раньше, радостные…
Ждать чего-то особенного и на Веселуге пока рановато, коли совсем недавно дотлели серые снега и на ветках тальников чуть-чуть облупились из желтых чешуек-скорлупок ватные вербочки. Ну, разве где-то жаворонка отогрело, а дрозды и варакушки только во сне и видят родимые кустарники, во сне и ворохнутся у них сбереженные песни…
Далеко-далече сердечные…
Вздохнул я и тут же из побережных кустов услыхал чей-то голосок. Потянуло меня на него не столь сомнение, кто ему хозяин, сколько тоска зимняя. Иду, а птаха на вершинке талины замолчала и терпеливо дожидается человека: «Смотри да любуйся на здоровье…»
Пожалуй, о какой-то красоте и рассуждать неловко, даже воробьишки, если не зимовали они в печных трубах, и те поярче пером. Но расположила птичка своим простодушием, и стал я в ней искать остальные достоинства. И чем пристальней смотрел, тем больше нравился петушок камышовой овсянки. Ну почему бы и не назвать его нарядным? Голова, подбородок и горло до середины зоба – черные, от бурого клюва к затылку вокруг шеи – белая полоска, а плечи серые, перышки на крыльях с ржаво-бурыми каемочками…
Поеживается на ветру петушок, щурит темно-карие глаза и ждет, что о нем скажет человек.
– А и на самом деле хорош! – чистосердечно хвалю птаху, закуриваю и сажусь на обсохший берег Веселуги.
Петушок понимает, что молчать ему не резон, и начинает снова петь. Он даже и не поет, а как-то по слогам лепечет:
– Жив, жив, про-живем. Жив, жив, про-живем…
Перышки на голове взъерошились, он поворачивается грудкой к солнцу и не то ему, не то мне сознается:
– Здесь, здесь, здесь я. Здесь, здесь, здесь я…
Вот ведь и ни пером, ни голосом не побаловала природа петушка камышовой овсянки, но чем дольше слушаю его, тем больше он мне нравится. Что-то родное, крестьянское видится мне в простецкой внешности петушка, в доверчивости к людям. Не ошарашивает слух и глаза, а надо и ему заманить подругу сюда, на берег Веселуги. Чтобы заметила она его на талине и осталась с ним до осеннего отлета.
Нет еще с ним хозяйки, один на один с кустами и рекой радуется он и повторяет:
– Жив, жив, про-живем…
– Здесь, здесь, здесь я…
Да разве пролетит овсянка мимо Веселуги? Заметит она петушка, и станут они с ним под кустом свивать гнездо. Принесут и стебельки трав, и пустые колоски, и листья. Внутри аккуратно выстелют конским волосом, камышовым да ивовым пухом. Начнут они домить, а в тепле да в суше появятся пепельно-серые, с черно-бурыми крапинками яички. Прижмется к ним овсянка, а петушок потрепещет над кустами и выберет вершинку талины для песни. Усядется на нее и еще веселее защебечет:
– Здесь, здесь мы живем…
Ну и дай вам бог счастья…
А пока некуда нам с петушком торопиться, всему свое время. Оба мы сидим у Веселуги, глядим на мутно-холодную воду и сизо-зеленые ноздреватые льдины. Вдвоем нам и уютно, и весело.
Веснозапев
Было начало ручьетека, и в Согринку с увалов вприскок бежали самые разновеликие и разноликие ручьи. И каждый звенел и пел по-своему. Один сердито вспомнил, как вьюжила снежная пурга и ставила у колков сине-белые суметы. Другой мягко выпевал южный снежнолепень, у третьего в один голос слились звуки зимы и веснотала.
Под ручьистые голоса да перезвон теньковки услыхал я запев солнечноголосого зяблика. Как залетел сюда, в осинники по склону, – не пойму. Почему-то избегает он осину. Видно, не вызванивается-не переливается его песня в горькоствольных деревьях. Но то ли он самый ранний, а за ветрами здесь вызрел молодой сугрев, тут и завел зяблик свою первую песню.
Однако зачнет – всполошатся-взметнутся с боярки воробьи. Зашумят, закричат наперебой. Вроде бы нелюбо им, друг дружку и овсянку спрашивают: «Чем? Чем мы хуже?» А зяблик-голуба голова, красно-каштановая одежда со снежными полосками на крылышках – может, и пел-то для них. Но те своим тараторканьем засоряли песнь-посвящение.
Смущенный зяблик время от времени умолкал, словно ждал понимания серых зимовников. Зато овсянка с вызолоченной грудкой и головкой, будто кто-то овсяной мякиной потрусил на нее, не стала надеяться. Отлетела на другой край Согринки и с оттаявшей красноталинки затянула песенку-светлинку. И до того тонко-тонко – тревожно мне стало: вдруг не хватит у нее голоса?
…Неожиданно воробьи замолчали. Зяблик уже не пел: стушевался или за овсянкой последовал. Но во всех ручьях звенела песня. И под пасмурным небом, под дождиком-бусенцом они несли из Согринки в поля веснозапев зяблика. И никто не мог его остановить и заглушить.
Жулан
Важный жулан не разглядел меня под красноталиной и чинно уселся на боковую ветку. Он чучелом торчал надо мной и я мог как угодно рассматривать хищноклювую птицу. Со спины и головы перья жулана коричнево-зипунного цвета. На моей памяти в Юровке носили по праздникам такие зипуны только двое – дед Афанасий Сабанчик и бабушка Левишна.
Жулан чем-то и напомнил мне деда Афанасия. Тот был тоже строго-пронзительный и подолгу, не шевелясь, стоял за оградой дома или где-нибудь на улице. Не вертел головой, а все примечал кругом и к чему-то натужно прислушивался. И мы, «кошколда», как называла шутливо нас добрая Левишна, когда угощала всех леденцами, боялись старика. Да и само деревенское прозвище пугало чем-то непонятно острым и холодным. Под зипуном носил Афанасий, как и жулан, охрово-линялую рубаху, перехваченную красным гарусным пояском с кисточками.
Иногда соткнешься с ним в заулке один на один, оробело поздороваешься, и Афанасий куда-то выше тебя кинет резко-короткие слова. Сейчас-то я точно могу сравнивать его скрипучий голос с жуланом: «чек-то, чек-то…»
Сидит жулан и вроде бы презрительно не замечает меня. Не уснул ли он? Нет, большие глаза зорко пронизывают приречные кустарники, степянку слева и даже небо над красноталиной. А оттуда время от времени трепыхнется жаворонок, и тогда польется на загустевшие травы и желтые вспышки одуванчиков невидимая песенная струйка.
Смотрю и вижу, как уж больно строго слушает жаворонка крючконосый жулан. А если прерывается песенная струйка и жаворонок, слабо вскрикнув, сереньким комочком срывается на степянку, жулан мрачнеет и темнее становятся полоски на «щеках». Судить по нему, так жаворонок должен с утра до потемок трепыхаться и тешить жулана.
«Ишь ты, соловей-разбойник! – начинаю я закипать, на жулана. – Сам не горазд на песни, для обмана пташек малость почирикаешь с чужих голосов и попутно доверчивую долбанешь по голове. А знаешь ли ты о взлетах и падениях певцов, пернатый Афанасий Сабанчик?»
Последние слова я в сердцах невольно выкрикнул и сшумнул жулана. Он снялся с ветки и даже не глянул на меня, словно и нет никого под кустом – пустое место. И не успел я повернуться со спины на правый бок, как над степянкой снова потянул синюю песенную струйку передохнувший жаворонок.
Скворешни
Сидим на запревшем комле-коротыше, и не пойму я, куда привел меня сродный братан Иванко. Собрались мы с ним в Талы – сплошные березовые «бельники», где лишь низинами братаются непроглядно сплетенные тальники. Туда сманил я Иванка послушать весеннее утро, туда вел он меня в потемках уверенно и ловко. А теперь кажется – заблудились мы или пожалел он свои больные ноги и покружал для видимости возле Назаркова озерка…
Запинаясь за валежины, поспевал я следом за братаном и старался усвоить его надежную походку. По деревне идет он вяло и осторожно, как бы опасается споткнуться за что-то. А стоило ему в лесу очутиться – враз переменился. И напомнил мне Иванко лося. Случайно или кто шугнул его из Талов – оказался матерый сохач на сельской улице. Ступал бык конотоповым заулком неуверенно и все чего-то высматривал под острыми копытами. Но как миновал околицу – перешел на легкий мах. И словно в зеленую воду нырнул, когда поднялась перед ним тальниковая волна. Сомкнулись кусты и, вроде бы, не громадина-лось ушел, а сорока туда впорхнула.
Сидим с Иванком на комле, курим махорку и ждем, когда расплывется волгло-белесый пар и заиграет утренник солнечным роздыхом. Теперь, будь мы в Талах, а не тут, на здешней лохматой пустошине, разбежались бы по спине мураши от вопля филина. И хотя не блажит он весной, а всему лесу признается «Лю-ю-блю, лю-ю-блю» – все равно жутко от старания «лешего» заворковать сизым голубем.
На густом брезгу начали бы пытать друг дружку дрозды. Ей богу, как русские мужики дурашливо свистят они, чтобы не разгадали ненароком бабы их уговор:
– Чо ужо и собрался, чо ужо уходить собрался?
– Зайди, зайди, зайди – погуляем…
– А чо и уйду, а что и уйду…
– Ишшо попей, ишшо попей…
– И попью, и попью, – соглашается задачливый сосед. И тогда дрозды-«мужики» в один голос посвистывают:
– Ишшо попьем-погуляем, попьем-погуляем…
Бывало, рядом с привалом наши хваленые остроглазы-совы всю ночь напролет искали-спрашивали себя: «Ку-ум», «кума», «ку-ум», «кума».
Постой, чего же не слыхать их нынче, если мы и вправду пришли в Талы? И почему Иванко «смолит» цигарку за цигаркой. Нет, не спрошу, пусть сам сознается: куда привел меня? А он не торопится. Разглядеть можно, как сдвинул-ощетинил брови, как сам чует мое настроение.
– Што, угадал перемену в Талах-то?
Не ослышался, сродный братан вполголоса молвил. Из нутра выдохнул табачную горечь и добавил:
– Развиднеется, ятно станет, дак и сам углядишь – пошто осерчали птицы…
Молчим снова с братаном, а меж тем туман вынюхал низины и упрятался по тальникам. Медово-спелые вербочки мягко засветились и оказались совсем близко. И тогда выступила широкая вырубка, на ней смятые черемшины и боярка, кочерыги-пни и кучи чащи, опутанные травой-старичником.
Талы… Те самые Талы и признал, но только где тут птицам жить, с чего им здесь веселиться? И не успел додумать свое, как опять голос братана:
– Погляди-ко, до чо навострился наш лесник Паша? Тоскливо стало в Талах, пусто. Ну он и давай ладить скворешни. Ишь, сколь понавешал их на жердинник-то…
Тут и приметил я скворешни, будто впрямь поднялась к рассвету лесная деревня. И старые, и новые скворешни. И до нелепости их много, даже двухэтажные, с сенками и узорными крылечками. Крепко постарался лесник для заманки сюда отпугнутых птах. Нет природного крова – любую квартиру выбирай и живи на здоровье.
Я было уж и похвалить собрался птичьего радетеля, однако опередил меня Иванко:
– Вишь, нужды в фатерах-то нет. Да только где они, фатеранты? Чо-то воробышки и те не больно обзарились на Пашины избы…
И точно ведь, не заметно и не слышно птах. Вроде бы, где дятлу-плотнику тягаться со своими тесными дуплами, но почему не соблазнили дармовые хоромы-просторины птах лесных? И воробьям куда как веселее обжить скворешни, чем селиться по низу грязных гнезд коршунов и ястребов…
Где-то высоко проблеял-пролетел отставшим ягненком бекас, а за ближним Гусиным болотом на еланке задумчиво забормотал косач. Я «ответил» ему, и он встрепенулся, живо зауркал-зачуфыркал.
– Не дразни-ко парня, – очнулся Иванко. – Поди и так ему лихо одному-то…
Не обиделся я на братана: на самом деле, чего травить петуха обманом. Может, отзовется ему настоящий «парень» и подлетит тетеря – курица-ряба, и начнут они тогда тузить друг друга, завлекать удалью девицу лесную…
А Иванко вздыхает, гасит окурок о запревший комель и понятно мне – о чем думает. Лес вырублен. Тот лес, что обживался птицами испокон веку. Одни летовали и зимовали здесь, другие весной пролетели полмира ради него. И не было им ничего милее на свете родимых бельников и тальниковых низин…
«Жить-жить-жи-и-ви-и-и-», – дозвенелась до нас распевно овсянка с коромысловатой березы на отшибе. И мы разом поднялись с комля, подались навстречу простецкой, но такой ласково-материнской песенке.







