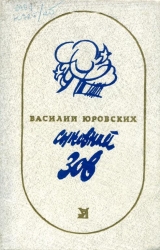
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Натаха и Анна
В тот день сестра Нюрка и брат Кольша пасли коров, а меня оставили домовничать, поливать огурцы и полоть на второй ряд огородную мелочь – морковь, свеклу и лук. С урочной работой я поправился до обеда и засел срисовывать на маленькие листки серой бумаги зверей из толстенной книги Брэма «Жизнь животных». Ее мне вместе с похвальной грамотой за окончание второго класса подарила любимая учительница Клавдия Никитична Рязанова.
Книгу я мог читать и разглядывать в любое время, даже на голодное брюхо. Она помогала забывать о еде, если не совсем, то все равно выти хватало до вечера. А когда пристрастился срисовывать картинки, то и вовсе не расставался с Брэмом, иной раз на игру в пряталки не удавалось ребятам выманить меня из избы. Над ней и сидел я, когда прибежал Иванко – сродный братишка из маминого села Пески.
Он тоже сунулся за стол и терпеливо смотрел, как на четвертушке листка получается толстомордый и добродушный бегемот, а сам о чем-то шевелил губами.
– Счас, Иванко, погоди маленько и мы поедим чего-нибудь, – приговаривал я и примерялся, чтобы уместить жирную тушу. Голова-то вышла, да больно много заняла места, не рассчитал как следует – вон какое пузо у бегемота!
– Ну и харя, ну и харя! – не вытерпел братишка. – У нас в Песках ни одна свинья не потягается с етим бегемотом. Мяса не переесть всем колхозом!
– Ага! Житуха неграм. Добудут одного бегемота и без хлеба сыты. А ну его, Иванко! Раз негры жрут бегемотово мясо, пущай они и рисуют! Давай лучше паужнать. Поди, дома и поесть не успел, сразу с полатей и к нам?
– Не, – признался братишка. – Тятя с поля не пришел, не шибко одной-то левой рукой набруснишь кобыляк. А мама не отстряпалась, его ждет.
– Зато у нас сегодня три листа лепешек, на четвертом с черемуховой наливкой. Шаньги! Во как с молоком натолкемся!
Мы выскакиваем под сарай, и я спускаюсь в репную яму. Ступаю на твердый глинистый пол и босые ноги начинает покалывать холод: в маленький сусек на каждое лето мы запасаем крупнозернистый мартовский снег, и поверх него на осоке караси неделями шевелятся, а молоко остудится – зубы с первого глотка ломит! Подаю Иванку крынку, и он еле удерживает ее за враз отпотевшие бока. А я закрываю устье ямы тяжелой крышкой, потом беру крынку и осторожно несу ее в избу. С холодным молоком и уплетаем жестко-зеленые шаньги, железный лист незаметно пустеет, и братишка пугается:
– Васька! Хватит есть, а то не останется тетке Варваре и Нюрке с Кольшей.
– И правда! Тогда за простые лепешки возьмемся, а ты съешь еще шаньгу. Ладно?
– Не стану один, – упрямится Иванко и разламывает пополам скрипучую шаньгу. – Хлебного бы поесть, да где он, хлеб-то, у всех только кобыляк…
Я убираю со стола крынку и кружки, про себя жалею братишку. Мне до войны пришлось поесть хлеб и всякую мамину стряпню. А когда в деревне Бараба жили, то сосед Степан Рычков наотрез отказался получать пшеницу за трудодни. И долго ругал мужиков, что самовольно выгрузили из колхозной полуторки зерно прямо на ограду. Этакий ворох пшеницы и не приснится Иванку! И где ему помнить хлеб, коли родился-то за два года перед войной. Работники у них в семье не ахти какие: дядя Василий – инвалид с гражданской, тетка Афанасья постоянно хворает, старший брат Коля – на фронте. Одна сестра Нюра и пашет на тракторе, но и сама возле железа нелишка хлебного видит. Если бы Иванко к пайку прибежал, тогда бы я его и угостил не кобыляшными лепешками…
– Иванко! – вспомнил я о своей задумке. – Знаешь, где хлебное есть и никто не заругается?
– Где-ка?
– Где, где! Знаю и все! Не бойся, не у казенных амбаров. Там новый голубинщик Иван Федорович до единой щелки заколотил полы в амбарах, ни зернышка не провалится. А мы с тобой под клубом пошаримся.
– Айда! – соскочил с лавки братишка.
Я прихватил холщовые школьные сумки – свою и Кольшину, и мы с Иванком побежали в клуб напрямик через наш огород и пожарский загон. Перемахнули дважды прясло, пересекли приклубную площадь – и вот мы с ним в клубе. Ой и давно же перестал он быть местом веселья! С зимы сорок второго до прошлого лета жили здесь детдомовцы из далекого города Лебедяни. А как увезли детдом, клуб передали глубинке под зерно.
Иванко тоскливо глянул на чисто подметенный пол в зале и загоревал. Хлебным здесь и не пахло. Все двери раскрыты, и от жары сюда набились хозяйские телята. В дальнем углу лежала пестрая корова Вани Пестова – видать, сбежала опять из пастушни, не укараулили ее Нюрка с Кольшей. Ладно хоть в клубе она и не заберут в потраву.
– Пошли! – позвал я братишку в комнату, где до войны находилась библиотека. Оттуда мы попали в гримировочную, а к ней примыкала сцена. Несколько досок сбоку сцены детдомовцы оторвали и пожгли в печках, и можно свободно пролезть через дыру из-под сцены в подпол зала.
– Думаешь, чо-то и найдем? – засомневался Иванко, продираясь следом за мной. – Эвон какая темень.
– А то как! Ты приглядись хорошенько. Видишь, где щели светятся? Все одно зерно попало, вику с овсом засыпали на зиму.
Иванко нырнул под балку и поравнялся со мной, отдышался и предложил:
– Давай, Васька, я поползу вдоль этой щели, а ты по той, которая рядом. А то располземся друг от друга и заблудимся. Страшно как-то…
– Только ты не торопись, обвыкай глазами, а руками щупай землю. Должно, должно быть зерно!
Я первым наткнулся на хлебную дорожку вдоль щели, но промолчал, сгребая вику вперемежку с овсом в школьную сумку. Пусть Иванко сам найдет и обрадуется. Он и правда нащупал зерно и больно стукнулся головой о половицу – пробовал вскочить на ноги, забыл, где мы находимся.
– Зерно, зерно! – взвыл братишка.
– Тишш-ше! – остерег я Иванка. – Чего разорался! Мало ли кто может услыхать. Полезут тогда все, а зерна-то, небось, нелишку набежало в щели.
– Ладно, молчу, – подчинился он и, поднимая брюхами пыль, мы без единого звука проползли через весь зал. Уткнулись в восточную стену и стали прокашливаться. Пыли еще довоенной нахватали в легкие, однако сумки заметно располнели. Ради хлеба стоило и не это снести, а тут ведь не в поле, а дома промышляем.
Спервоначала темно казалось, а теперь не хуже кошек видели, и свет в щели не даст сбиться. И лишь приготовились ползти обратно к сцене, как кто-то затопал на улице подле самую стену. Шли двое и негромко разговаривали.
– Зайдем в клуб, Наташа? – донеслось до нас. – Вспомним, как учились здесь, пока школу ремонтировали после пожара. Напоследок посидим, как бывало в кино или на постановке.
По голосу я догадался, кто завернул в клуб: тракторист Яша Мальгин и его подружка Натаха Грачева. Дома говорили, что Яшу берут на фронт, сам напросился добровольцем. Вот они и гуляют с Натахой по Юровке последний день. Опять одним хорошим парнем будет у нас меньше… А уж Яша-то славный и добрый, не чета другим парням. Многие всяко норовят потешиться над нашим братом, запросто нас обижают. А Яша и сам не тронет никого из ребятишек и заступится, если при нем начинают изгаляться над кем-то. Тяжело станет без Яши его матери Аграфене и братишке Вовке, моему одногодку. Тяжело… Отец у них погиб в первый же год войны…
Мы затаились с Иванком, неловко было мешать Яше и Натахе. Слышно, как они походили по клубу, смеялись, вспоминая школьные годы и своих одноклассников. Вернулись они как раз к нашей стене, встали почти над нами. Пошептались о чем-то и Яша начал упрашивать Натаху:
– А ты, Наташа, станешь меня ждать?
– Буду, Яша, буду! Кого и ждать мне, как не тебя.
– А любишь?
– Чудышко ты мое! То ли не люблю… Не ходила бы с тобой средь белого дня, не ревела бы и не сохла по тебе… Чего тут спрашивать-то…
– Если любишь, так пошли в сельсовет и распишемся. Сейчас, а? Сельсовет и всего-то через дорогу. И председатель там, и секретарь на месте. Пойдем, Наташа? Всего-навсего перейти дорогу! Никто не осудит, все давно знают, что ты моя невеста. Со школы нас с тобой дразнили женихом и невестой.
– Яшенька, тебе же на войну идти. Сам идешь, никто не неволит. Вон другие болезни на себя напускают, «бронь» добиваются, а ты… сам. Я же не осуждаю тебя, я и в невестах дождусь!
– Дождешься? – не то переспрашивал, не то не верил Яша ее словам, и мне стало не по себе. Совестно, что подслушиваем тайну, пусть и не нарочно. Как бы не помешать Яше и Натахе? И вдруг Иванко чихнул, над нами испуганно вскрикнула Натаха:
– Яш, тут кто-то есть?
– Брось, Наташа! Блазнит тебе, никого нету, даже мыши не водятся под полом. Им в войну нечего делать возле людей, мыши в поле живут, возле хлеба.
– Нет, кто-то есть! – заладила Натаха. – Выйдем отсюда.
– Куда? В сельсовет?
– На Одину или в подгору, – настаивала Натаха, и Яша уступил.
– Пошли, раз ты боишься сельсовета. Он, поди, не страшнее войны.
Стихли шаги и голоса Яши с Натахой, и мы снова остались с Иванком вдвоем на весь клуб.
– Ну, мышь, поползли! – скомандовал я братишке.
Иванко замешкался, подвинулся ко мне и зашептал:
– Васька! Врет Натаха своему парню, врет! Не дождется она его. Сестра как-то поминала, что хромой Сано Горшок высватал в Юровке какую-то Наташку. Ее, наверно, а?
– Да ну?! Ежели Натахой зовут, то ее. Нет у нас взрослых девок, кроме Грачевой. Вот какая бесстыжая, Натаха-то! – не выдержал я и громко заругался.
– Тише, Васька! – оборвал меня Иванко.
Дважды относили с братишкой полные сумки домой, высыпали в чулан на тряпицу затхлое, побелевшее от плесени зерно. На третий заход насобирали понемногу: щели ближе к боковым стенам оказались узкими, а местами и вовсе не просвечивало. Находили полуистлевшие бумажки и довоенные билеты в кино, окурки и пуговицы. Под дырой у круглой печки попал мне в руки треугольник из школьной тетрадки.
– Письмо, Иванко, нашел! Как вылезем – почитаю тебе! – крикнул Иванку во весь голос. Скрываться больше нечего, все обшарено под полом.
На полянке у черемухи в нашем огороде и распечатал я треугольник. На нем еле разобрал карандашные буквы «Маркову Степану». А чье? Кому? Ясно, что детдомовское письмо, Марковых в Юровке сроду не бывало.
«– Родненький папа! – зачитал я и братишка навострил уши. – Мама бросила меня и уехала куда-то с чужим дяденькой. А я живу сейчас в детдоме далеко в Сибири. Победи скорее Гитлера и приезжай за мной. И не станут меня больше звать сиротой. Папа, родненький, жду тебя! Твоя дочь Тамара Степановна».
У нас с Иванком навернулись слезы на глазах от жалости к Тамаре. Откуда ее знать братишке, а я вспомнил худую длинноногую Тамарку Маркову. Училась она с моей сестрой вместе в шестом классе и не раз бывала в нашей избе. Не отослала почему-то письмо отцу, и как оно попало в подпол – откуда знать. Да и все равно детдом увезли далеко от нас…
– Мать у нее тоже, как Натаха, – разозлился Иванко. – Ей ли бы не ждать Тамаркиного отца!
Нам захотелось кому-нибудь рассказать и про Натахули одну долю бабушке, к ней побежали с Иванком, понесли и свои н, и про письмо. Вику с овсом промыли в ведре и рассыпали на потолке сеней. Отделиовости.
– Баешь, Иванко, што просватали Натаху? И Яша не знает? Ох и хитра да лукава порода у нее! – всплеснула руками бабушка Лукия Григорьевна. – А у Сана Горшка в роду вечно воруют, потому и живут в сытости, как сыр в масле катаются. Натахина родня и соблазнилась. Променяла такого парня! Хвати, так ишшо и завоет завтра, как поедет Яша в военкомат. И не стыдно ее шарам-то!
– Бабушка! А если сказать Яше? – осмелел я.
– Нет, нет, Васько! Нельзя парню идти на войну с изменой в груди, нельзя! – запротестовала бабушка. – Он опосля и узнает, то легше ему снести горе. А Тамарке сиротой лучше остаться, чем жить с такой-то матерью, прости меня господь…
– Все они, бабы, такие! – по-взрослому повторил чьи-то слова братишка.
– Ой и не болтай-ко, дитятко! – усмехнулась бабушка. – Не привыкай слушать злые языки. Эвон по Юровке сколь честных женщин и девок! А матери да сестры ваши? Или взять Анну Попову. Молодехонька овдовела, чуть не со свадьбы отняла война у нее мужика, и детей нету, а ждет своего Николая и после похоронной… Красавица, загляденье! Кто ее только не сватал – всем отказ. Всех женихов отвадила, не одному нахальному мужику по роже досталось от Анны. И ты, Иванко, туда же: все такие, как Натаха и эта, которая Тамарку родила…
Меня растревожили бабушкины слова про Анну Попову – продавщицу нашего сельмага. И делать нечего без денег в магазине, а я часто торчал у прилавка или возле часовни, куда перед войной перевезли сельмаг из деревянного дома в краю Озерки. Смотрел на Анну и пытался понять – за что ее расхваливает бабушка? Дома вместо зверей из Брэма стал рисовать Анну. Не выходила у меня похожей, не умел я рисовать живых людей. И шибко обрадовался сходству Анны с бабушкиной иконой. Срисовал – получилось лицо, такое же, как на иконе.
– А ты, Васько, не расстраивайся! – утешила бабушка. – На святую, говоришь, нашибает Анна? Она и есть святая, божьей матери святее. Запомни, внучек.
Железный звон
Шесть кисейных чисто белых платочков, куда белее снега, помахали мне напоследок и растаяли на незнакомом зимнике. За увалом в той стороне густо синели верхушки берез, там угадывались чужие, неприветливые леса.
Мне стало все равно, куда упрыгали козлы. Свою ошибку я скорее учуял, чем понял, когда из последних силенок одолел убродные снега и случайно выскочил на узкую санную дорожку. Только вздохнул да глянул налево, как сразу же пристыл к лыжам. За пустошью на кромке березняка стояли те самые козлы. Они невидимками оставались для нас весь день и вот оказались на верный убойный выстрел. Здоровенный козел смотрел на колючую черноту тальников Межевого болота, сторожко вострил туда большие светло-серые уши. А козлушки и молодые козлята, совсем как домашние овечки, скусывали навись березовых веток.
«А тятя-то ждет в засаде, тятя-то надеется»… – кольнула меня скорая догадка, и я отчаянно рванулся санным следом. Но мои березовые самодельные лыжонки раскатились, какой-то жар перехватил дыхание и едкий пот залил глаза, остатные силы покинули тощее голодное тело, шлепнулся я на дорогу и вспугнул золотисто-спелый табун козлов. Легко и пружинисто, словно по воздуху, перемахнули они пустошь и еще ближе от меня выпрыгнули на дорожку. Боднул башкой морозный воздух дородный козел, весело и удало полетел зимником. А за ним дружно поскакали и остальные. И каждый, будто не зад вскидывал в прыжке, а помахивал платочком…
Слезы, горючие слезы выгнали из глаз пот, и забился шестиклассник Васька на дороге, как припадочный сосед Иван Федорович. И голосил я громко, тянул с причитаниями, хотя сам-то свой рев и не слыхал. Да ведь было, было отчего и выть мне…
Вторая послевоенная зима выпала нам сплошными несчастьями. Подохла суягная овца Маська, захворала кормилица – корова Манька, нещадная гниль губила картошку в яме и голбце.
Брат Кольша уехал в железнодорожное училище, пайку всамделишного хлеба съедал в день. А на нас в деревне неотвратимо надвигался голод. И почти ничем не мог отвести его наш тятька. С войны пришел он дважды контуженный, еле-еле с тросткой передвигался.
Осенью тятя постреливал уток, и не напрасно я ночи напролет катал на сковородах ему дробь для зарядов. А тут рано зальдели болота, рано снега заглубели, и птица ушла в теплые сытые страны. Я пошел в школу, а отцу не с кем было промышлять зверя.
Голод… Страшное слово холодило нас пуще стужи. Картошку чистили все реже, а чаще обсачивали на терке – крахмал для тюри добывали. И потому пальцы и ладони у меня напрочь издирались свирепой теркой. Рваные порезы не заживали, их с каждым днем добавлялось и добавлялось. И сок в блюде, куда сочил картошку, всегда кровянел. Иногда я не понимал: чего больше в нем – кожи с моих рук или насоченной картошки.
Давным-давно привык я к школьному прозвищу «Вася Маленький» и уже не ревел от обиды, если кто пробовал меня дразнить. Да и все мы, шестиклассники, были такие же замухрышки, как и три года назад. И руки не стыдились поднимать на уроках. У наших учителей их тоже пятнали зубасто-горбатые терки производства Федора Шихаленка. Даже его новые изделия – терки наподобие мясорубки – не отличались безопасностью. Чуть зевни – и запросто отхватишь палец или сдерешь кусок кожи.
Голод… И мы с отцом вечерами на полатях все чаще судили про охоту на козлов. В них видели избавленье и свою надежду перезимовать, перенести хворь Маньки, дождаться, когда отелится она и вместе с теленком в избу солнышком заглянет запеканка из молока первых удоев.
– Скоро ли, Васька, каникулы-то у тебя? – кряхтел утрами отец и отворачивался, скрывал от меня, как донимают его не такие уж и старые раны.
– Скоро, тятя, скоро, всего-то три раза и сбегаю в школу! – обрадовал я его однажды и с какой-то живостью натянул красные ботинки. Их еще в войну выменяла мама на картошку, их носили по очереди сестра Нюрка и брат Кольша. А теперь они достались мне. Чеботарь Вася Кудряш за мешок картошки починил ботинки, и стали они не красными, а черно-рыжими.
– И то не босиком. А там я пимешки тебе подошью, – успокоился отец.
Сыспотиха он подшил и обсоюзил, как мог, пимешки – аккурат к началу зимних каникул. И в первое же январское утро мы потопали с тятей в поле. Мама накормила нас чищенной картошкой, напекла перед печью калабашек из соченой.
Чуть брезжило, когда в Трохалевом болоте нашли мы свежие козлиные выгребки. Они не успели как следует выстудиться, обтаяли по краям и казались большими глазами с прилипшими к снегу серыми шерстинками. Тятя враз смолодел с лица и впервые загорячился.
– Козлы… – выдохнул он вместе с паром и начал мне шепотом пояснять, куда пойдет он в засаду и куда гнать козлов.
Но ежели повезло нам ловко натакаться на лежки козлов, то потом никак не удавалось перехватить табун. Козлы шли махом, вилась-петляла ямистая тропа лесами да болотными трущобами. Далеко позади остались глухие гряды Отищева, три степи, Окаянное и Чуркино болота, а мы торили и торили лыжню за козлами-блазнями. Кое-как изгрызли калабашки у подтопка в лесной избушке, чуть передохнули и опять загоны да засады начались.
К вечеру табун свернул в Межевое болото. «Туто-ка оне, Васька, остановятся. Ты подале окружи Межевое и с пустошки кустами при. Они обратно следом должны пойти» – шелестел мне на ухо отец.
Тятька все верно угадал. Однако ни разу не бывал я в здешних лесах, сбился самую малость и сшумнул козлов из тальника. А когда хотел исправить оплошность, обрадовался дорожке и нечаянно увидел табун, опять сдурел. Надо бы ползком в лес спятиться, окружить подале, и тогда грохнули бы в сумерках такие долгожданно-спасительные выстрелы. Выстрелы по нашему голоду, по нашей беде беспросветной.
Как бы ожили мы тогда… Мама всплакнула бы слезами радости и не на божницу, а на нас с тятей перекрестилась бы… Не надо бы тогда сестре Нюрке бросать свое педучилище, а бабушка слезла бы с холодеющей печи, растопила ее и ласково молвила:
– Отдумала я, Васько, помирать-то. Дождуся Ваньшу, поди, отпущат его домой со службы.
Села бы бабушка на середе подле огня, достала бы карточку дяди Вани. А снят он на ней круглолицым офицером с двумя орденами-звездами и медалью. Самый любимый младший сынок ее, заскребыш. И печь гудела бы березовыми дровами, а старая седая кошка Катька кружилась и кружилась бы возле бабушкиных пимов, терлась бы о них ребристыми боками и все мурлыкала, мурлыкала: «Дож-жи-вем, дож-жи-жи-вем…»
Засерели снега, вроде бы уползли они в леса скоротать ночь, когда услыхал я над собой голос отца. Горяч бывал он на охоте, если загонщик плоховал, однако не изругал даже меня:
– Ставай, Васька, полно реветь-то. Што сделаешь, не наше счастье. Ушли козлы, далеко ушли. Домой нам ворочаться надо. К ночи дело-то, и погода схмурилась – снег того и гляди повалит. А мы эвон куда убрались – верст десяток прямиком-то, не меньше.
Откатил от горла удушливый комок, и страх отошел, но подняться не мог. Свело на морозе ноги судорогой. Опять же простуда откликнулась. Даром ли босиком всю войну по водополице зорили вороньи да сорочьи гнезда. Ну, тогда, хоть снег и лед попадал, все же грелись на бегу. А вот мороженую картошку прямо из воды доставали – до бесчувствия деревенели ноги. Стоишь по колено в сплошной ледяной воде и ковыряешь гнезда. Земля-то еще ладом и не отошла, но как ждать, если есть нечего. Ногти обдерешь, а все же расколупаешь гнездо и достанешь распухшие картошины. И тут же помельче ополоснешь, легко спустишь кожуру и яично-уппугую ее скорее в рот. Попадет иная до того першучая – все лицо изведет и кишки, кажется, вывернет, однако терпишь.
Разве бывали у гусей такие лапы, какие ноги у нас? Не просто багрово-синие, а в трещинах-цыпках, в чирьях… А ломь какая нудно-сосущая шла от них до мозга, когда начинали они оживать-согреваться… Только одним себя и тешили: ведерко полным-полно, значит, будут лепешки, будут вначале резеньки, а то и целые картошины печься по всей железной печке. Дух от них разойдется по избе. Живой дух… Он загонит голод в пустой голбец, вытурит его через трубу и в боровке не даст залежаться…
Поднял меня отец на ноги, сдавил пальцами тугие судорож-клубки выше коленок.
– Давай разминайся потихоньку. Мешкать-то нам нельзя, Васька.
…Брели мы с ним незнакомой дорожкой. К ней то подступали колки и болотины, то открывались снежные увалы. Вдруг за мелким березнячком зачернели редкие избенки.
– Выселка Уралка, – обернулся тятя. – Изопьем водички хоть.
Только попить нам не пришлось. Обошли все избы подряд, но ни в одной не оказалось людей. И хоть нигде не висели на пробоях замки, отец не стал заходить в пустые избы.
– Неладно чо-то, неладно, – бормотал он. – Ладно, близко по дороге ишшо выселка, там к Ондрюше Семочкину заглянем.
Снова плелись мы увилистой и худо заметной дорожкой. Она огибала щетинистые кусты боярки и шипики, выпрямлялась высокими лесами и уводила влево от болотных трущоб.
– Ето што за оказья? – растерялся отец, когда мы обошли все избы и на выселке Луговой. – Да жители-то куды подевались? Не могли же все помереть. Ни старого, ни малого нет… Ладно, пошли, Васька, дотерпим до дому. На фронте не ето сносили. Токо куда же люди-то разбежались? Ну ничо не пойму, ничо.
И тут от ближнего осинника донесся до нас глухой железный звон. Он наплывал из самого нутра промерзлой земли и тревожно нависал над снегами.
– Чо бы ето, а, Васька? – прислушался отец. – Как есть кандалы звенят. Парнишкой был я, дак колчаки гнали наших по деревне в железе…
Он поправил двустволку и твердо шагнул вперед, а я боязливо поспевал за ним. Осинник поредел, и в смутных просветах лесин перемигнулись желтоглазые огнища. Они не ярко освещали поле, где медленно передвигались люди. Одни что-то искали, другие взмахивали руками и тогда зарождался стонущий звон железа.
– Фу ты! – обрадовался тятя. – Да ить оне картошку копают, картошку. А я чо только не передумал.
Пасмурь окружила леса и поля. Все погрузилось в темень ночи, а здесь копошились жители выселок. Они сошлись сюда за едой, сошлись выстоять против голода. Старухи живили огнища и грели возле них ребятишек, а все, кто мог держать лопатки-железянки, ломики, топоры и кирки, – долбили землю.
– Картофь, картофь добывают. – Постоял недолго отец и закинул двустволку на спину. Он встал на лыжи, и мы начали спрямлять выход к своей деревне. Все тише и глуше становился жалобный звон. Казалось, он приснился нам в лесах или просто поблазнило.
Повалил снежок. Сперва растаяли на ресницах и скатились холодными слезинками редкие снежинки. А вскоре они посыпались гуще и дружнее, неслышно кружились и торопились заровнять промятую нами лыжню. Я покачивался и сновал ногами, боялся отстать от своего тяти. И нет-нет да слышал откуда-то голодный звон железа. Он то задыхался и замирал, то снова приближался вместе с перемигами костров. И был тот звон бесконечным, как снег, как длинная-длинная зимняя ночь.








