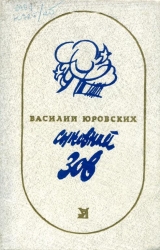
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Горсть стручков
Не враз и признал я тебя, Горбатая полоса. От Осинового мыса не осталось и пенька, а там, где зелено холмились Хмелевой, Черемуховый и Афонин колки, – несуразно дыбятся кучи земли вперемежку с корнями, лесинами и потемневшей чащей. И самая высокая береза у росстани покинула свое вековое место. Поди, и она следом за нашей соседкой Парасковьей уехала к сыновьям в дымный и тесный город.
Только не грусть о раскоряженных колках нахлынула на меня. И не от яри солнечной стемнело в глазах. Стою я на меже и… нет, вроде бы, меня. Вижу белоголового парнишку в синей отстиранной рубахе, а с ним его старшего братишку Кольшу. Свернули они от росстани, галечки-бобы щекочут черные пятки. Пусто у них в корзинках, пусто у каждого в брюхе. Еще не скоро до ягод-груздей доберутся они, не скоро натакаются на лесную пищу. А рядом гороховище, поверху цвету полно – как есть метлячки белые и бордовые расселись, крылышками легко трепыхают. А понизу стручки крепко сжали зеленые губы и надуваются соками земли, повыше их плющатки длинные пирожками свисли.
Чего брательникам сговариваться-то?! Поозирались по сторонам и шасть в Осиновый мыс. У дуплистой осины в костяничник корзинки упрятали и сквозь огрубевшие волосатые дудки пиканика продрались на гороховище. Несмело на опушке приостановились и опять вокруг серыми глазами пошарили. Никого не видать, никого не слыхать. Лишь кузнечики-кобылки свои литовочки вострят да перепела друг друга окликают. Совсем как люди выговаривают: «Же-лу-блю, же-лу-блю»…
Ну, если перепелки желубят стручки, то парнишкам и подавно охота испробовать горох. Не пожелубить, а вместе с кожурками похрумать-пожевать. Хоть плющаток по горстке нарвать – не до выбора им. Однако манят и манят тугие стручки младшего братишку. Не слышит он, как сердито шепчет Кольша:
– Васька, куда лезешь? А то как увидают…
Васька склоняет белесую голову, только и пузырит ветерок синюю рубаху. Ему вон тот стручок поглянулся, тот еще толще выглянул и тут же спрятался. И он разнимает кучерявые гороховины, ищет зеленые, лукаво надутые губы. Да их в свою потную ладошку зажимает, а плющатки правой рукой в рот пихает.
До чего же тихо на поле-то… Солнышко улыбчиво-высокое, небо чистое и спокойное, двухвесельной лодкой парит коршун-мышеловка. И перепел нет-нет да и обрадует подружку: «Же-лу-блю, же-лу-блю». Разве поверится тут, что где-то тятька второе лето воюет, пушки бахают, осиным роем железо летает и смертью ужалить его, тятю, норовит…
Еще, еще бы во-о-он тот стручок сорвать…
Вижу я парнишку и не братовым, а своим голосом хочу закричать ему:
– Васька-а-а, беги-и-и!..
И не с Кольшей метнуться в Осиновый мыс – спасенье в лесу искать, а кинуться хочется беде навстречу. Она не коршуном гнусаво-крикучим нависла над светлыми вихрами Васьки, не тучей зачернела в небе…
Эх, Васька, Васька!.. Да расклонись же ты, стрельни глазами по Горбатой полосе!..
А кто там на полосе? Прямо гороховищем прет на карем жеребце широкоскулый парень. Молотит его пятками по бокам, левой рукой узду натянул и рвет губы жеребцу удилами, а правой железную цепь ухватил. Вдвое сложена она, и каждое звено толще большого пальца у Васькиной руки. Уж не так ли в давние века налетали на русичей-землепашцев дикие кочевники?..
И когда Кольша из лесу завопил – вскинул Васька голову. И тут же конь пеной да потом лицо ему обдал, а тот на вершине размахнул тяжелую цепь…
Где-то у сердца самого остановился зов к матери, словно ворот рубахи с единственной пуговицей сдавил худую шею. И… ничего больше не видал и не слыхал Васька. Каленым железом впились в голову звенья цепи, земля, как с испугу, вывернулась из-под пяток, ринулись перед глазами сверкающие метлячки по сторонам…
Опоздали руки прикрыться от железа. И пал Васька плашмя на горох. А пока память не ушла – запомнил: голова его большим стручком раскололась, лопнула, и не горошины, а красные брызги вырвались меж пальцев…
Очнулся Васька, когда солнышко за березовую дубраву у речки спряталось и небо печально постарело. Не роса свежила сплошную боль, а братова рубаха, смоченная в омуте. Голого Кольшу комарье кусало, да не от того он подвывал, Ваську до смерти жалко было… Тятька всю Расею спасает, а он за младшего брательника не мог постоять…
– У-у-у, Синяк, отольется тебе Васькина кровь! – грозил Кольша костлявым кулаком полосе, размазывал по лицу слезы и сопли.
…В потемках спустились братовья в Степахин лог. Тут у ключа ополоснул ему Кольша лицо и голову, тут их обоих и слихотило, хоть и блевать-то им было не с чего. А все же полегчало и побрели они на редкие и слабые огоньки села.
В избе не горела лампа, из темноты открытых дверей услыхали голос матери. Она уже выревелась и повторяла-вздрагивала:
– Захлестнул, ирод окаянный, моего сыночка, захлестнул… И некому да некуда пожаловаться-то-о-о.
Бабушка тихонько успокаивала ее и добавляла:
– Весь в дедушку Григорья. Тот, покойник, не к ночи помянутый, Онисью до полусмерти вожжами испонужал. А и всего-то она бадью с пойлом опрокинула…
Тем же вечером Ефимка Синяк хвастал на бригаде и просил награду у бригадира Захара Ивановича:
– Неуж екому-то караульщику лукошко гороха пожалеешь. Я-то живо отучу от Горбатой полосы всех юровских и морозовских.
Захар долго рассматривал обмотки на ногах, нещадно дымил самосадом. А когда цигарка обожгла бурые пальцы, он скрипнул зубами и огорошил Ефимку:
– Пошто же звереныш ты, Синяк? Зашибить бы тебя, да… – и не договорил, отвернулся и ходко пошел домашним заулком. Ефимка немного постоял полоротым, потом харкнул ему вслед: «Хы, Бателенок!» А молчавшие бабы слышали, как сердито звякали медали у Захара на слинявшей гимнастерке, и все смотрели и смотрели на пустой правый рукав. Он выпростался из-под ремня и серым бинтом болтался сбоку приземистой фигуры бригадира…
До чего же отходчива ты, русская душа… Еще и волосы не затянули багровые вмятины цепи на Васькиной голове, а подружился он с младшим братом Ефимки Синяка. Было и не было ничего. С Тюнькой всем делились поровну и родовое его прозвище у Васьки ни разу не слетело с языка. Забыл, казалось, и Ефимка про Горбатую полосу.
Возвращались мужики с войны да из госпиталей. А у Семена Григорьевича – отца Тюньки – старший сын Ликашка из германского плена воротился. Всю войну не получали от него вестей. И вдруг пришел он однажды под вечер. И такой с виду – иных краше в гроб кладут.
В первый же вечер Ликашка завел самый тяжкий разговор для себя и родных. Опьянел ли со стакана свекольной браги… Слезы сами текли по запавшим щекам, а Ликашка глухо ронял и ронял слова о плене. С перебитыми ногами и головной раной угодил он к немцам.
– Теперя сам не пойму, как кости срослись, как рану затянуло на башке. Хуже скота кормили нас, гады. Заживать голова начала, так один, сволочь белобрысая, цепью меня по ране. Цепью! – захрипел Ликашка и опрокинул в рот из стакана свекольные паренки на семиденном меле. Он закрыл глаза и шепотом спросил:
– А за чо? За мерзлую картошку на помойке…
Помню, как испуганно поднялся с лавки Ефимка, искоса посмотрел на меня и скрылся в сенях.
…Через пятнадцать лет снова припомнились мне слова бригадира Захара. Его давно не было в живых, и бригадой заправлял Ефимка Синяк. Только величали его уже Ефим Семенович.
Метельной ночью погнал он на выездном жеребце Воронке к трактористу Ивану на выселку Зарослое. Пронюхал, что у того в голбце водка припасена. Хотел на дармовщинку нахлестаться до зелена.
Случись такое раньше – не только водка, а и последняя курица угодила бы на закуску Синяку. Да канули безвозвратно времена, когда все блага одной должностью и нахрапом доставались. Как котенка вышвырнул Иван из избы Ефимку. А тот со злобы и во хмелю угнал в леса. Выдохся жеребец и завяз в черыме. Темь кругом, ветер гудит и стонет, снег вьется белыми простынями.
Однако страшнее непогоды разыгрался Синяк в лесу: выхватил из кошевки топор и… зарубил жеребца. В кровище приполз в теплую Иванову баню, там его и нашли в полдни…
– Да как же, как же это так… Топор поднять на животное… – метался по конторе председатель колхоза из приезжих. И он впервые принародно матерился. – Да кто же он, кто же он после такого-то будет?
Колхозники угрюмо удивлялись:
– Смотри-ко, Синяк даже без синевицы отделался. Загнал мясо Воронка, деньги в кассу, а на остальные ишшо неделю гужевал. Ишшо досыта нажрался, пока не смотался в город.
…Признал, признал я тебя, Горбатая полоса… Пожалуй, неудобно и называть теперь так-то. Распрямили тебя, и снова горох стелется тобой. Стручки крупные, силой земной налитые. Рассмеются – сыпнут с гектара в бункер по двести пудов. Вишь, как полоса горделиво застегнула грудь на все стручки-застежки…
– Любуешься? Отведал бы горошку-то, а?
Что мне сказать ему, Виктору? Его, агронома, еще и на свете не было, когда пробовал я горох на Горбатой полосе. Неважный был он, если с нынешним равнять. Худенький, как и те братишки. А только не тянется рука к белозубым стручкам, не тянется…
А вон же у большой дороги орава парней на горохе. Слышно, как ручное радио грустно поет не то им, не то зеленому полю в метлячках:.
– Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым…
Весело парням, сыты и обуты они, на обочине мотоциклы сияют под солнцем. И радуюсь я за них, да только бы перепелку услыхать: желубит она стручки или сыта иной пищей – мне уже не известной и не понятной.
„Лисапед“
Ольховая ветка, сплошь усыпанная зелено-чешуйчатыми молодыми бубенцами хмеля, даже и не качнулась, а я еще раньше почувствовал на себе посторонне-настороженный взгляд. Странно получается, чем многолюднее на городской улице, тем незаметнее прохожие, и сам ты торопишься куда-то, не обращая внимания на встречных. А в лесу или у реки, на уединении, даже не зверь, а зернышки мышиных глаз возвращают из запредельных раздумий.
И я, не оглядываясь, с досадой поморщился: ну, кого лешак принес сюда, ну где, где найти покойный уголок? Хотя чего травить душу… С той поры, как завод молочных фляг из ближнего города отстроил на сосновом увале дом отдыха, речка Ольховочка навсегда растеряла застенчивые тайны. Ватаги отдыхающих посекли на кострища хрупкие ольховые рощицы, ободрали кору с редких березок и отоптали берега. И красная смородина незаметно почахла сама по себе, и повалилась к воде калина, и повысохла черемуха. А поляны, где хвойно кустилась когда-то стародубка и, казалось, неистребимо-солнечно будет извечно вспыхивать густыми ресницами, повыкатали легковушками до земли.
Наверное, вместе с костерным чадом отнесло с бугорков нежную синь-поволоку незабудок, опалило беззащитную желтость ирисов и теплый снеговей ромашек. Да чего там цветы-ягоды! Щавель и тот захирел-отвердел, крапивой и то не обрастают берега омутов. Бывало, до пупырей-красноты изожгешься, пока промнешь тропку к заводи, а тут голым-голо, как после Мамая.
Плюнуть бы мне на свою привычку и порыскать по Исети – реке большой, одетой живучими ивняками, ан нет же, тянет сюда упрямая память и неотвязная маята рыбацкая. Уж и сетями здесь рыба заневолена, и толом глушена, и пустыми водочными бутылками пугана. И пьяных песен до лихоты наслушалась, и мутными потоками матершина лилась в речку… Где тут устоять ей, светло-родниковой…
«Опять очередная пьянь навалилась», – подумал я. Поднял голову от воды, обернулся и встретился глазами с разнаряженной кокетливой женщиной. Что тебе первый парень на деревне – вся рубаха в петухах, красками отштукатурена, штаны-клеш расшиты и с блестящими медяшками, словно шлея на выездной лошади. И глаза в трупно-зеленом обводе сверлят меня высокомерно-опасливо. Без слов ясно, охломон-бродяга я для нее, в перемятой соломенной шляпе и рваном пиджаке. Такого гнать бы надо в три шеи, но тут не дача, а ничейная, общая речка…
Качнулась ветка с безголосыми бубенцами, и нет, как и не было надменной «шмары», окрещенной мною на деревенский манер. Но нет, не почудилось мне: тут же услыхал я сердитый полушепот. Женщина нарочно для меня отчитывала своего сына:
– Алик! Перестанешь ли ты быть простофилей? Кинул велосипед, где попало, и гоняешься ребенком за насекомыми. В два счета уведут его, моргнуть не успеешь.
И уже громче она назвала стоимость велосипеда. Видимо, не столь для своего беспечно-доверчивого Алика, сколько для подозрительного человека под берегом.
Чего бы мне обижаться на незнакомую, пусть и неприятную женщину? У моего сынишки от магазина в городе «увели» велосипед. Увели на глазах честного народа, и никакая милиция не помогла: некогда ей заниматься такими пустяками.
А вид-то у моей персоны на самом деле ненадежный, пусть воры давно перестали рядиться в ремье. У иного вид, как у директора завода, к нему доверие не только неискушенного деревенского жителя, однако в удобном месте до нитки разденет или угонит дорогую машину. Нынче не всякого надо по одежде встречать. Вот разве по уму провожать – еще не устарело. Хотя и ум не всякий покажет, как продавец залежавшийся товар.
Не слыхать женщины со своим отпрыском. Да и нет мне до них дела, пусть и обожгла сердце обида. Сначала я поулыбался над страхом за велосипед. Даже поиздевался… Это я-то уведу? Смех да и только!.. За сорок лет жизни не довелось покататься на велосипеде, неведомо мне, как лихо крутить ногами педали под веселые выкрики сверстников:
– То ли дело лисапед.
Чо-то едет – ноги нет…
Вот вспомнить бы, когда я первый раз увидал велосипед? Когда? Кажется, до войны в Юровке был он у кого-то, а у кого – не помню. Но, видно, имелся, если дядя Андрей смастерил самодельный самокат. И я даже помогал ему…
Жила наша семья тогда не в родном селе, а в недальней деревне Бараба. Оттуда июльским вечером привез меня тятя погостить к бабушке. С кем и где ночевал – забыл. Зато день навеки в памяти.
Утром, как только поели сметанных шанег с холодным молоком, дядя Андрей послал меня залезть на пятра в амбаре. Там лежала березовая криулина. Оказалось, еще дедушка Василий Алексеевич припас ее для обода на колесо к телеге. И не успел изладить: помер вскоре, а тут юровчане записались в колхозы, лошадей свели на общий конный двор, туда же отвезли сбрую и телеги. А криулина так и осталась.
Столкнул я ее на пол, и дядя Андрей тут же сгреб криулину в ручищи и обрадовался:
– Отешу и руль получится. К лисапеду, Васька, к лисапеду! Досыта тебя накатаю, вот увидишь.
Дядька сдержал слово. Вот токо-токо была криулина, а коснулся ее топор, и она мигом изменилась: стала гладкой и ловенькой. А потом дядя вытащил из-под сарая двухколесный самокат-лисапед. И рама была, и железные колеса от сабана, и педали, и цепи передач на шестеренках, и сиделка-сиденье. Один миг, и деревянный руль на своем месте.
– Чичас солидольчиком смажу шестерни и айда, Васька, кататься! – подмигнул дядя Андрей. – А ежли поглянется – твой будет. Чуешь?
Я у дяди Андрея был любимец: он всегда мастерил мне всякие игрушки – сабли, мечи, винтовки. И вдруг у меня будет не какая-то сабля, а лисапед. На нем я сам могу уехать к Барабу и, когда захочу, приеду в гости. Тут и дух у меня перехватило, и ногами от нетерпения я заперебирал, словно уже гнал и гнал на самокате, крутил и крутил педалями колеса.
Жалел, что нету рядом брата Кольши. Вместе бы нам с ним поехать, вместе со старшим братом веселее и смелее! И совсем никого не было. Правда, пришла бабушка с колхозного огорода, где поливали капусту. Но она не обрадовалась, хотя и хвалила Ондрюху за смекалку в хозяйстве. Ведь он изладил как-то тележку с рычагами и на ней не только сам или с дядей Ваней ездил, а возил дрова.
Однако и побаивалась бабушка его поделок.
– Ить чуть он себя не угробил, – говорила она соседке Онтониде. – Ваньша вычитал в книжке, как один летал по небу на крыльях из гусиного пера. Ну, а Ондрюха тут же ероплан давай ладить. К деревянному корыту палки приколотил, от полога по лепню натянул и перьями утыкал. А наперед в корыто самовар поставил с водой. Всю ету холеру затащили оне на крышу сенок. Самовар разожгли, Ондрюша сел в корыто, а Ваньше приказал столкнуть его с крыши-то.
– Ой, чо было, чо было! – охала бабушка. – Не полетел его ероплан, а шлепнулся в ограду. Ондрюха здорово ушибся. Ладно самовар-то не успел скипеть, а то бы сварило ево. Утре надо на смену, а он на полатях охат и весь завязан. Бригадир-то, Захар Иванович, потерял Ондрюху. Сроду ево не наряжал, а тут на дом пригнал на Гнедке. «Где, – грит, – Ондрюшка, што с ним?» «Евон, – отвечаю, – на полатях. Изуродовался, чуть живой». Испугался бригадир: «Как да пошто, можа, кто излупил?..» – «Летать собирался».
С той поры бабушка и опасалась, как бы еще чего не выдумал Ондрюха. Потому и новую машину тревожно оглядела со всех сторон и дяде наказала:
– Сам-то езжай, а Васько не сади. Ишшо покалечишь, чо я Варваре-то скажу.
– Ничего не случится, – захохотал дядя Андрей и выкатил на заулок. Не очень быстро, с лязгом и скрипом, но он доехал сперва до пожарки, а оттуда под горку так разогнался, что еле затормозил за своим домом. Дальше заулок выходил на Подгорновскую улицу, дяде же ехать туда не хотелось.
– Лезь, Васька! Да спереди, на раму, – пригласил он меня. И вот первый раз в жизни, а тогда и не знал, что последний, я не шел, а ехал на «лисапеде», пусть и самодельном. И был бы он наверняка моим. Однако на повороте возле своей бани в заулке дядька нечаянно прижал рулем пальцы у меня на правой руке. Стерпеть бы, пусть и больно стало, но я завопил, вырвался из его рук и вдобавок шлепнулся в крапиву.
Пока дядька соображал, чем меня утешить, я залез в огород, спрятался там в подсолнухах и начал дразнить его:
– Ондрюша малоумненький, Ондрюша малоумненький!..
Дядька осерчал, схватил велосипед и трахнул его о землю. Руль сломался, слетели цепи с шестеренок. И тут же все кучей забросил он на крышу сарая, хотя и тяжелый был он, его «лисапед». Ну, да дядя Андрей считался не последним силачом в Никитинской породе.
Сердился дядька недолго, но за велосипед больше не брался. Начал мастерить балалайки, даже гитару склеил, из монетчиков ковал перстни для баб и девок. А когда взяли его на войну, он уж с телеги крикнул:
– Я те, Вася, хороший, базарский лисапед привезу! Чуешь?..
Нет, не вернулся домой и не привез дядя Андрей мне велосипед.
А все-таки, когда же я увидел настоящий велосипед? Ага, вспомнил… На нем приехал из Далматово мой крестный, самый младший отцов брат. Встречали мы его на угоре октябрьской ночью. Война окончилась давно, два с половиной года назад. Босиком бежал ему навстречу, еле успевала за мной сестра Нюрка.
Где он, дядь Вань, долгожданный дядя Ваня? И тут впереди огонек заметили; он двигался к нам, один огонек на всю темную округу. И хозяином его был красивый младший лейтенант с золотыми погонами, наш дядя Ваня, мой крестный. Там, на дороге, я забыл про свои окоченелые ноги, и не до велосипеда было нам. Новенький, голубой велосипед с фарой и скоростями мы рассматривали днем. Я даже и пальцем боялся притронуться.
Почему я ни разу не попросился у дяди – нет, не научиться ездить, а чтобы он меня прокатил? Видно, и умру с врожденной застенчивостью и никогда не посмею взять в руки чужую вещь, тем более не смогу пользоваться ею. А ведь не чужой он мне человек.
Вот и умеет мой сын ездить и на велосипеде, и на мотоцикле. А заставь его на чужом поехать? Разреши – не сядет. В одном ли умении дело….
…И опять услыхал чьи-то голоса. Пожалуй, идти надо на реку Исеть. Идти, пока носят ноги меня, отсталого человека. Отставшего от времени не только на велосипед, а уже и на автомашину. И нет ни росинки зависти к тем, кто проносится мимо, обдавая пылью и угаром бензина…
Хожу, хожу, и всюду после моих шагов трава распрямляется и прорастают цветы. А ведь после тех остаются следы-колеи, пятна какие-то…
Ну, Ольховочка, прощай, что ли… И ты вот тоже устарела. Не догадалась привыкнуть к машинам, а убежать-то тебе и некуда. Разве что в землю…
На меже
Еще с вечера томило меня непонятное беспокойство, и долго не мог я заснуть на широкой лежанке печи. Нашаривал у трубы сигареты, курил и слушал, как на диване в горнице схрапывает сродный брат Иван. Умотался мужик за страду. И сегодня до потемок трясся на мотоцикле, все поторапливал комбайнеров собрать последние валки овса на солонцах.
– Отмолотились посуху, – вяло посмотрел он на жену Валентину, стянул побелевшие сапоги, разделся и не стал ужинать – упал на диван к младшей дочери Танюшке.
Уклался Иван, за всю осень впервые выпало ему отоспаться. Завтра не надо до свету бежать в контору, завтра длинная натруженная тишина объемлет песковские поля и леса…
«А мне, ну мне чего бы не спать?!» – тушу я сигарету о дно жестяной банки и пытаюсь догадаться, чего не хватает на сухо-каленой спине русской печи.
Беленые глиной потолочины молочно туманятся над лицом, напоминают о детстве и приближают железную крышу пятистенка. По ней неосторожно прокрался несостоявшийся тигр – кот Кузька, а потом она запотрескивала, вроде, кто-то мелко потрусил песчинками. И явственно слышно, как заматрусил раздумчиво-печальный обложной дождь. Где он собрался, откуда натянуло? Безлюдье окрест села, и с улиц рано ушел народ, лишь из полоротого репродуктора на столбе возле конторы; далекая певица домогается у ржи: о чем она, золотая: рожь, поет…
Безлюдье и на полях, и на заново наторенных дорогах. А мне всегда по такой ночной погоде хочется попасть на лесную дорожку, идти и дышать отсыревшими запахами накрошенных листьев и по ним распознавать осинники и березняки, где низом выгустилась за лето смородина и черемуха. Просит душа безглагольного уединения. И земля тогда ближе, и не суетятся слова и думы, и нет, кажется, ни возраста, ни должностей.
Бредешь наугад, ничего не видишь в нескончаемо-грустной осенней ночи, а знаешь – слева елань и на ней присмирел зарод сена. Подвернешь к нему и летнее тепло задышит созревшими травами. И вспомнится, как здесь же сенокосили когда-то тятя с мамой, а я залезал на зыбкие березки, и с колодезным холодком в нутре спускался, нет – летел на сиреневую душицу, пестроту ястребинок и журавельника на опушке. Березка взыграет в небо, распрямится и только листьями еще долго плещется – охорашивается. А я уже ползу лесом и скусываю кисло-красные щепотки костянки.
– Васька! А как верхушка сломится и расшибешься! – иногда обомрет за меня мама и поправит на темно-русых волосах белый платок. А тятя отопьет из лагуна ядреного квасу, ловко подденет на деревянные вилы-трехрожки полную копну рыхлого сена и глухо отзовется из-под пласта:
– Ничо, мать, смелее вырастет, кости крепче будут. Поди, не девка, парень…
И ведь сгодилась детская забава-сноровка, когда в войну одолевали берегами согры и речки Крутишки самые высокие черемшины, обирали ягоды на самых неподступных ветках. А сучья у черемухи в суставах слабые, часто вывертывались с «мясом» даже из дородных лесин. Не всегда сумеешь перепрыгнуть на другой сук или уцепиться за развилку. И тогда душа в пятки – зашумишь с вышины. Но попутно ухватишься за молодую, пока бордовую корой черемшину, и, глядишь, спружинит она шлепок. А то и совсем на ноги словчишь приземлиться.
Штаны и рубахи худо спасали, пусть и шили их нам матери из дерюги-мешковины. Трещали они вдоль и вкось. А пуще всего мы боялись изорвать одежду. Нет, стыдиться больно и некого было. Не велики ухажеры, в бане зимой гуртом все мылись, на три жара не рассчитывали. Выстужались, студенели банешки по-черному быстро. Другая забота была у нас: не расстроить матерей. И еще, чтоб не ждать, пока отыщутся в сундуке заплаты и зашьются дыры, а с первым светом толочь ласково-теплую пыль дороги, торопиться по ягоды или по грибы…
С опушки тонко посветит березка и ощупью поймешь: можно на ней спуститься, выдюжит она. И потянет залезть до метлистой вершины, но вовремя опомнишься. Вес в тебе уже не тот, и соки из березки ушли в землю. Шмякнешься на елань, и только ли синяком отделаешься? Кости-то далеко не гибкие и тело больное стало. Чуть-чуть споткнешься где-то, а боль по телу ноет неделями. Эх-да… Как бы ни хотелось, а чего-то в жизни никогда не повторить, никогда…
Матрусит и матрусит на крышу дождик, натекает с водостока в позеленевшее за лето брюхо бочонка, плещется и чмокает в нем пойманной рыбой. Напротив чела печи зябко вздрагивает непромазанное стекло в раме, шебаршит, скребется о стену продрогший тополь. Истомно тепло на печи, а сна ни в одном глазу. Думы мои и сам я не здесь, а на лесной елани, где отмежевалось лето в улежавшийся зарод и годы наслоились на мои березы. Их давно никто не редит на ветреницы для зарода и на подкладки для возов. Да и на бастрыки они толстотяжелые. И уж вовсе никто и никогда из деревенских ребятишек не обомрет нутром, спускаясь с них в травы. Березы мои теперь можно только спилить, но не согнуть…
А если оставить печь и втихомолку собраться, шагнуть в сырую темень и пойти к елани лесной дорожкой? Мало кто бывает на ней, редко слушает она шаги, отзывается на стукоток тележных колес и конских копыт. Но мне совсем не одиноко будет идти, пусть и нет рядом отца с матерью. Вместе со мной зашлепает по натекшим в колеи лывинкам счастливый парнишка. Не ахти чего он видал, едал и нашивал, однако счастливее он меня, повидавшего чужие страны, отведавшего досыта всякой еды и давным-давно отвыкшего от ремья.
Ничего не утаю я о себе. Он поймет и детство, и отрочество, простит несправедливости к моей юности, но неутешно-горько ульется светлыми слезами, когда с годами познаю я жизнь и людей. И тогда останусь я один, и мне ничем уже не вернуть своего парнишку.
Останусь наедине с беспредельно мокрой ночью, прелым зародом и онемевшей еланью, где окоростенели черной корой редкие березы, где уже не тятя с мамой, а незнакомые люди наспех убрали травы, пропахшие железом и бензином.
Я останусь тогда у неодолимой межи, и нет и не будет у меня силы перешагнуть через нее, и не сыскать мне своего парнишку.








