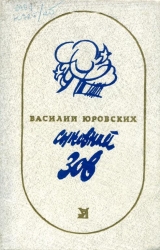
Текст книги "Сыновний зов"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Сыновний зов
Светлой памяти отца моего Ивана Васильевича Юровских посвящаю.
Автор
СВОЯ ПЕСНЯ
В одном из небольших, в полстраницы, рассказов – «Своя песня» – Василий Юровских вспоминает, как однажды в лесу решил он «передразнить» синицу:
«Глянула синичка на меня: «Ах, так это ты проказничаешь?» И неожиданно выпела звонко-серебристо… такое, что и словами не передать… Как бы спрашивала меня: «А так-то ты сможешь?» – «Не могу», – признался я… Голосок у синицы негромкий, да свой. Как ни старайся, а по ее не споешь. И березы слушать не станут, отвернутся. Лес не проведешь».
Думается, уже и в этих немногих словах сказался в главном и весь Юровских, человек и писатель. В самом деле: он принадлежит к тому роду авторов, которые пишут прежде всего или даже исключительно о лично виденном и пережитом. Но не многим удастся при этом избежать очерковой поверхностности бытописательства, этнографичности, поднять достоверность до истинно художественного обобщения. К тому же, Василии Юровских отнюдь не выбирает для сюжетов своих рассказов необычные случаи, исключительные ситуации, выигрышные для писателя своей занимательностью или особой остротой злободневности. Его прежде всего привлекает жизнь именно в своей привычной повседневности, даже – в примелькавшейся незамеченности. А вместе с тем перед нами глубоко поэтические рассказы – беседы, раздумья о жизни, сохраняющие и всю значимость их невыдуманности.
За редчайшими исключениями Василий Юровских не поэтизирует жизнь, то есть не привносит как художник эту поэзию извне: жизнь-де сама по себе, конечно, однообразно уныла, но вот пришел я, поэт, и украсил ее, расцветил красками своей фантазии, – нет, писатель Василий Юровских обладает редким даром, присущим лишь людям особо чуткой души, – там, где иной «не поймет и не заметит», – говоря словами Тютчева, – увидеть и открыть всем в подспуде простой обыденной действительности нетленную красоту самой жизни.
В таком постоянном открывании поэтически запечатлен в рассказах Василия Юровских вечный труд совестливой души человеческой; поэзия обыденного, повседневного определяется здесь нравственным отношением писателя к жизни вообще и к художественному творчеству в частности; не солгать, пусть и красиво, не «напроказничать» ни единым словом с чужого, пусть и завлекательного голоса.
Едва ли не каждый рассказ Василия Юровских, будь это давняя, из первых детских лет, история потерянной в голодные годы войны и найденной вновь краюхе горького, пополам с полынью, хлеба – весь дневной «пропитал» (рассказ «Хлебушко») или давешняя мгновенная встреча-беседа с синичкой («Своя песня»), – каждый такой рассказ-бывальщина – это и маленькая, как правило свободная от дидактических нравоучений, притча, раздумье об истинных и мнимых ценностях жизни. Правда, это раздумья особого рода, заключенные большей частью не в сентенцию, законченный афоризм, логически совершенное изречение, но почти всегда – в живой образ, наполненный мыслью сердечной, той, что Михаил Михайлович Пришвин и назвал «величайшим богатством души». Кстати, природа творческого мировосприятия Василия Юровских, думается, ближе всего или даже родственна именно Пришвину. Да, писатель ничего не навязывает от себя, но как бы только слегка помогает читателям самим извлекать даже из, казалось бы, ничем особым не примечательных встреч, случаев, событий, сохраненных памятью, уроки. Уроки совести, сострадания, милосердия, доброты, сочувственного сопереживания, душевной открытости миру. Будьте как дети! – сказано в одной из старинных заповедей, – Не умом, но – сердцем; умом же будьте взрослыми. Эта не стареющая с веками мудрость припомнилась вдруг в связи с рассказами Василия Юровских. И не случайно: в сердечной открытости рассказов писателя действительно есть что-то взаправду роднящее его творчество с непосредственностью и бесхитростностью мировосприятия ребенка.
Первая часть книги – рассказы о детстве, о немудрящих ребячьих радостях военного лихолетья и далеко не детских заботах, о раннем повзрослении в суровом познании жизни, это рассказы отнюдь не «специфически детские», то есть специально приспособленные для детского восприятия; в них нет ни взрослой снисходительной ироничности, ни игры «в поддавки», и они безусловно интересны и доступны – в равной мере – ребенку и взрослому. Во второй части собраны рассказы уже бывалого человека, но и их умудренность равно оценят «отцы и дети».
И хотя перед нами книга рассказов,каждый из которых можно читать отдельно как вполне завершенное, самостоятельное произведение, все-таки, думается, это прежде всего именно книга,то есть и нечто цельное, единое, связанное не столько развитием сюжета или даже центральным героем – лирическим двойником автора, но – главное – самобытным нравственно-поэтическим взглядом писателя на жизнь и взрослую и детскую. И если в первой части это как бы взгляд ребенка на взрослый, далеко не детский в своей суровости мир, то во второй, напротив, преобладает взгляд человека умудренного, познающего мир открытым сердцем ребенка. Писатель то уходит памятью в мир детства, то вновь возвращается «из детства к самому себе и к сыну», чтобы «шагать лесной дорогой и надеяться на лучистый огонек в окошке родного дома» («Огонек в окошке»), чтобы в этом двуединстве жизни, в ее прошлом и настоящем увидеть, осмыслить грядущее. Вся книга и построена на таком сопоставлении прошлого – собственного военного детства, когда «ребятенки, детки еще… ни еды не видывали, ни игрушек. Эдак и детства не узнают, останется в памяти работа, голод и нужда, – как говорит мать в рассказе «Синие пташки-пикушки». – В нужде и горе забываешь о них, как с ровни спрашиваешь»; и нынешнего – сыновнего детства. И, может быть, именно в том, что так или иначе, но всегда в центре писательского внимания и понимания Василия Юровских находится ребенок и не просто находится, но именно определяет и ось и шкалу ценностей его творчества, может быть, именно в этом-то и заключается главная взрослая сердечная мысль писателя, которую я попытался бы выразить словами Достоевского: «Любите детей: они – будущее человечество».
Умейте ценить жизнь во всех ее проявлениях, не разучитесь удивляться этому великому чуду – и она раскроется вам в своей красоте и поэзии; найдите в себе талант и смелость взглянуть на мир глазами восхищенного человека, будьте сердцем как дети – вот чему учит нас эта книга маленьких рассказов Василия Юровских, большая часть которых написана в жанре, напоминающем либо тургеневские «Стихотворения в прозе», либо пришвинские «Незабудки». Некоторые, лучшие из них, я рискнул бы назвать песнями в прозе; поэтика таланта Василия Юровских действительно во многом сродни поэтике именно русской народной лирической песни.
Может быть, эта песня и не громка, и не заливчата, и, конечно, не раздольно-могуча, но, несомненно – это своя песня, западающая в сердце своей искренностью и проникновенностью. Незаемная, чистая, несуетная.
Юрий Селезнев
Отцовы ягоды
Отец свешивает голову с печи, сдерживает подступающий кашель и наказывает нам с крестником:
– Мосотык-то оставьте в таловом кусте правее притона. Ну… лодки-то где ране ставили мы, куда с чисти выплывали к берегу. Дак от куста тово прямо и ступайте. Кочки кончатся, камыш будет. И ево проходите. А дале под ноги глядите: тут ягода должна. По мху-то у чистины сыздали видать, обирают ее рыболовы. А в мелко-редкой осочке, на лавде, не враз догадашша, што есть она.
Кашель оборол отца, и он надсадно, до слез, вздрагивал, тряс плешивой головой и хватался за широкую грудь. А когда провздыхался и вытер щеки, попытался улыбкой скрыть свою печальную тоску. Через четверть века после войны контузия снова ударила по нему и отец обезножил. Спутанный конь и то ловчее скачет, чем передвигается наш тятя. И хоть умом-то понимает: не ходок стал, по часу порог избы осиливает, а все равно просится душа в леса и на озера, все равно не верится ему, будто был да сплыл он, самый первый проходатель округи.
– Ишшо, – сипло шелестит отец, – есть курешок ягодный южней притона, в самом углу Зарослого. Его никто не знает. С большого стекла в проушину проплывешь на плесину, и там он, на лавде. Я раз-два натыкался до войны, а опосля не довелось мне там ягод побрать. Все мечтал обойти лавдой озеро и не собрался. И топерь гребтится-хочется, да куды уж…
Резво уносит нас мотоцикл из села. Глядь, а от Уксянки остались высокими метлами тополя с ветлами, и лишь мягкая сизая пыль плывет-высеивается на жнивье. Вон и ложок, а за ним и озеро Зеленое округлится у дороги, а там до Зарослого рукой подать. Нырнули-вынырнули из ложка, и всего успел я заприметить, как распахнулся ветер и обредевшими листьями тальник заоблизывал конопатую березку в кустах. Видать, охота ему, чтобы она стала чистая телом, как и взрослые березы берегом ложка. И еще запомнилось: в рукаве ложбинки засвежевшая отава и словно наструганный ворох листвы возле кустов.
Уносит нас мотоцикл, а мне почему-то неспокойно и грустно. Когда-то тятя пешком здесь топал, и я тоже хаживал. Никуда не торопился и не суетился, успевал осень почувствовать и много дум передумать, многое увидать такого, чего никогда не достанется памяти, если сидеть сложа ноги в машине.
Задержалась грусть, а тут и озеро Зеленое накатывает на положистый берег зеленые даже поздней осенью зыбкие воды. Восточным берегом березы и тальники окружили озеро. Листья с берез опали по тихой погоде и солнечно упятнали-высветили землю в рост каждого дерева. Как есть тень берез из листьев…
– А где притон-то? – озирается крестник, когда я подаю ему знак остановиться. Его и верно не заметно: затянуло осокой-резукой и тростником широкую и чистую вплоть до озерного стекла прорезь. Пойми-угадай, что когда-то плавали здесь на лодках, что был тогда весело-сухой берег озера притонным местом. Да если бы и тянулась жилой прорезь, все одно ничего бы не напомнила она моему крестнику. А я на какое-то время забыл, зачем мы пригнали сюда…
Память вернула меня назад. Никакие годы не вытравят из нее светлую теплынь июньского вечера. Мы с дядей Ваней искупались на маленьком озерке – оно плескалось чуть ли не в середке села, – и вразвалку шагаем к своему дому. Дяде не в диковинку, в давнюю, сызмальства привычку пасти колхозных жеребят, а я впервые пробыл с ним весь день на поскотине за Долгим болотом. Ро́вней пусть и не чувствую себя, но поглядываю по сторонам с затаенной важностью.
Только та первая работная радость темной молнией ускользнула из головы, когда дядю остановил у пожарной каланчи Григорий Петрович Мальгин. Он отец дядькиного дружка Афоньки. Всегда улыбчиво-приветливый высокий старик сегодня сутулился, был, тревожно угрюмым.
– Ваньша, Ваня… – С болью глянул он на дядю и долго мялся, не решался сказать что-то шибко страшное.
– Да што, што, Григорий Петрович? Уж не случилось ли чего с Афонькой? – испугался дядя Ваня.
Работали они с другом в разных колхозах, и мало ли что могло произойти за день. И необъезженные жеребцы не одного парня изувечили, а то когда трактор после переподтяжки заводить начнут – рукояткой зубы выбьет или руку перешибет.
– Беда, беда, Ваня… Ерманец, будь проклят, напал на нас… – застонал, заскрипел зубами Григорий Петрович. – Эх, ребята, родимые вы наши ребята!!. И вы не миновали ерманца… А мы-то думали: последних он нас газами травил, железом рвал…
Григорий Петрович на полувзмахе уронил руку и тяжело пошел к дому…
Много позже узнаю, что такое война, кто такие ерманцы-фашисты. Много позже бескрылыми птахами выпадут из рук мамы и бабушки похоронные на тятю и дядю Ваню. Они останутся все-таки живы: отец после контузии подаст, продиктует весточку из госпиталя, а дядька выдюжит неделю в кольце врага и напишет короткий треугольник. Много позже расскажет сосед Александр Федорович, потерявший правую руку на поле боя, как поднялся с гранатой от умолкшего пулемета наш дядя Андрей и взорвался вместе с оравой фрицев. И снова много позже чуть не тронется умом дед Григорий, когда неизбывная беда заглянет к нему в дом. Из части сообщат ему, как любимый сын его богатырь Афоня геройски погиб и награжден посмертно орденом Славы.
Все будет много-много позже… А пока мы топтались у каланчи, будто угодили в чужую деревню и не знаем, куда идти. Дядя Ваня повел взглядом на вечернюю Юровку и не то мне, не то самому себе промолвил:
– Шпакурили-смеялись над дедушкой Максимом, когда перед конторой пел: «Летит снаряд чижолый, суршит, как ероплан. И кажный солдат думат, што ето будет нам»… А прав-то он оказался. Тюрьмой его стращали, если он после песни зачинал говорить: «Робятушки, не миновать вам ерманца, не миновать. Сердце чует: силы копит он супротив нас»…
На другой день после обеда отправились мы с Кольшей – старшим братом – на озеро Зарослое, куда уехал тятя рыбачить. Дорогой забыли о войне, и к озеру добрались вечером. У притона нашли телегу и сбрую под ней, а отца и мерина Седого не оказалось. Нашарили в корзине калач и печеные яйца, пожевали вприкуску с озерной водой.
Пока кровянистое солнце не утекло на запад за озеро, ловили корзинкой гольянов. А когда зачадили сумерки и затопило туманом низкую чашину Зарослого, нам стало уже не до игры и гольянов. Тятя не появлялся. И уж сколь раз поочередно залезали на сухую березу у притона, старались увидеть отца. Однако кроме камышей и воды с пятнами лопушника, ничего не разглядели – ни тяти, ни Седого…
Густо-синий вечер показался нам ночью. И пусть не вновь было очутиться на берегу озера, но когда засипели за пашней совы и залетали неслышно птицы, мы без уговору заревели.
– Ну чево, чево воете?! – откликнулся туман озера недовольным тятиным голосом. Мы также дружно замолчали, хотя еще долго куксились под телегой. Раз тятя рядом – некого нам бояться. И на радостях вышло, что известили мы отца о войне не совсем так, как полагалось бы.
Молчком слушал он нас. Лица его мы не видели, но слышали, как булькнуло, выскользнуло весло из рук, и отец по плечи измочил рукав рубахи, пока нашарил его в прорези и подтолкнулся к берегу. Ни словом не обмолвился он, а тут же пошел разжигать огнище.
Мы с братом еле дождались ухи из желто-живучих карасей и уклались у костра на потнике под окуткой – тятиной лопотиной. А он до брезгу просидел у огнища, всю ночь подбрасывал на глазастые угли березовый сушняк. И непостижим он был для нас в своем раздумье. Видно, прощался тогда отец с озером, с родными лесами и землей, где родился и вырос, где научился боронить, пахать и сеять, сноровисто жать хлеба серпом и вязать их в снопы да ставить в суслоны. Здесь постиг он и рыбалку, и промысел дичи.
Прощался с Зарослым, где бороноволоком отлучился на озеро и натакался на клюкву – ранее никому неведомую ягоду. И его маленькое открытие сделалось для земляков утешением. По голу ли осенями, веснами ли по тугой потайке привозили юровские мужики в гостинцы детишкам крупно-бордовые ягоды. И скольких сельских ребятишек поднял на ноги из простудного жара клюквенный навар.
– Где притон-то, лёлей? – повторил крестник и озабоченно глянул на запястье руки с часами.
– А… притон… – встряхнулся я. – Да тут он, Вася, только прорезь затянуло и приметной березы не стало.
– Ну, тогда «козла» в куст и айда! – живо толкнул крестник мотоцикл к тальнику.
Куст обсорился листьями, и пришлось надергать пучки травы метлики – затрусить мотоцикл от постороннего взгляда.
Не босиком, как мой тятя когда-то, а в новехоньких резиновых сапогах с голенищами до паху выжимаем из лавды пузыристую воду, бредем осокой-резукой и бамбукистым тростником. Его хвати голой рукой, надломи – и глубокий бритвенный порез останется на ладони. Зарыжелая лавда однотонно утомительна, и догадайся, где скрывается, прячется тятина ягода. В войну на болотах под Ленинградом отец находил столько клюквы, что казалось, словно кто-то из кулей ее рассыпал. А у нас вековечно спеет она на одном Зарослом, да и то не скоро отыщется.
Вот крестник нагибается, разнимает жестко-волосистую траву и переходит на шепот, хотя кто же подслушает нас на безлюдной лавде:
– Есть, есть, лёлей…
Опускаемся с ним на колени и видим продолговато-бордовые ягоды на ниточках-стебельках, с мелкими зелено-фиолетовыми листочками. Они, ягоды, смотрят лукаво глазками в белесо-индевелом обводе, как бы подглядывают за нами из-под белобрысых ресниц. Срываем и пробуем кисловато-упругие клюквины, снимаем фуражки и осторожно ползем лавдой.
– Смотри-ка, лёлей, – дивится крестник, – не одним людям клюква-то пользительна.
И верно. На отлете жили здесь журавли, истоптали-измяли осоку по курню ягодному. Тетерева отсыпали ночь в осоке и утром тоже клюквой насытились. А мыши тонко выедают мякоть и эвон сколько кожуры нароняли на мох и воду. Иную ягоду откуснут и потеряют в траве. И мы выуживаем из воды мокроумытые клюквины.
Материнским взглядом теплит с затихшего неба солнце. И осенняя благодать отрешила нас от всего мира. И жизнь кажется вечной, как само Зарослое, осотистая лавда с вызеленью мшистых лепешков, где ягоды не виснут, а горошинами раскатились мхом и упрятались в него до поры до времени.
Как росла клюква шестьдесят лет назад, когда нашел ее крестьянский парнишка – мой отец, и досель каждую осень сочно полнеет она соками озерной воды. Озеро осталось таким, каким открылось оно моему тяте.
Пытаюсь вызвать в воображении, каким он был, мой отец, о чем думал, когда ссыпал горстями ягоды в подол домотканой рубахи, что сказал ему мой дед Василий Алексеевич, умерший еще до моего появления на свет… Пытаюсь заглянуть через себя и снова вспоминаю ночь у озера на второй день самой кровавой войны. И сердцем понимаю, почему не сомкнул отец глаз у огнища, почему не забывалась ему клюква на болотах под германскими бомбами и снарядами. Снежная жижа и жаркая россыпь ягод оживили солдату озеро его детства, и он не замечал, что лежит в зыбуне, и не думал, чем закончится атака. За все большое и святое в жизни выцеливал он двуногих зверей. А в госпитале, когда возвращался к самому себе после контузии, первым признаком жизни были для него ягоды. Много-много ягод увидел он вместо потолка над собою.
Высоко за озером родился басовитый гул. Он наплывал ближе и ближе, и уже угрозно заревел быком-порозом, выпью забухал по Зарослому. Недоступный глазу буравил чистую глубь неба реактивный самолет. Вот он сурово проворчал, и прежняя покойна вернулась на озеро и окрестные березняки. И хотя гудел самолет недолго, звук его перечеркнул все, о чем думалось мне на колеблющейся лавде. Все осталось, как и было: ничем не захмуренное небо и солнечный пригрев, озеро и мы…
К тяте
На большой перемене старшеклассники сманили ребят курить в ложок за часовней, а нас с Витькой Паршуковым брат Кольша позвал нажелубить чины:
– Во какая она сладкая и сытная! И прямо на уроках можно есть.
– А если опоздаем? Попадет нам с Васькой от Таисьи Сергеевны, – заколебался Витька.
– Еще как попадет! – подтвердил я и оглянулся на школу. Учительница у нас сердитая, нервная. Схлопали мы как-то пистонами в классе, так на ногах у доски два урока простояли.
– Успеем! Живо намнем на лопотинах и бегом в школу! – заверил Кольша. – Да и скирда близко, эвон на поле за Шумихой.
Кольша припустил вперед, мы – за ним. Пересекли новину, кубарем скатились в лог Шумиху и с разбега одолели противоположный крутой склон. Поле между логом и краем Одина не ахти какое, необмолоченная скирда чины совсем рядом. Одним махом добежим до нее, скинем лопотины и натеребим гороховины, да ногами и начнем топтать немецкий горох – чину. Долго ли по карману намолотить, не то что летом стручки рвать!
Вдруг нога у Кольши провалилась и утонула в землю, он враз и остановился:
– Хомячья нора, робята! Чего нам колхозное зерно из скирды молотить, лучше разорим вредителя. Поди, дармоед, набил свои сусеки на зиму!
– А што мы найдем у хомяка? – засомневался Витька. – Да и нору у него лопатой не разроешь, а мы с голыми руками. Вон Колька Зыков как-то на Макарьевской поскотине два дня рыл суслика и не докопался до него.
– То суслик, а тут хомяк. У хомяка нора не глыбока, а зерна они на зиму запасают страсть много! Мешками защечными, тятя говорил, натаскивают. Зернышко к зернышку! На ветрогоне или на триере людям так не отсортировать. Мы с тятей сколь раз находили ихние амбары, – рассудил Кольша и послал нас за палками.
На меже у лога лежала полувысохшая березка, выброшенная с пашни весной после снегозадержания. От нее мы с Витькой отломили три сучка, очистили ветки и вернулись к брату. Его охотничий азарт передался и нам, и мы начали быстро раскапывать извилистую хомячью нору. Даже не замечали, что швыряем землю друг на друга, лишь бы скорее добраться до сусека с чиной. Стало нам жарко и лопотины полетели на жнивье, рубахи и те прилипли к телу. Скоро, скоро ли попадется сусек?!
– Ага! Вот он, вот он амбарчик! – заплясал Витька, и я кинулся к дружку. Кольша тоже закричал, и Витька вовремя подскочил к нему. Брат наткнулся в отнорке на хомяка и тот фуркнул наверх, вцепился ему в штанину. Витька удачно выцелил зверька, и хомяк после первого же удара обвис, но зубы не разжал: и мертвого мы еле-еле отняли его от прокушенной штанины.
– Ничего, тело он не задел и на штанине дырки не заметны, – пришел в себя Кольша. – Теперь, робя, за склад беремся!
Чистым угольчатым зерном чины мы натузили все карманы и насыпали в фуражки. Остатки прикрыли соломой и заровняли землей, а для приметы воткнули обломок палки. Только бы кто из людей не нашел, свиньи досюда не добредут, ферма далеко, за озером.
– Сейчас в школу! – опомнился брат. Однако резво бежать мы не могли – опасно. Можно раскрошить чину из карманов и фуражек. Лог и подавно не пересечешь с прежней прытью. Шли осторожно и на ходу убавляли чину из карманов.
Нам казалось, что совсем и немного времени прошло, а на самом деле мы опоздали на последний урок. Возле школы торчать боязно, и договорились дождаться окончания занятий за огородом Степана Васильевича. В завявшей, давно оклеванной воробьями конопле мы и набросились на чину и наелись ее досыта, а звонка все не слышно. И тут мы загоревали о своих сумках: если никто из ребят не догадается их перепрятать в свои парты и незаметно захватить с собой, то учителя заберут и унесут в учительскую. Оттуда сумки даются не нам, а матерям. Нет, не миновать нам бутканцев, излупит мама нас с Кольшей… Если бы тятя был дома, а не на войне, то не дал бы он нас бить…
Пока ели чину, и не думали о сумках, то хвалились, что нам повезло, а одноклассники-то на голодное брюхо решают примеры по арифметике. Ну, ежли кто вынесет наши сумки, тому отсыплем чины! А когда после долгожданного звонка ребята разбежались по домам, мы поняли, что куда несчастнее Маньки Теленочковой с ее одними и теми, же оценками – «колами».
– А если сумки в партах? – робко заикнулся Кольша.
И мы решили проскользнуть незаметно в школу. Лишь ступили на крыльцо, как навстречу наша с Витькой учительница, Таисья Сергеевна Федорова. Ох, не попадаться бы ей на глаза! Шибко не любит она меня и Витьку, и не столь за пистоны, сколько…
Еще до школы холостые парни науськали нас подразнить незнакомую девку придуманным кем-то прозвищем – «кошка». Старших мама наказывала слушаться, и мы с Витькой заорали на всю улицу: «Кошка, кошка идет!» Разве могли мы знать, что она учительница?! А парни, как оказал после дядя Ваня, мстили ей за что-то свое, нам с Витькой непонятное.
Дружка моего мать, Анна Тимофеевна, и пальцем не тронула, только пообещала написать отцу на границу, где Витькин папа служил начальником заставы. Но мне от моей мамы досталось за двоих. При Таисье Сергеевне она и отстегала сыромятной супонью. А толку что? Все равно с той поры ненавидит она нас с Витькой.
– Прогульщики заявились. – Сузила учительница серые глаза, и мы прижались к перилам крыльца. Баская она, может, потому и натравили нас на нее парни? Им-то что, они все на фронте, а мы расплачивайся своей шкурой…
– Завтра без матерей не приходите! Не получите сумки без них, и на уроки не пущу! – спустилась она с крыльца и больше не глянула на нас.
Таисья Сергеевна ушла в магазин под часовней, а Кольша сбегал в свой третий класс, пошарился в парте: но и его сумку отнесли в учительскую. А без сумок из холстины с веревочными лямками не являйся. Каждый вечер мама проверяет, где сумка, букварь и две тетрадки с чернилкой-непроливашкой. Попробуй, не принеси сумку!
Школа опустела, и техничка Матрена Егоровна закрыла ее на медный конский замок – такие раньше вешали на конские путы, чтоб конокрады, по словам бабушки, не угнали лошадей с поскотины или с поля. Замок закрывался винтовым ключом, и его ничем не откроешь. Техничка с хромым сыном Ефимкой Спиридоновым – прозвищем по имени отца – ушли домой. Сумки у них все одно не выпросишь: как огня боятся директора школы Никиту Константиновича Рязанова.
Покуда тепло стоит. Но когда чего-то боишься, то всегда холоднее кажется. Есть не охота, не рады нисколько чине. Видно, не зря дедушка Максим на празднике «красной борозды» твердил: «На што кольхоз разводит ерманский горох? Не к добру, не к добру ето!» «А ты не каркай! – оборвал тогда дедушку Петро Семенович Китай, как его звали за глаза и обязательно шепотом добавляли – «изъедуга». «Я што, я ничего, я в плену у немцев отравлялся етой культурой», – заоправдывался дедушка. А мы хоть и не отравились, зато остались без сумок. Если бы не хомячья нора, то успели бы за большую перемену слазать за чиной. Теперь тремся у школы, и забота одна – сумки…
– Неча, робя, маяться! – заговорил Кольша. – В четвертом классе у трубы не заделали дыру, я залезу с вышки, сумки возьму в учительской и подам Ваське. Ты, Витька, на карауле стой. Ладно?
– Ворами назовут, замок ведь на школе! – испугался Витька.
– Свои же сумки заберем, а свое не воруют. Нечего изгаляться над нами! – рассердился Кольша и полез по высокой лестнице на чердак. Я за ним. А Витька остался у крыльца.
Круглую печь дедушка Егор Олененок перекладывал летом, а дыру у трубы досками не забили, не засыпали землей с чердака. Кольша без лопотины легко пролез на печь, оттуда спрыгнул в класс. Я ждал на вышке, чтобы принять сумки и помочь ему выбраться наверх. Ну, скоро ли он заберет сумки?! Учительская на замок не закрывается, двери там не сплошные, а на две половины, как ставни у крестового дома бывшего богатого мужика Селиных.
Кольша что-то замешкался, и Витька не вытерпел: залез тоже на чердак и запыхтел мне на ухо:
– Где он там? А то техничка полы мыть придет и застанет нас.
Кольша вскоре показался в классе, придвинул к печке стол, а на него взгромоздил табуретку. С нее и подал наши сумки. Вот и все, лишь бы никто не увидал, как мы сиганем с вышки домой! А брат не полез, он показал какую-то книжку и громко сказал:
– Робята! Шкап библиотечный открыт, а в нем книжек с картинками! Айдате, поглядим.
– Домой бы, – протянул Витька. – Какая управа у Матрены? Одни курицы, корову с теленком и овечек у них до войны описали. Спиридон чо-то растратил в заготконторе и повешался, а Матрена с Ефимкой остались без коровы.
– Как хошь, – пожал Кольша плечами и протянул руки, но Витька опередил меня – стал пролазить в дыру.
Книжек, и верно, туго в шкапе, за всю жизнь не проглядеть, а не то что прочитать! И толстенные без картинок, и тонкие с картинками! Эх, вот бы так и сидел тут, но задерживаться-то нельзя, не дома и не в гостях! Да руки сами тянутся посмотреть вон ту книжку, рядом еще интереснее… Расселись мы в учительской за стол, будто у себя в избе, и давай разглядывать книжки.
Первым надумался глянуть в окно Кольша. Тяжелая книжка выпала у него из рук на пол, и он соскочил с подоконника:
– Робя! Живо книжки в шкап и на вышку! Ефимко эвон хромает сюда!
Нам бы обождать на чердаке, когда дойдет сама Матрена, откроет с замка школу и зайдут они с Ефимкой туда, но с перепугу мы мигом скатились с лестницы и мимо Ефимка рванули по домам – Витька на Одину, мы с Кольшей к своему Пожарскому заулку.
– Воры, воры! Держи воров! – завыл Ефимко. Он и без того злой на всех, кто не калека, а тут и вовсе злоба накатила – раз не догнать ему младше себя.
Только у себя в огороде под черемухой и отдышались мы с братом. Вроде, никто не гнался за нами и никто не видел нас, а нам казалось, что сейчас у школы сбежалась вся Юровка и хромой Ефимко рассказывает людям, как Колька и Васька Микитины с Витькой Паршуковым обворовали школу. И нам стало страшно вовсе не потому, что напонужает мама. Это привычное, и рев наш будет слышать лишь сестра Нюрка. Ничего в жизни не брали мы чужого, и тятя сколько ни находил лис в капканах, всегда мы разыскивали, чьи они, и отвозили, бывало, в дальние деревни. Не у кого-то, а у нас, когда жили в селе Бараба, ночью украли с огорода большущий невод. Если что и таскали мы крадче, то лишь тятины пистоны – ребятам постарше, да сами раз схлопали в школе. А завтра все назовут нас ворами, скажут маме, бабушке и сестре, что мы с Кольшей воры. И куда, куда нам деться от позора?!
– Васька! Сходим в избу, сумки отнесем, и если мама дома, скажем после уроков оставляли, – постукивая зубами, оказал Кольша.
Мама стирала в деревянном корыте наши перемывахи, и, не поднимая потное лицо, коротко молвила:
– Похлебка в печке у загнеты. Поешьте и воды принесите.
Стемнело совсем, когда мы с братом вернулись к черемухе, где на лопушки репейника ссыпали давеча чину. Сели и пригорюнились.
– Что делать-то, Кольша?
– Думать неча, к тяте на фронт пойдем. Тятя нас не прогонит, мы ему помогать станем.
– А што мы поможем?
– Воевать, чо больше!
– Кто нам даст оружья? Я из тятиных и то не стреливал.
– Тогда ты патроны будешь заряжать, а мы с тятей стрелять по немцам.
– Не, Кольша, не дадут нам оружья.
– А мы рогаток наделаем. Резину я с лета приметил на окошке в кузнице. Стеколко там разбито, с улки вытащим. Все равно она не нужна, полуторку колхозную когда еще на фронт послали.
– Как мы найдем фронт?
– Найдем! Сыздали услышим, где стреляют.
– А когда мы пойдем и покуда?
– Перво-наперво, в Барабу, пропиталом запасемся.
– Маму, Кольша, жалко, потеряет она нас.
– Хы! Лупить-то ей нас не жалко! Сказывать не станем, я на сумке химическим карандашом печатными буквами написал, куда мы ушли.
– Чо ты напечатал?
– Што нас не теряйте, мы к тяте на фронт пошли. Давай чину собирай – и айда! – перешел брат на шепот.
– Кольша, Васька! Где вы? – крикнула мама в ограде. – Хватит вам болтаться на улке!
А мы уже перелезли прясло Пожарского загона и побежали за резиной в колхозную кузницу, что на берегу Маленького озерка. Не будь рядом Кольши, я бы заревел. Но теперь я боялся выказать трусость – вот не возьмет меня с собой на фронт, и я тятю не увижу, и в школу никак нельзя идти…










