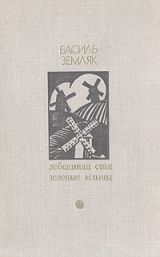
Текст книги "Зеленые млыны"
Автор книги: Василь Земляк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Часть вторая
Кто бы мог подумать, что вавилонские качества Явтушка проявятся с новой силой после того, как он останется без собственного поля, без лошадей, которых он собирался со временем сменить на волов серой глинской масти – непременно серой, ибо он верил в глубине души, что добираться до выношенного им в мечтах счастья лучше всего как раз на таких волах, – останется без борон, катка, сепаратора и плуга (какой был чудесный плуг, так, впрочем, и не заплатил за него Явтушок Моне Чечевичному!), останется без телеги, которая, кроме прямого назначения, служила ему еще каждое лето по ночам ложем, для чего была застлана соломой либо сеном, а днем прикрывала от солнца, и лежа под ней в холодке, приятно было разглядывать колеса, любоваться после хорошего обеда идеальной простотой их совершенных форм – непостижимый полет мысли улавливал Явтушок в этом единстве обода и спиц, свидетельствующем, казалось, о непрерывности мира; он был убежден, что по принципу колеса устроена и сама солнечная система со всеми планетами и их спутниками, и потому считал колесо творением скорее самого господа бога, если он есть, а не человеческого разума, в возможности которого Явтушок не очень верил, полагая, что тот более приспособлен разрушать, чем «г созидать. Пока у Явтушка все это было, он вполне серьезно верил в фантастическую свою идею, что когда-нибудь он все же возвысится над Вавилоном и если уж не овладеет им, то по крайней мере покорит его себе хоть на последние годы жизни. Был у него при этом еще верный расчет на плодовитость Приси, которая могла заселить весь Вавилон его, Явтушка, детьми. Ну, разумеется, его – в той мере, в какой это делалось до сих пор (он не снимал со счетов и Соколкжов, однако и себя еще чувствовал не последним воином).
Глава ПЕРВАЯ
Так он обмозговывал все это в часы, когда возлежал на телеге и под телегой, более всего увлеченный идеями о колесе, да и обо всей вселенной, и порой свершение мечты казалось таким близким, что он мысленно уже правил Вавилоном, сидя на золотом троне, и только не мог придумать, как ему скрыть на троне свои красные, словно вареные раки, и вечно потрескавшиеся ноги, провались они пропадом! Это сильно тревожило его, ноги ведь и в самом деле были противные, а он не мог и помыслить о летней обувке даже и на троне – любил, чтобы ноги летом дышали, а не задыхались в дубленой коже, будь то хоть шевро. Словом, Явтушок готовил себя к чему то призрачно великому и неизведанному, но уже запечатленному в его мозгу и душе, но пока все это надо было угасить в себе и стать самым обыкновенным Явтушком. Вскоре он не мог уже среди колхозного инвентаря отличить свое – не узнавал ни телегу, ни плуг, ничего, кроме лошадей, ради которых, чтобы хоть малость облегчить их житье, сначала пошел работать конюхом, а затем выбился в старшие конюхи. Однако со временем его лошади перестали его узнавать, не ржали, когда он приходил на рассвете, за что он однажды с досады отхлестал их кнутом, а потом плюнул на них и всю свою любовь к лошадям перенес на серого в яблоках жеребца донской породы, приобретенного колхозом за большие деньги, взятые в Глинском банке, как думал Явтушок, в вечный кредит. Так и случилось: жеребцу что-то подсыпали в кормушку, он зачах и вскоре угодил на конское кладбище. Тогда Явтушок выходил двух молодых жеребцов полукровок, тоже серых в яблоках, только яблоки были чуть помельче отцовских.
Старший конюх – высокий пост, и Явтушок занимал бы его, может, и до самой смерти, верь он до конца, что колхозы – дело прочное, а не времянка. Но каждое утро у него было такое чувство, что он идет в конюшню последний раз. Чувство это нарождалось и росг ло по утрам, когда Варивон Ткачук, новый председатель, присланный из Глинска, раздавал вместе с бригадирами наряды – беготня, крик, гам, – а потом все приходило в норму, в этом утреннем хаосе верх брал порядок: колхоз продолжал существовать, и власти не делали никаких заявлений, нигде не возникало и намека на то, чего так ждал Явтушок. А он выискивал эти намеки в газетах каждый день, когда вавилонский почтальон Протасик, этот великий марафонец, приносил из Глинска свежую почту.
Начальник «почт и телеграфов» Харитон Тапочка настойчиво требовал оснастить Протасика подводой, но телеги свободной не было, а сесть верхом на лошадь Протасик не отважился бы даже по приказу самого Тапочки и потому носил почту пешком, всякий день преодолевая больше тридцати километров (в Глинск и назад), из за чего запаздывал с разными декретами на целые сутки. Постепенно Явтушок потерял надежду, что когда-нибудь выйдет ожидаемый им декрет, но от этого в его душе мало что изменилось. И, получая после жатвы свои и Присины заработки, умещавшиеся в двух трех мешочках, он говорил: «Вот это капнуло, провались оно…» Зато позднее, через год другой, когда они с Присей грузили для себя на складе колоссальный во зище, запряженный волами, Явтушок правил не прямо домой, а через Австралию (самый дальний край Вавилона), чтобы пакостные односельчане видели, каков Явтушок с хлебом. Сама гордость, само достоинство.
И все же Явтушок есть Явтушок, его одним хлебом не угомонишь, ему подавай либо райскую жизнь, либо собственную землю, на которой рабство было бы ему милей свободы. А тут еще Фабиан с этим своим древним Вавилоном, который будто бы погубила роскошь. То ли он вычитал где то, то ли сам выдумал, что в роскоши доблести никакой. Дома у Фабиана холодище, и он чуть ли не каждый вечер приходит на конюшню греться. С козлом, в бекеше Бонифация, которая уже на ладан дышит, в заячьей шапке. И все в тех же золотых очках. Залягут на сене, козлик жует жвачку, а Фабиан заводит Явтушку про древний Вавилон, да так, словно там живет и знает каждый вавилонский камешек. Бродят себе по улицам эдакими скифами после египетского или персидского похода, победителями, у которых полные мешки золота; рабынь покупают на одну ночь, на кострах под открытым небом жарят для них молоденьких буйволят, а из медных жбанов льются южные вина – скифы правили тем Вавилоном без малого двадцать восемь лет. Женщин тамошних брали в жены, а вавилонянка – истинное чудо, в ней соединилась кровь множества народов: персов, иудеев, мидян, филистимлян, ну и, ясное дело, самих скифов, да к тому же она не просто женшина, а владелица большого состояния: вавилонянки владели собственностью независимо от собственности мужчин. Потому колхоз и уравнивает женщину с мужчиной: вот это мои трудодни, а вон то – твои. А имущественное равенство означает, что женщина становится независимой, равноправной, может даже мужей менять, как ей заблагорассудится.
Тут Явтушок вскакивает с сена, хватает свой кнут, которым пугает жеребцов на прогулках, и под хохот других конюхов звонко стреляет. «Убил бы свою на месте!» «Ничего, привыкнешь», – утешает его философ. «Чтобы человечество вернулось к старому? Да никогда не бывать тому!» Потом он всю ночь не дает Присе отдыха. А все фантазия. Она разыгрывается после таких рассказов про умерших две тысячи лет назад вавилонских блудниц. И удивляется Явтушок, почему Фабиан ничего такого не фантазирует, вот ушел себе с козлом спать на Татарские валы, а ведь и в нынешнем Вавилоне одиноких баб хоть пруд пруди. Как идти с запруды: Рузя, Яся Болотная, Мальва, Клавдия Опишная (Никодима Опишного прошлый год соломорезка убила), Меланя Калашная – Калашный служит сверхсрочную где то там у самой Маньчжурии, – и пошло, и пошло… Но, конечно, наивысшей похвалы заслуживает Клавдия Опишная – стройная, лицо красивое, а руки такие пухленькие, теплые, что когда она обняла Явтушка весной (он вспахал ей огород), так он чуть не сомлел в ее объятиях. Прежде он никогда не думал, что может нравиться женщинам. Зимой ему нет причины податься к Клавдии Опишной. А весной, может, снова вспашет ей огород… Плуг найдется, а лошади все под ним. Но родные детки сместили его с должности старшего конюха. Незадолго до этого пропал из конюшни его, кнут для жеребцов, и это было для него недоброй приметой. Кнут никудышный, веревочный, только и проку, что стрелял звонко. Потом пропали два фонаря «летучая мышь», а за ними и сам старший конюх… Впрочем, это все из области мистики, а реальные события развивались совершенно нормально, если учесть влияние Явтушка на детей.
Вот как они развивались эти. на первый взгляд вроде бы и незначительные события. В Вавилон прибыло к уборке несколько сноповязалок. Явтушок не мог налюбоваться ими, пока они стояли во дворе и смущали его душу единоличника своим совершенством и в особенности своей окраской. Сами зеленые, дышла красные, а крылья голубые с желтыми грабельками – так и хотелось взять это крыло в руки и расчесать им себе волосы, которые до сих пор обходились Присиным сильно поредевшим гребешком. Манильский шпагат для сноповязалок прибыл с некоторым запозданием, а когда все же прибыл, его мотки произвели на Явтушка не меньшее впечатление, чем сами сноповязалки. Явтушок не поверил своим глазам, когда сноповязалки, заряженные шпагатом, начали сбрасывать со своих столов готовые снопы, связанные так крепко, как ни одна из вавилонянок не связала бы их с помощью перевясла. И тут Явтушку пришло в голову запастись шпагатом на тот случай, если колхоз когда-нибудь распадется и одна из машин (а их было целых пять) окажется у него на дворе. Готовые снопы складывали в копны не сразу из под машины, а через день два, чтобы дать им просохнуть. Этим Явтушок и воспользовался, роздал своим ребятишкам ножи (когда то он наточил их для очистки свеклы) и, дождавшись ночи, вышел со всей оравой на поле брани. Снопы лежали, озаренные луной, как убитые солдаты, – все поле было усеяно ими. Явтушок повел своих маленьких мародеров в самую гущу, где пшеница была буйная и теперь лежала сноп к снопу, сказал деткам: «Это когда то было наше поле, потому и уродило так густо», – и давай грабить. За каких нибудь два часа набрали шпагата полный мешок, Явтушок даже кряхтел на обратном пути, возвращаясь с трофеями. Когда они вернулись, Прися с малышами спала, но проснулась и за ломила руки от горя, узнав, куда муж водил детей с ножами. Явтушок едва успокоил ее, он сидел на мешке, обессиленный и жалкий, в ужасе от бессмысленности своего преступления против хлеба, против Вавилона. Так тот шпагат и валяется на чердаке, даже мыши не смогли его сгрызть, но когда Прися про себя ругает Явтушка, она клянет его такими словами: «А, чтоб тебя шпагатом вязало да корчило, одна только я знаю, как ты мне осточертел!» Но когда требуется завязать мешок, чтоб нести зерно на мельницу или петуха на ярмарку, Прися мигом вспоминает про шпагат на чердаке – там этих завязок на всю жизнь хватит. Варивон долго не мог забыть о злодее, раздевшем снопы, хотя был уверен, что такое количество снопов одному раздеть не под силу.
Зимой сноповязалки снова привлекли внимание Явтушка, но уже с другой стороны. В Вавилон в ту зиму пришла мода на лыжи, на изготовление лыж годилось все, что можно распаривать в котле и загибать. И тут Явтушку вспомнились крылья сноповязалок, стоявших рядком под навесом. Он проник туда, убедился, что крылья буковые, из каждого крыла можно сделать лыжу, и занялся этим, не теряя времени. Изготовил на пробу первую пару, сам съехал на них и лихо шлепнулся на пруду. Последнее, разумеется, не помешало ему открыть в хате мастерскую по изготовлению лыж. Надо было видеть, как он парил доски, с которых не сошла еще заводская краска, как потом тщательно, аккуратно загибал им носы… А когда поставил явтушенят на лыжи, любил стоять у крыльца и смотреть на эти свои произведения уже в деле. Таких стремительных льтж, как у Голых, не было в Вавилоне ни у кого. Старшие явтушенята брали на них участие в районных кроссах. И опять никто не раскрыл преступления, только перед следующей жатвой, когда кинулись к сноповязалкам, обнаружили, что они без крыльев, все до одной. Варивон Ткачук так разволновался, что бедняге стало плохо, его уложили под навесом, расстегнули ворот рубахи и привели в сознание водой, принесенной из кузницы (там Павлюки держали воду для закалки лемехов и кос), а Явтушок, тоже очутившийся под навесом, бегал от одной сноповязалки к другой и вовсю поносил преступника: «А, чтоб ему руки оторвало, как он – крылья! Ка кие крылья были! Как сейчас вижу…» Фабиан потом целый месяц делал в мастерской крылья. Явтушок. заглядывал к мастеру, любовался его работой, а лыжи меж тем рассыхались на чердаке у этой хитрой бестии!
– Твоя работа, Явтушок? – спросил Фабиан.
– Крылья? Господь с вами. Не враг же я детям своим, – окончательно обескрылев, взмолился Явтушок и принялся помогать мастеру – тесал зубья из граба (а сырой граб – как железо!).
Разбойничьи налеты Явтушка могли бы безнаказанно продолжаться, если бы Лукьян Соколюк следующей зимой не заметил из своего оконца несколько пар голубых лыж, на которых спускались с горы явтушенята. Цвет лыж напомнил ему крылья сноповязалок. Лукьян встрепенулся, надел полушубок, шапку и вышел к Явтушенятам. Папенька их стоял у крыльца, радовался, глядя, как его детвора развлекается, подбивал младших не бояться смерти, разгоняться с горы так, чтобы перелететь через весь пруд, до самых Чапличей, чье дворянское гнездо за эти годы съехало на самый низ и теперь очутилось под горой (а ведь было когда то на горе – Явтушок хорошо помнит то время). Чаплич – потомственный дворянин, род его перевелся, последнего потомка, Домка, он, Явтушок, отвез на кладбище в голодный год, а род Голых живет и здравствует, мчится с горы и карабкается на гору. Нет, зима – это все-таки диво, звуки ее услаждают слух какой то непостижимой музыкой, веселят душу…
И тут, откуда ни возьмись, Лукьян Соколюк, пред сельсовета.
– Добрый день, Явтуша…
– День добрый, председатель. Стою вот – и душа радуется. За сыновей, лихоманка его забери! Жаль только, что твоего меж ними нету… Хе хе хе…
– Как же нету? Вон он, на санках.
– Нет, я говорю про Михаська. Среднего. Того, что помер. Слабенький был, вот и пошел в ангелы. Служит господу богу. Признайся, ведь твой был?.. Дело давнее, и зла я не держу…
– Смешной вы, Явтуша. Разве в этом признаются?.. Пусть бы даже и так. Вон моя Даринка второго младенчика принесла, может, и не от меня, да кто об этом знает, кроме нее? А отец я. И законный.
– Это бог тебя покарал за мою Присю. Хе хе хе!
– Если даже так, то не бог, а судьба, – засмеялся председатель.
– Да это уж все равно, кто…
Когда Ясько поднялся к самой хате, Лукьян подозвал его к себе. Снял с него лыжи, взял одну, внимательно осмотрел, нет ли на ней зубцов, потом вернул Яську. Тот надел крепления из сыромятной кожи, полетел вниз, к Чапличам, и тут Явтушок побледнел как полотно. Догадался, зачем пришел Лукьян. Он попробовал замести следы.
– Мастера на все руки. Всё сами… Вон что из ваших вязов понаделали… Режут, тешут, парят, гнут – все сами…
– А крадут тоже сами? – и Лукьян повернулся и пошел от хаты. С таким видом, что у Явтушка не осталось никаких сомнений в его намерениях. Он бросился за Лукьяном, обогнал, стал перед ним.
– Христом богом молю! Не приводи Варивона. Моя работа, моя. Только пощади, Лукьяша! Не позорь перед Вавилоном. Детишки же растут. А ты ведь знаешь Варивона. Он не пощадит. В тюрьму посадит. Деток осиротит.
– Все бы мог простить… Но крылья… Думаешь, я не видел твоих завязок на мешках?:
– Так это же когда было!
– Иди, повесься на том шпагате. Крыльев я тебе не прощу! – И он пошел к воротам.
– Лукьяша! Соколик! Детки! Прися! Все сюда! Живей, добра бы вам не было, живей!
– Что, папа? Что? – откликнулись с горы.
– Ловите дядю Лукьяна! Да ловите же, говорю! Не дайте ему уйти! Прися! Прися!
Выбежала Прися, прямо от печи, с ухватом.
– Что тут такое?
– Дети! Держите его, просите!
– Кого? – не поняла Прися.
– Да Лукьяна! Пошел рассказывать про лыжи. А ведь это же крылья, крылья!..
Лукьян уже спустился к пруду, через который вела старая утоптанная тропка, и тут его нагнала Прися в постолах на босу ногу, в руках ухват. Упала перед ним на колени, в глазах не то отчаяние, не то мольба. И Явтушата за ней – друг за дружкой. Все подростки, разгоряченные, бойкие, глаза горят – могут повалить, могут и прикончить. Все собрались, один Явтушок дрожал у крыльца. Прися показала на них:
– Отработают они эти крылья. Погляди, какие. Да ведь в них, может, и ваша кровь течет, погибели на вас нет, безжалостные! – Тут она опомнилась, бросила детям: – Ступайте! – А потом ему: – Ну, взял Явтушок крылья, взял! И что? Вавилона от того убыло? Или возмещать потерю пришлось твоему Варивону? А эти пойдут в армию, будут там бегать на лыжах, прославлять на маневрах Вавилон. Или, может, не будет уже их больше, маневров то?
– Будут. Только при чем тут крылья?
– Да крылья то у человека где? Тут, – она показала на грудь, – а не там, дурень. Там – дерево…
– Гляди ка, я же еще и дурень…
– Да умный то разве побежит к Варивону? Кто тебе Варивон? Чужой человек. Был и нет его. А нам еще жить да жить. На одном погосте лежать, может…
– Ну вот, уже и погост…
– А что – погост? Погост – второе село. Второй Вавилон. Вы же, мужики, и там бегать будете… Знаю вас, треклятых…
– Ха ха ха!
Это смеялся у крыльца воскресший Явтушок. Он то слышал каждое Присино слово. Аи, Прися, аи, сила! Слава тебе во веки веков! И Явтушок осенил себя крестным знамением, потому что Лукьян вернулся, пошел домой, только погрозил им кулаком. Побежала домой и Прися, вспомнив о каше в печи. Пробегая мимо, бросила мужу:
– Бескрылая кикимора…
– Ничего, ничего. Увидишь меня на маневрах…
– Тебя?..
– Нет. Моих сыновей…
– Вот я тебе сейчас устрою маневры… – Она замахнулась ухватом – Явтушок отскочил, а снег высокий, ну Прися и шлепнулась. – Эх х хе хе хе! – смеялся Явтушок.
Потом он вырыл из снега ее постолы, принес их в хату и тихонько поставил сушиться у печи. Ухваты, как всегда, стояли в углу, вместе с лопатой для хлеба, заслонка – на месте, а Прися лежала навзничь на печи и плакала. Тихо плакала над мужниной бескрылостью. И порешила: вот будут маневры, проучит его. С первым попавшимся старшиной, который станет к ним на квартиру. Так и порешила сквозь слезы…
А Явтушок во время маневров боялся не за Присю. Прошедшей весной он снова вспахал огород Клавдии Опишной. Жал на лемеха, как на родимом клину. Обоих жеребцов замучил, но из огорода сделал картинку. Клавка – так он называл Опишную – рассыпалась в благодарностях, угощала его так, что он едва добрел до конюшни.
Все ждали маневров, а пуще всего одинокие женщины и поседевшие в девках красотки, которые и детьми разжились, а вот замуж так и не вышли. Одни потеряли своих будущих мужей еще девушками, другие проводили женихов на военную службу, да так и не дождались назад: те осели где ни попадя, лишь бы не дома. Одинокие женщины Вавилона, словно осенние аисты: на лето прилетят в паре, а в теплые страны нередко отлетают вдовами. Того громом убило, тот сгорел от сивухи синим пламенем, тот провалился на Журбовском пруду вместе с лошадьми, а иной променял красавицу вавилонянку на какую нибудь оборванку в Прицком и подался туда. У Клавдии Опишной был когда то примак из Козова, да оказался таким лодырем несусветным, что пришлось ей взгромоздить его на телегу и вывезти из Вавилона ко всем чертям, чтоб не наводил тоску. Теперь она ждала маневров, надеясь завоевать на них командира или хоть рядового. Как то зашла к Мальве, бросила на топчан дорогую материю: «Одень меня к маневрам». У Мальвы был «зингер», одна из самых чудесных ножных швейных машин, шить она выучилась у старшей сестры, и хотя большой мастерицы из нее не вышло, вавилонским модницам нравилось, как она шьет, и она с удовольствием обшивала их за символическую плату. Если глинские портнихи брали за платье три четыре рубля, то Мальва такое же платье шила за десяток яиц, то есть почти бесплатно. Сорочки шила за ко пейки, а за лифчики и вовсе никакой платы не брала, поскольку сама всякий раз убеждалась, что они удаются ей хуже всего. Вавилонянки все такие грудастые, что скроить лифчик на любую из них – почти невыполнимая задача. Мальва и для себя то с этим справиться не могла. С Клавдией Опишной было столько хлопот, что Мальва едва успела обшить ее до маневров. А ведь надо было еще и о себе позаботиться – сшить новое платье из крепдешина, белое с турецким узором.
Тем временем сельсовет взял на учет все хаты, годные для постоя, учитывая при этом не только уют и чистоту, но и возможные контакты е защитниками Вавилона. У Клавдии Опишной, принимая во внимание как ее внешние данные, так и кулинарные способности, в которых не раз убеждался вавилонский актив, намечено было поселить самого комкора Криворучка. Лукьян Со колюк провел с нею задушевную беседу о том, как ей, хозяйке, вести себя с комкором. Не хихикать без причины, не заводить шашни с подчиненными комкора, не интересоваться ходом маневров, не поминать своего негодника Тимка Грешного, вывезенного из Вавилона на волах, и не болтать ничего лишнего о самом Вавилоне, чтобы не принизить его в глазах командования. За харчи для постояльца отвечает Варивон, так что Клавдия может быть спокойна: сельсовет – с нею. Гостю, верно, захочется полакомиться местными блюдами, такими, как домашние колбасы, зельц, индейка с черносливом, которую Клавдия изредка готовит для гостей актива. Потом Лукьян пожелал глянуть на Опишную в обновках, и ей пришлось сбегать в "чулан переодеться. Когда она вышла оттуда, председатель едва узнал ее – да, такая женщина несомненно произведет впечатление на комкора. Мальве удалось так подчеркнуть все ее прелести, что Лукьян не мог оторвать глаз от ее фигуры, которой уже и сейчас ничего не стоило покорить самого стойкого аскета. На ней еще, правда, не было сафьяновых сапожек, но идеальную форму ее босых ног, созданную на вавилонских буграх не одним поколением Бехов (ее девичья фамилия), не могли испортить и парусиновые туфли. И Лукьян ушел, вполне удовлетворенный осмотром хаты и хозяюшки.
Подобным способом было проинспектировано и все другое жилье, предназначенное для постоя легендарных конников, которым предстояло оборонить Вавилон от «наступления белых». Квартирмейстеры Криворучка, прибывшие за несколько дней до прихода корпуса, остались довольны и самими квартирами, и хозяйками этих квартир, чье гостеприимство изведали еще до маневров. Один из квартирмейстеров, немолодой уже капитан, так увлекся Опишной, что просил предсельсовета оставить ее хату за ним, а комкору подыскать помещение ближе к штабу, под который была отведена школа – каменное здание на высокой горе. Но председатель сослался на то, что в хатах вокруг школы живут многодетные семьи и он не может селить комкора ни в одну из них. К тому же неизвестно, сколько продлится «оборона» Вавилона. «Это не война, товарищ председатель, а только маневры», – пояснил капитан. Речь шла о неделе, самое большее – о двух. И тут Лукьян выведал таки у капитана, что «белые» намереваются брать Вавилон с помощью воздушного десанта, а десант, как известно, операция, рассчитанная на внезапность и стремительность, так что все может закончиться и в один день или в одну ночь.
Авангард Криворучка, уклоняясь от бомбовых ударов, прибыл в Вавилон под прикрытием темноты и к утру рассредоточился так, что воздушные разведчики уже на рассвете не могли обнаружить ни малейших признаков присутствия в Вавилоне войск, они наткнулись лишь на несколько эскадронов, вошедших с рассветом в Прицкое со стороны Козова. Поэтому вслед за разведчиками над Прицким появились бомбардировщики, должно быть вызванные по радио, и демаскированные эскадроны были рассеяны по степи вокруг села. По правилам маневров, Криворучко вынужден был считать эти эскадроны «погибшими» и не включать их в «операцию». Несколько представителей «белых» при штабе Криворучка неотступно следили за соблюдением «правил игры», и комкор не мог от них ничего скрыть, как, впрочем, и от вавилонян. Те буквально на другой день уже знали всех «белых» в лицо – их было человек пятнадцать во главе с полковником Шумейко, и особенно выделялся среди них капитан Чавдар, летчик, высокий, белокурый северянин, родом из Великого Устюга (вавилоняне произносили «Устюка»), Стоял капитан у Мальвы Кожушной (вавилоняне неохотно брали на постой «белых»), был у него под Вавилоном на клеверище самолетик, и он сам летал на нем, неотступно следя за всеми передислокациями корпуса. В Вавилоне уже через несколько дней окрестили Чавдара «белым», и когда Мальва приходила к Ткачуку за продуктами для постояльцев, тот выписывал со склада «белым» наполовину меньше того, что отпускал дляродных наших конников. Однако сам Криворучко относился к Чавдару доброжелательно, не раз пользовался его самолетиком, приглашал капитана на обеды к Опишной, где, кроме них, непременно бывал Иполковник Шумейко, представитель военного округа, в прошлом тоже кавалерист, а ныне командир танкистов. К Опишной Криворучко был эполне равнодушен, за обедом добродушно подшучивал над ее хлопотами, а платье ее только смешило комкора, который, верно, разбирался в модах. Зато ее модистка понравилась ему с первой же встречи, с того вечера, когда он впервые стал с нею на качели. На них Криворучко летал как оголтелый, особенно с тех пор, как убедился в крепости цепей, а вот самолетика боялся и, когда Чавдар делал на нем элементарную «бочку», кричал из своей кабины: «Егор, Егор! Не дури!» Не верил он в полотняные ремни, боялся, что выпадет из машины. Чавдар тоже увлекся Мальвой. В один погожий день он попросил у нее разрешения покатать на самолете ее сынишку Сташка, привязавшегося к капитану крепко и безоглядно, как привязываются только дети, вырастающие без отца. Мальва отделалась шуткой: «Лучше покатайте маму, если уж так хочется себя показать». – «Ночью нельзя, а на рассвете пожалуйста».
И вот однажды на рассвете, когда в Вавилоне сменялся караул, они вдвоем поднялись с клеверища и стали летать над степью. Комкор уже проснулся, вышел с биноклем, увидал самолет, а на нем Мальву. Улыбнулся, хотя и усмотрел в этом полете грубое нарушение воинской дисциплины. Но если уж Чавдар отважился на такой поступок, стало быть, неспроста. А Мальва чувствовала себя в воздухе как птица (это все качели!), смеялась, когда самолетик набирал высоту, а потом соколом летел вниз.
За обедом комкор погрозил Чавдару пальцем, но промолчал, за что – ясное дело, за Мальву, за этот полет с нею. А после обеда сказал в сенях:
– Твое счастье, что Шумейко спал. На маневрах такие штуки даром не проходят. Чтоб это было в последний раз…
В Великом Устюге все деревянное: тротуары, улицы, дома и храмы. Только колокола в храмах из чистой меди. Говорят, их слышно чуть ли не по всему югу России, а впервые зазвонили они в честь коронации Ивана Калиты. Потом великоустюжские мастера деревообделочники понесли свое искусство в стольные грады, там их работы славятся и поныне; знаменитые Кижи на Ладоге тоже как будто дело их рук.
Егор Чавдар вырос в семье знаменитых мастеров. Каждое лето отец и семь его сыновей шли возводить деревянные церкви дивной красоты. Егор был подростком, но и его брали с собой – для науки. Мальчишка не боялся высоты, на деревянных куполах чувствовал себя крылатым, и старый Чавдар радовался, что у него такой славный наследник. На зиму возвращались в Устюг, проедали свои заработки, праздновали весной пасху и снова уходили – то на Валдай, то в Поволжье, а то и на Новгород Северщину, где издавна отдавали предпочтение деревянным храмам. Последнюю свою церковь Чавдары сложили в Батурине, там они схоро нили своего отца, который сорвался с кровли вместе с незакрепленным куполом. Купол сыновья поставили на место, но большая их семья без отца распалась, рассеялась по свету. Двое старших братьев погибли на первой мировой, четверо сменили профессию – пошли в плотогоны, шахтеры, литейщики, а вот он, Егор, летает. Меняются аэродромы, из глубины страны все передвигается сюда, к западу и. к западу, вот он и кочует с аэродрома на аэродром своим небесным ходом – еще недавно стояли в Чугуеве, а перед маневрами очутились уже тут, под Житомиром, на реке Гуйве. Он один, ему легко взлетать и приземляться. Бывали у него знакомства, возникали вроде бы и увлечения, но все это было непрочно, недолговечно, попутно. Там, в Великом Устюге, у них огромный сруб, сложенный бог знает когда, наверно, еще самыми первыми мастерами, мать держится за это гнездо, старенькая уже, не в силах скитаться с ним по аэродромам, где, впрочем, есть своя суровая и красивая романтика, доступная разве что им, летчикам, да еще их женам.
– Если бы вы согласились, Мальва, то после маневров……..
– Ну, ну, что после маневров? – На мою птичку – и прямым курсом на Гуйву. А это, должно быть, красиво – быть женой военного
летчика. Он где то там, в поднебесье, а ты ждешь его, волнуешься, переживаешь. Не то что Журба: каким идет на свеклу, таким с нее и возвращается. Мальва прикидывала: а не мог бы ее Журба взмыть в небо?
– И вы это серьезно, Егор?
– Я где – на маневрах или еще где нибудь? А на маневрах, Мальва, все серьезно. И это тоже серьезно! Перед вами не мальчишка какой нибудь.
– Быть бы вашим маневрам на годик раньше, – рассмеялась Мальва. – Замужем я. И к тому же не впервые. Так что никак не могу с вами полететь. На Гуйву там или за Гуйву – все равно не могу.
– Я слышал… Вы его любите?
– Не знаю…
– У вас дети от него?
– Нет…
– Так что же вас держит?
– Что? Человек он. Прекрасный и чистый человек. И тоже летает…
– Он летчик?
– Нет, агроном. Но такой, божьей милостью…
Вот и все объяснение. Да и не будь Журбы, разве она решилась бы со своими болезнями испортить этому соколу жизнь? Да никогда! Это было бы легкомыслием с ее стороны. Но тут, на маневрах, она привечала Чавдара, втайне от матери, втайне от корпуса, скрывая свое чувство. Да только разве можно скрыть что-нибудь от вавилонян? Они будто по глазам читали, что у нее на душе: «Совсем ожила наша Мальва на маневрах». Для пересудов довольно было уже того, что она полетала над Вавилоном. Но ее все эти пересуды не трогали – могла же она по настоящему влюбиться…
Накануне высадки десанта на корпус обрушилось еще несколько бомбовых ударов, представители «белых» скрупулезно подсчитали потери, а Шумейко подтвердил их в своем донесении на имя командарма.
Ночью позвонили, что десант сброшен на Козов и там завязались уличные бои с кавалерийской бригадой. Шел четвертый час утра, но штаб был уже на ногах, во все концы мчались вестовые, – подымать корпус. Ни штаб корпуса, ни наблюдатели «белых», ни сам Шумейко не знали, как будут развиваться события, все было брошено на ликвидацию козовского десанта, – Чавдар и Криворучко полетели туда на По, но едва самолет приземлился, как над ним в небе проплыла десантная армада, таща на буксире десятки планеров. Над Вавилоном планеры стали отделяться от тягачей и плавно снижаться над степью.








