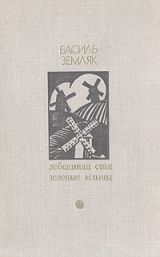
Текст книги "Зеленые млыны"
Автор книги: Василь Земляк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Пограничная стража проводила его к Мокию (муравьиные цари и вельможи брали себе человеческие имена), который правил здесь с последней войны. Мина стоял перед ним несчастный, изможденный, больной, но верил в торжество справедливости, и это придавало достоинство его фигуре. Мокий, окруженный свитой и гвардией, долго смотрел на царя Мину, разумеется, узнал его, но сказал:
– Не он… Впервые вижу… Может быть, кто-нибудь из вас? – обратился он к свите. – Что скажет Макарий?
Макарий, верховный судья, сказал:
– Ничего общего… Разве что за исключением окраски…
– Как же так, Макарий, я царь Мина, сын Никона… Ваш царь.
– Я еще не слепой! – возмутился Макарий. Тогда снова заговорил Мокий:
– Сынок! За такие речи я, конечно, мог бы отрубить тебе голову вот этим мечом, которым когда то наградил меня царь Никон. Но мое великодушие и попечение о подданных не дозволяют мне лишать жизни кого бы то ни было из тех, кому я могу ее даровать. Так учил меня Никон, так учил и царь Мина, погибший на последней войне.
– Но я же не погиб. Я здесь. Вот я, перед вами. Макарий, – обратился Мина к судье, – ведь не кто иной, как я, сделал тебя верховным судьей, хотя царь Никон и предостерегал меня, говоря, что ты коварен и бесчестен.
0
– Царь, – обратился высокочтимый Макарий к Мо кию. – Я советую тебе казнить этого самозванца. Ведь нам надлежит печься и о мудрости нашего племени, а ты ж видишь – этот пришелец не в своем уме, раз он смеет выдавать себя за царя Мину, так доблестно погибшего у меня на глазах.
– Свершайте! – повелел Мокий.
Явились палачи – два воина с гигантскими челюстями. Оба узнали Мину, но повеление царя было для них превыше всего. Мина подумал, что больше не увидеть ему Пани, к которой у него пробудилось странное, не испытанное до сей поры чувство, неведомое муравьям. И он обратился к царю:
– Мокий! Ведь не кто иной, как ты, когда то учил меня, что есть на свете любовь. Ты говорил мне, что это высокое чувство неведомо нам, муравьям…
– Ну, ну, дальше…
– Ты говорил, что у кого оно пробудилось, тот как бы вновь родится на свет, становится молодым, сильным, смелым. Ты сожалел, что нам неподвластно это чувство и потому род наш обречен жить в мрачном подземелье, плодиться не от бесчисленных матерей, а от одной матери. Мы лишаем плоти миллионы существ, которые могли бы влюбляться, любить, радоваться жизни. Вместо этого мы превращаем их в роботов без права любить и рожать!
– Так когда-нибудь станет и с людьми, ведь мы древнее их. Каждому суждено пройти свой путь усовершенствования. Мы прошли его раньше их, они когда-нибудь придут к тому же. Что ты просишь?
– Отпусти меня…
– Ты влюбился?
– Да.
– В кого же?
– В одну земную царевну…
– Несчастный. Я отпускаю тебя, но без права возвращения. Да, Макарий?
– Да. Это мудро, царь. Твое великодушие…
– Проводите его, – не дослушав Макария, повелел Мокий солдатам.
Мина поклонился и двинулся к главным воротам. Он бежал быстро, и солдаты едва поспевали за ним. Мина боялся, что Мокий передумает. К тому же он хорошо
0
знал коварство Макария. Будучи царем, он сам не раз пользовался им. Страшная ненависть к царям поднялась в нем, когда он стоял перед Мокием и ждал приговора. Теперь только бы поскорей убраться отсюда.
В воротах заминка. Кто? Куда? Когда вернется? Охрана прикинулась, что и она не узнает своего недавнего властителя, стражники учинили ему позорный и придирчивый обыск, словно он мог вынести отсюда корону. А посланцы Макария уже бежали к воротам. Мина, обернувшись, заметил их, взмолился, чтобы стражники отворили поскорей; и помчался по одной из военных дорог, по которой ходил еще с отцом, а потом и один… Погоня приближалась. Мина слышал за собой топот слуг Макария, а потом и тяжелое дыхание передних. Силы оставляли его, теперь каждое потерянное мгновение могло стоить ему жизни. Но вот он заметил паутинку, одну из тех, что висели над полем. Как раз стояло бабье лето. Мина добежал до паутинки, отцепил ее от стебелька, уселся на нее и поплыл, подгоняемый ветром.
Вот озерцо, запруда, огромный сад, а на пригорке хата Пани Властовенко, затканная антеннами, как паутиной. Из хаты доносится музыка далеких миров, верно, там снова поет та женщина на неизвестном Мине языке. Во дворе что-то мастерит Микола Рак. Мина поздоровался с паутинки. Но никакого ответа. Только ветерок посвистывает в паутинке, подымая и подымая ее ввысь вместе с царем. Куда она занесет его, где он приземлится? Царь Мина заплакал от отчаяния, увидав, что Зеленые Млыны, все уменьшаясь, остались на земле далеко далеко. Лучше уж было погибнуть в своем царстве, чем очутиться в этой голубой пустыне. Чем выше он поднимался, тем страшнее казалось ему одиночество, и он не нашел никакого другого способа избавиться от этого тоскливого и жестокого чувства, кроме как упасть с паутинки. Так погиб Мина, муравьиный царь…»
А тут раздается голос Пани: «Доброе утро!» И как только они догадываются приходить точно в миг смерти своих рыцарей?.. Не знаю, как там царь Мина, а я жив. раз услыхал ее голос. Просыпаюсь и не приду в себя от изумления: Пани уже нет, мне слышится только ее голос, а на столе лежит добрая горбушка казенного хлеба, который выдают кочегарам на рейс. «И с чего это она вдруг? – удивляется бабуся, – Мы же вроде и не свояки, и не кумовья, и не сваты. А тут Паня с хлебом… – Бабуся отломила кусочек, попробовала. – Настоящий хлеб. Только соли много. Это они вес нагоняют солью». Ушла в кладовку, разыскала там серп, колышек для вязки снопов, потом достала из сундука белый платок и говорит: «Вишь, каков Липский. Пока дед был жив, не выходил из нашей хаты, все вечера пропадал тут с комбедовцами, а теперь и про зажинки не сказал (Начало жатвы). А ты еще молочко ему носишь». – «Девчонки же не виноваты, что он такой» (У Липского три девочки). – «А разве я говорю, что виноваты?»
Бабуся пошла на зажинки, а я отделил кусок хлеба для Липскнх, съел свое, потом еще отломил от ихнего куска и понес им молоко. Они жили через овраг, на противоположном пригорке, в длиннющей хате Гната Смереченка, который в двадцатом году сжег себя в пшенице. Комнат там было только две, все остальное – конюшни, воловни, овчарни, овины и в самом конце деревянный свинарник, в котором теперь пусто, вытоптано и жутковато. Мы, дети, забирались на чердак, дивились, какой он длинный, бегали по нему из конца в конец, проваливались. Только сумасшедший мог выстроить себе такое жилище – бессмысленно длинное, под одной кровлей, под одним богом, под одним громом. И еще одной вещью поразил он Зеленые Млыны: выкопал на лугу озеро с островом посредине, засадил остров липами, теперь эта липовая роща так одичала, что там завелись змеи, и люди боятся к нему приблизиться. Озеро Смереченко, по преданию, копал пятнадцать лет. Копал его и ночами, при луне, землю возил на тачке, гать насыпал такую, что там можно на телеге разверзнуться, собирался еще перебросить на остров подвесной деревянный мост. Сосны для моста сгнили возле хаты, родники, открытые Смереченком, угасли, а озеро заболотилось и получило название Жабьего. Только Липский изредка ходил туда, подолгу сидел на гати, уж не мечтал ли все это возродить и перебросить на остров мост?
Девчонок Липского я не застал, только на окне, которое они всегда держали открытым и на которое, не будя их, я ставил молоко, была приклеена к стеклу записка: «Все пошли на зажинки. Галя». Это старшая дочка, она после смерти матери была здесь за хозяйку. За ней уже увивались парни, а Липский сердился, гонял их в субботние вечера вокруг своей длиннющей хаты и, разогнав, шел в клуб выпить кружку пива и сыграть в шахматы с Лелем Лельковичем. Окно было открыто, я поставил на подоконник молоко, положил хлеб, плотно закрыл окно и тоже пошел на зажинки.
Сашко Барть вез туда воду, ну и меня на бочку взял. Этот Сашко в школе был большой лоботряс, все мы его побаивались, говорил он басом, один глаз у него был всегда прищурен, в каждом классе он просиживал по два три года, несколько раз его исключали за разбой, он каялся и снова возвращался в родную alma mater, где без него и впрямь было бы уж слишком спокойно и неинтересно. Он был один из тех, от кого Липский оберегал Галю.
– Твой Вавилон от нас к северу или к югу?
– К югу…
– Значит, и там зажинки?
– Наверно.
– А Мальву ты еще там знал?
– Знал, а как же.
– Вот кто мне нравится. В Зеленых Млынах другой такой нет. Вон Лелькович никак не найдет себе жену. Я был в четвертом, когда он приехал, уже семь лет он здесь, и все один да один. А почему?
– А я почем знаю?
– А потому, что все путное разобрали Раки, Шпаки, Наждаки, а осталось одно черт те что. Мать говорит, что тут так издавна. В одном поколении красавиц излишек, а в другом только такие, что и лошади шарахаются. Природа устает и делает разные глупости просто так, нарочно. А у вас там какие? Все – как Мальва?
– Так же, как и здесь. Закон один на все села.
– А вон в польском селе – Вязова Гребля – одни красотки, да такие, что с ума сойти. А почему? Мало едят, уксус пьют и мажутся гусиным салом… Не веришь?.. Ух ты! Потекло. А ну ка слезай да забей пробку покрепче.
– Чем?
– Чем пробки забивают? Кулаком!
Забили затычку в бочку и поехали на Верха. Когда выбрались на самый взгорок, невольно сдержали лошадь. Внизу распростерлась белая нива, на которой сотни людей разом сгибались и разгибались, бегали, радовались, глядели на солнце, точили косы, побросав шапки на первые копенки. В стороне стояла рессорная бричка Липского с белым жеребцом в упряжке. Да, верно, то же самое сейчас и в Вавилоне, подумалось мне.
– Спросит, где так долго были, скажешь, что перевернулись. Пришлось возвращаться к колодцу. Понял?
– Скажу…
– Только не так вяло, потверже… У меня там, возле колодца, голова закружилась, да ведь он не поверит…
Я покосился на его ноги в засученных до колен штанах. А еще болтает о красавицах… Я подтвердил, что мы перевернулись, и навеки стал другом Сашка Бар тя. Как невелики затраты на верность…
Пани здесь не было, ее участок на другом конце. Там Лель Лелькович косил рожь. Мне с бочки была видна его соломенная шляпа с черной лентой. Он шел в ряду третьим или четвертым. Впереди всех – Журба. И тут я увидел его впервые. Это был рыжий коренастый человек, который не боялся солнца. Сгребала за ним Раина. У нее на голове была красивая косынка, а сама она, гибкая, ловкая, успевала и сгребать, и вязать, и смеяться. Прежде чем напиться самому, Журба подозвал к ведерку ее. Глаза серые, веселые, губы на чистом обветренном лице так и подрагивают от рвущихся наружу сил, в ушах серебряные серьги. Она была года на три четыре старше Бартя, но держалась с ним на равных.
– Барть, из чьего колодца вода?
– Из нашего. Ну, из колхозного…
– А почему жуки плавают?
– Спрашивайте у Липского, почему у него над колодцем ясень. На ясене майские жуки.
– Ты водовоз, я тебя спрашиваю. Иди сюда.
Барть подошел. Раина схватила его за волосы и пригнула к ведру.
– Гляди!..
– Не вижу. Ей богу, не вижу никаких жуков! Она взяла ведерко и выплеснула воду на Бартя. – Ха ха ха! Набери чистенькой!
Пила она долго, понемножку, боялась простудиться. А Барть стоял мокрый и улыбался своим прищуренным глазом. «Такую бы ему в жены, – подумал, я. – Слепит из него, что захочет». Журба напился, плеснул на брусок и принялся точить косу. Барть залез на бочку, поехал дальше, а я нес за ним полное ведерко. Есть ли что-нибудь на свете прекраснее, чем нести студеную воду для Пани? Но Лель Лелькович никогда об этом не узнает. Не узнает и сама Паня. Эта тайна, быть может, равная той, которую видел перед своим концом Валтасар: мене, текел, фарес. Но в Зеленых Млыиах нет своего Фабиана, чтобы прочитать этот текст.
Глава ШЕСТАЯ
Нигде в мире не делают того, что делают лемки, освящая первый хлеб. Выбирают самую большую в Зеленых Млынах печь, приглашают каравайщиц, те выпекают грандиозный каравай из муки нового помола, потом одевают парня и девушку в старинный национальный наряд, возлагают им на головы пшеничные венки и на расшитом полотенце свежий каравай проносят под музыку через все село на площадь. Там процессию встречает толпа, перед которой стоит стол, накрытый белой скатертью. Из толпы выходят самые древние в селе старик со старухой, также в национальных костюмах, принимают у молодых каравай и даруют его народу – возлагают на стол. Старик говорит высокие слова о хлебе, об извечном благе обладать им ныне и всегда, о счастье сеять и собирать его, о земле, которая ни на что не годна без наших рук и нашей заботы. Потом берет нож, и под исполняемый музыкантами гимн «Твой день настал» лемки семьями подходят к столу, и каждая семья получает свою часть каравая, по числу едоков. Можно разделить и съесть этот ломоть здесь, а можно отнести домой и там причаститься в семейном кругу, после чего уже всем дозволяется печь хлеб из муки нового урожая. И никто из лемков не смеет обойти этот ритуал первого хлеба, если не хочет накликать беду на себя и па Зеленые Млыны. Говорят, в свое время даже Михей Гордыня боялся преступить обычай и приходил брать свою долю у старца наравне со всеми односельчанами. И еще говорят, что никто не умел печь такой сказочный каравай, как Тихон и Одарка. Они лепили на нем богов и дьяволов, чтобы задобрить тех и других. Богов будто бы лепил Тихон, а дьяволов Одарка, за что им и доставался всякий раз чертенок рогатый, от которого все отказывались. А теперь он достался мне. «Не бойся, – утешала меня Мальва. – С волками жить, по волчьи выть». Ободренный ею, я с удовольствием съел чертенка, чем рассмешил лемков и после чего стал еще большим другом Сашка Бартя. Он потом признался, что на прошлом празднике чертенок достался ему, и успокоил меня, сказав, что чертенок силен только в Зеленых Млынах, а на Вавилон его чары не распространяются. По тому, как Сашко Барть говорил и думал, можно было предположить, что из него когда-нибудь получится лемковский Фабиан, ведь как знать – может, великие философы и начинаются с чертенят на караваях…
Лемки и до сей поры связывают мельницу с Гордыней, отправляясь туда, говорят только так: «Иду к Гордыне». Правление колхоза они называют Аристархом. «Откуда?» – спросишь лемка. «От Аристарха», – ответит он, хотя самого Аристарха сегодня и в глаза не видал! Колхозную соломорезку они только до тех пор называли соломорезкой, пока там не потерял руку Проц (он, кстати говоря, умер от этого). А теперь о соломорезке выражаются не иначе, как «Проц сегодня как на пятой». О своем ребенке отец может заявить: «Вот закончит Леля Лельковича, и шабаш». То есть этим он хочет сказать, что не станет дальше учить своего лоботряса. А когда в колхоз прибыла молотилка и лемки увидели, на что она способна, то за ее трудолюбие и ненасытность машину сразу же окрестили Яремом Кривым. «Меня на все лето поставили к Яреме Кривому», – пожалуется лемк лемку, и этим больше сказано, чем – назначили на молотилку. Так же, как «иду на мельницу» – это просто ничего, нечто весьма нейтральное, а вот «иду к Гордыне» – тут и воспоминание о прошлом, о том, что Гордыня непременно потребует мерку за помол, и без числа всяких других подтекстов и оттенков, без которых лемк, не прибегай он к ним, выглядел бы по меньшей мере простаком.
Так вот, «Ярему Кривого» Аристарх согласился предоставить школе только на одну ночь, исключительно для ржи, которую цепами молотить трудно, по Лель Лелькович знал, что стоит молотилке очутиться на школьном току, она там и увязнет. И вот однажды вечером великий труженик «Ярема Кривой», прицепленный к трактору, запыленный и натруженный, отделился от огромной скирды, которую накидал за одну неделю на ржаном клину, и медленно двинулся в село, к школе. Впереди трактора, показывая дорогу, степенно ехал верхом Лель Лелькович, на крыле трактора сидела Мальва, пока единственная барабанщица в Зеленых Млынах (она обучилась этому делу еще в коммуне). Мы шумливой веселой толпой бежали вслед, кто побойчее, те даже взобрались на «Ярему Кривого» и сидели там тихо, чтобы Лель Лелькович не увидал. А сам Ярема Кривой ждал эту процессию у ворот школы, прикидывая, пройдет «он» в ворота или нет. Наш сторож и завхоз немало гордился тем, что такую прекрасную и дорогую вещь назвали его именем. Это уже бессмертье, а бессмертье для лемка большее, чем жизнь. Ярема Кривой прихрамывал на правую ногу, обутую в громадный сапог, на несколько размеров больше, чем левый. До сих пор школьный хлеб со всех тринадцати гектаров он обмолачивал цепом. Молотьбу начинал после спаса и с небольшими перерывами на праздники, которых придерживался пунктуально, продолжал до самой пасхи, всякий день напоминая школе, на ком она держится. Он был и сторожем, и завхозом, и кучером, и конюхом – всем, кем доводится быть такой особе при школе. Но несправедливо было бы считать его просто тружеником, радеющим лишь о благе других, о благе школы. Такие должны еще изо дня в день трудиться в поте лица, чтобы прокормить и самих себя. Ярема запросто съедал решето старых груш из школьного сада, так называемых «терпких панянок», завезенных в свое время из Лемковщины. Он единым духом опорожнял крынку простокваши, после чего обтирал рыжие усы и оглядывал все вокруг – нет ли еще одной. Бывало, после великого поста он съедал сразу целую лопатку копченого поросенка, орудуя при этом складным ножом, – от окорочка оставалась на подносе только безукоризненно обглоданная косточка. Но и готовить такую вкусную ветчину, как он, никто больше в Зеленых Млынах не умел. А славного тывровского пива он мог в жаркий день выпить подряд тридцать шесть кружек, и не то чтобы на спор, а просто видя в этом всего лишь достаточную меру для утоления жажды и не придавая никакого значения этому «подвигу». Он умел и любил поесть, однако на школьных балах, на свадьбах и других торжествах вел себя сдержанно, с достоинством, как никто другой, и при необходимости мог удовольствоваться одной маковой росинкой. Он принадлежал к таким «машинам», у которых количество «горючего» вполне соответствует количеству затрачиваемой энергии. Хорошо позавтракав, он за несколько часов выкорчевывал пень старой груши, на что другому потребовалось бы несколько дней. Ну а уж доброты его и не измерить! Ее с лихвой хватало на всю школу, да еще сверх того – особо – на Леля Лельковича, которого он считал человеком не только прекрасным, но и великим.
Директор занимал в школьном здании две большие комнаты с отдельным парадным входом, и Ярема убирал там, топил печи, заправлял постель, регулярно проветривал одежду директора, чтоб ее не поела моль, стирал, крахмалил и гладил его рубашки, сам варил ваксу для директорских сапог и сам их чистил, а потом ставил на ночь у постели директора (с тех пор, как услыхал от него, что римский император Август тоже ставил на ночь обувь под рукой, у ложа). Когда же осенью между школой и селом образовывалась огромная лужа, которую не обойти, Ярема (если не было свидетелей) запросто переносил через нее Леля Лельковича на руках, и директор появлялся в клубе в таких начищенных до блеска сапогах, словно он перелетел в них через лужу.
Заслуги Яремы перед школой были столь очевидны и неопровержимы, что в отсутствие Леля Лельковича он становился для школы вторым по значению авторитетом после Кнрила Лукича, учеником которого сам был когда то. Недаром Аристарх говорил, что ему бы десять таких, как Ярема Кривой, так Зеленые Млыиы и горя бы не знали (речь шла, ясное дело, о Яремином трудолюбии). Аристарх всячески переманивал Ярему в кол хоз, но они так ни па чем и не сошлись. Ведь если б сошлись, то кто ж тогда переносил бы Леля Лелько влча через лужу? Вроде бы мелочь, а для Я ремы это гак важно, ведь Лель Лсльковнч был ему за сына, тем более, что собственных детей он не имел. Жена его умерла очень рано, от первых родов, звали ее Лепестиной, и была она, как рассказывают, маленькая, так что он легко переносил ее на закорках через ту самую лужу, через которую носит Леля Лельковича. Теперь над Лепестиной стоит высокий дубовый крест, и Ярема каждый день поминовения повязывает его новым полотенцем, расшитым старинными лемковскнми узорами, – он сам и вышивает его зимой. Рядом с большим едва виднеется в траве маленький крестик – для неродившегося. Ярема больше не женился, после Ленестины в школьную сторожку не ступала ни одна женская нога, даже когда Ярема был еще достаточно молодым и не безнадежным вдовцом. Сейчас он был озабочен не своей судьбой, а женитьбой Леля Лельковича. Он считал, что директорам вроде бы не подобает так долго ходить в холостяках. Каждая женщина, вызывавшая малейший интерес у Леля Лельковича, сразу же становилась для Яремы предметом тщательного изучения в свете возможной женитьбы, а не каких то там легкомысленных связей директора, и Ярема с завидной непосредственностью вмешивался в дело. «Не подходит она для нашей школы», – говорил он с видом пророка. Так он помог Лелю Лельковичу избавиться от Гали Неклюдовой, хорошенькой жены главного инженера завода, которая приезжала в Зеленые Млыны на дамском велосипеде и раскачивалась в гамаке, пока Лель Лелькович учил детей древней истории. Логика сторожа была проста: «Если она ездит от мужа к вам, то так же будет ездить и от вас к другому». Кроме того, Ярема, как завхоз, был заинтересован в нормальных отношениях с заводом, где доставал жом и патоку для школьного подсобного хозяйства. Предостерегал Ярема директора и от Паня, имея в виду ее классовое происхождение и то, что Микола Рак добром эту красотку не отдаст, а драться за нее Лелю Лельковичу не пристало, прежде всего по соображениям сугубо этическим. О ней брошена была та же сакраментальная фраза еще прошлой осенью, когда Ярема переносил директора через лужу на свекольный бал.
– Лель Лелькович…
Ярема остановился посреди лужи, чего прежде никогда себе не позволял.
– Что? – спросил сверху директор.
– Оставьте ее.
– Кого? Паню?..
– Ну да…
– Что это вдруг?
– Не подходит она для нашей школы по происхождению. О другом я уж не говорю, хоть и красивая женщина.
Он вынес директора на сухое, сапоги так и сверкали, на их носках играли отблески звезд. Лель Лелькович поблагодарил, засмеялся, а Ярема побрел назад, мутя прибывшую после недавних дождей воду, на которую, едва подмерзнет, высыплет веселая гурьба школьников, чтобы полетать на подковках.
А тут на тебе – барабанщица. Та самая Мальва, которая живет в хате Парнасенок с агрономом Журбой, не то мужем, не то и вовсе чужим человеком (разные ходят пересуды); та самая Мальва, что присматривала за корытцами на плантации, наполняла их «пойлом» для бабочек, а теперь забралась на самый стол этой громадной молотилки и орудует там в очках, как ведьма. А знает ли она, кто стоит рядом, подает ей снопы и не спускает глаз с барабанщицы? Тот, кого ищут, кто на время превратил овин Парнасенок в своеобразную бойню, тот, кто забирал высохшие шкуры со стропил, а однажды повесил для Мальвы и агронома мешочек мяса. Ни Мальва, ни агроном ни за что бы не поверили, что похитителем всех этих волов, быков, коровок был Ярема Кривой – в единственном числе, то есть один одинешенек, без никого. Ярема имел привычку переговариваться со своими немыми жертвами, пока вел их к овину, и оттого создавалось впечатление, что он не один, на самом же деле только он орудовал и в овине, сам подымал бычка или вола на балку, сам свежевал, потом переносил мясо на телегу, оставленную в глини щах, и полевыми дорогами добирался до колхозной кладовой. А едва светало, снова отправлялся в глинища и уже свободно, тем же путем, каким вез мясо, доставлял нашкольный двор самую обыкновенную белую глину, которой потом белил школьное здание. Так он заметал следы на случай, если сюда пришлют собаку ищейку или следопыта; даже когда люди Македонского засели в овине и поджидали воров почти что две педели, он ухитрился несколько раз за это время побывать в глинищах и собственными глазами полюбоваться на ждущую его засаду.
Только один человек в Зеленых Млынах знал это – Сильвестр Макивка, гениальный музыкант, который когда то играл на свадьбах в соседних селах и был теперь для Яремы не то чтобы сообщником, а, скорей, наводчиком. Он называл ему тех состоятельных «индусов», чьи бычки и яловые коровки затем попадали в овин Парнасенок, чтобы спасти жизнь слабым детям.
Сильвестр Макивка приходовал мясо на вес и выписывал его школе. К чести Яремы надо сказать, что для себя он не выписал ни разу ни куска, они с Сильвестром поклялись, что не попробуют краденого, и за это любой суд оправдает их, если дело раскроется и получит огласку. Зато из этого фонда досталось несколько килограммов Мальве, которая совсем зачахла, Лелю Лельковичу и даже самому Аристарху (для девочек). Тот как то спросил Макивку: «До коих пор ты будешь делить вола, которого мы давно уже съели?» Речь шла о старом воле, который сломал ногу на ровной дороге, так что его пришлось прирезать. Сильвестр Макивка едва удержался, чтобы не выболтать Аристарху, откуда в Зеленые Млыны прибывает мясо, – зарезанного вола ведь и впрямь съели давно. Аристарх, ясное дело, и сам кое о чем догадывался, как, между прочим, и Лель Лель кович, но каждый из них делал вид, что его мало интересует, откуда берется мясо, лишь бы оно не кончалось, а то снова оскудеет школьная кухня, где подкармливали ослабевших детей.
Но вот однажды явились сами потерпевшие – «индусы» приехали из Княжичей вшестером не то всемером на одной подводе, были это все крепкие и разъяренные мужики, и явились они трясти Зеленые Млыны, искать своих бычков, волов, коровок. Аристарх принял их учтиво, как и надлежит принимать потерпевших, но, справившись, кто они такие, и узнав, какие у них хрупкие доказательства вины лемков, выпроводил их из села, а чтобы реабилитировать честь Зеленых Млынов, сам вызвал Македонского. Аристарх, конечно же, поторопился – еще несколько княжичских коровок никак не повредили бы Зеленым Млынам. Школьная кухня сразу ощутила недостачу, захирела, и Макивка постфактум признался Аристарху насчет того «вола», на чьем мясе Зеленые Млыны продержались почти всю весну. Узнал об этом и Лель Лельковнч, уже от Аристарха. Оба они были этой новостью ошеломлены, Аристарх все хватался за голову, посеребренную изморозью еще в гражданскую войну, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что честь Зеленых Млынов запятнал человек, на котором она, как полагал Аристарх, более всего и держалась. Ведь он еще с детских лет считал школьного сторожа образцом совестливости и трудолюбия, и вдруг такое гнетущее разочарование!
Лель Лелькович в начищенных Яремой сапогах так и подскочил от ярости, узнав, до чего дошел сторож в своей благотворительности. «Ах, ворюга! Ну я тебе, я тебе!» – выкрикивал Лель Лелькович на школьном дворе, так что Аристарху приходилось то и дело сдерживать его, напоминая: «Тише, нас могут услышать», – хотя, кроме привязанного к рябине коня, на котором председатель приехал, во дворе вроде бы никого из посторонних не было. Аристарх сказал, что ближе к осени Зеленые Млыны смогут возместить потерпевшим материальные убытки, но как самим Зеленым Млынам возместить свои убытки моральные – этого он себе и представить не может.
– Сколько же это голов? – поинтересовался Лель Лелькович.
– Макивка утверждает, что одиннадцать. Но если судить по количеству мяса, то, возможно, и больше.
В это мгновение из сторожки вышел с березовым веником Ярема Кривой, учтиво поздоровался с начальством и заковылял подметать ток для молотьбы.
– Неужели так много? – ахнул Лель Лелькович.
– Представьте себе. Мы с вами тоже кое-что съели из этого стада.
– Я не ел! – Лель Лелькович отшатнулся от собеседника, – Я не ел!..
– Ели… – успокоил его Аристарх. – Вы просто не знали, откуда эта говядина… Если б вы не ели мяса, то откуда бы у вас взялись силы читать историю?
– Любопытно, а куда же он девал шкуры животных?
– Сушил на балке и возвращал хозяевам.
– В Княжье?
– Да, в то самое Княжье. Когда потерпевшие прибыли сюда, они показывали мне записки, которые находили на шкурах: «Благодарим вас за бычка!», «Спасибо вам за коровку!» или «Вол был хорош, съели с большим аппетитом». Я насчитал одиннадцать таких записок. Одиннадцать! – Аристарх схватился за голову. – Это же це лое стадо! И все молодняк. Первый сорт.
– Я не ел этого мяса! Я ел какого то старого вола. Это же был наш вол. Наш! А чужих… Краденых!..
– Ели, Лель Лелькович. Нечего открещиваться. Только он (Аристарх кивнул в сторону тока) не дотрагивался до говядины, как утверждает Сильвестр.
– Стало быть, Макивка знал об этом?!
– Знал, аспид.
– И Макивку надо судить?
– И Макивку…
– А как же скрипка?
– Поживем какое то время без скрипки… Отсидит – вернется.
. – Ну, а если все это забыть?
– Если б проклятый Макивка не сказал мне, а я – вам, а вы – еще кому нибудь, то, ясное дело, все так бы и забылось.
– Я, Аристарх Панькович, умею молчать. Но вместе с тем… представьте себе, что дело раскроют без нас, помимо нашей воли. Что тогда? Тогда и мы попадем в сообщники? Не так ли?
– Разумеется. Я же об этом и говорю. Мясо ели…
– Не ел я этого мяса!
– Я вас решительно не понимаю, Лель Лелькович. Как же вы могли не есть мяса, когда я собственноручно выписывал его вам?
– Я же и говорю: мясо старого вола, одни жилы. – А какая же говядина без жил?
– А я яй! Самое страшное – эти записки…
– На записках почерк детский. Ну, как детский. И не один, а всякий раз другой. Вот что удивительно.
– Значит, их было много. Шайка.
– Ну, вы же сами понимаете, что взгромоздить тушу вола на балку один человек не может. Будь он хоть сам Архимед.
– Но ведь и мы с вами дали маху. Почему было не поинтересоваться, откуда мясо. И не прекратить это безобразие.
– В том то и дело, Лель Лелькович. Поэтому и лучше забыть обо всем.
Так они и не пришли к общему мнению. Когда Аристарх отвязал жеребца и выехал со двора, Лель Лелькович прошел на ток, где Ярема орудовал веником, постоял там несколько минут, горестно вздохнул и приказал:
– Ярема, зайдите в канцелярию!
– Сейчас или когда?
– Сейчас зайдите. Сейчас!
– Домету и приду. Дают нам молотилку?
– Дают на одну ночь. «Ярему Кривого», – улыбнулся Лель Лелькович.
– А когда?
– Я просил на сегодня.
Когда Ярема вошел, директор сидел за столом, ждал. Сторож приковылял к своему стулу в углу, но Лель Лелькович не предложил ему сесть, и сторож стоял навытяжку, опустив громадные руки.
– Скажите, вы раньше крали?
– Как вам сказать… Крал.
– Что?
– «Сальве» у вас крал. По одной каждое утро.
– Вы же не курите.
– Не курю. Но люблю держать дорогую папиросу за ухом. Для фасона. Чтобы дети видели, что я с вами дружу, и вы угощаете меня своими «Сальве». Авторитет, значится, для них, для курильщиков, словом.








