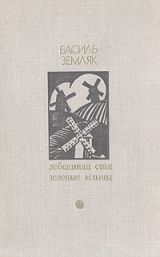
Текст книги "Зеленые млыны"
Автор книги: Василь Земляк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Я? Только что приехал.
– Наниматься?
– Нет, куда мне! Просто так, в гости.
– Дожди там идут?
– Этого хватает. Ливни. Сена будет полно…
– А тут гибель. Все горит. Хлеб горит. Реки пересыхают.
– Наш Буг не пересохнет. Буг – это Буг…
– Эх, искупаться бы! С Марковой скалы… А сейчас ведь как раз картошка цветет… Ну что ж, кланяйтесь там всем, кого встретите. Вивтаренко я. Скажете, что видели здесь Грицка Вивтаренка. Правда, я им пишу, что я там, внизу, – вы ведь знаете, как у нас в Глинске на пожарников смотрят. Лодыри, лентяи. А тут это дело серьезное. Тут с огнем не играют. Газ… – Он пожал руку Лукьяну и побежал догонять товарищей.
Цыганки не было. Да и шахтеров осталось немного; собравшись в кружок, пили пиво. Обедала, вероятно, наземная «Кочегарка». Но Лукьян прикинул, что под землей накормить горячим такую массу людей дело почти невозможное. Еще утром, возле нарядной он заметил, что каждый нес с собой небольшой пакетик, а кое кто и молоко. Вот, должно быть, и весь обед. Перенесшись мысленно в Вавилон, он сообразил, что горячие обеды под землей вещь не только фантастическая, но до известной степени и вредная. Истинный вавилонянин после хорошего обеда любит часок поспать, не важно где – в борозде ли, под скирдой, под телегой, а то и дома под грушею… А в подземелье какой же сон? А этот парнишка в медной шапке уж не из тех ли Вивтаренок, что держали в Глинске во время нэпа просорушки и маслобойни? Крупу там обдирали хорошо, но и за крупу хорошо обдирали. Крупы, масло, помол – это все были заботы Данька. Возвращаясь домой, он клял хозяев этих предприятий за непомерные поборы, которые год от года росли, а ветряк Бубелы даже поджечь грозился.
– Что вам? – Откуда ни возьмись – полненькая тетенька в пестром передничке.
– Мне? – Лукьян растерялся. – Все.
– Комплект?
(Ого, какое словечко!)
– Комплект… – И уже вдогонку – Комплект и пиво…
– Одно?
– Одно… – И отругал себя: надо было два пива. Это он из за «комплекта» растерялся.
Тетенька принесла сразу весь комплект, попросила рассчитаться – верно, приметила, что нездешний, подумал Лукьян, беря сдачу. Он, однако, успел спросить:
– Скажите, пожалуйста, Иван Голота здесь обедает? – И уточнил: – Нет, нет, не сейчас, а вообще.
– Он кто?
– Забойщик. Передовой забойщик… – У нас две тысячи забойщиков, и все передовые. Наверно, обедает, раз забойщик. Сам директор «Кочегарки» здесь обедает… – гордо проговорила тетенька и заторопилась к столикам, за которыми сейчас обедали, на взгляд Лукьяна, как раз работники шахтоуправления. Оттуда долежали шутки, остроты, смех. Несколько обедающих были в очках. Среди них Лукьян, отпивая пиво (точно как в Глинске – свежее свежее!), и стал искать глазами директора «Кочегарки». И, кажется, отыскал. Средних лет, уже полысевший, с худощавым лицом, в летнем сером костюме, в рубашке с отложным, поверх пиджака, белым воротником, как у Эрнста Тельмана на портретах. Пива он не пил, а борщ похвалил и принялся за второе. С ним были еще трое в синих застегнутых спецовках, один почему то ничего не ел, только потягивал пиво. Именно его внимание чем то привлек Лукьян. Может быть, тем, как внимательно вчитывался в надпись на стене, оправленную в золоченую раму. Речь там шла, разумеется, об угле: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело будет полезен!» Больше того, Лукьян уже было вынул карандаш и вознамерился переписать эту надпись на обороте меню, а теперь, увидев, что на него смотрят, совсем смутился. Тихонько спрятал карандаш, налег на обед, но не рассчитал, справился с «комплектом» быстрее управленцев и заколебался, как лучше поступить, выйти или сидеть? Так или иначе, на него уже обратили внимание, и сам «директор» покосился в его сторону, а точнее, на его корзиночку на полу, и все четверо заговорили о ней, словно эта вещь каждому из них напомнила что-то родное. Опять у него неприятности с этой корзинкой! К тому же на стене больше никаких надписей не было, а шнырять глазами по пустым стенам вроде бы даже и не очень прилично – только снова обратишь па себя внимание. Преодолев колебания, словно дело шло о чем то необычайно важном, Лукьян взял корзинку и вышел.
Навстречу ему шла большая толпа шахтеров, кое кто в спецовках, с неотмытыми лицами, должно быть, спешили за пивом, которое и в знаменитой «Кочегарке» бывает не каждый день. Это Лукьян понял по тону вопроса, обращенного к нему первым из идущих:
– Качают пиво?
– Качают…
– Красота!
Было их человек двенадцать, должно быть, вся бригада, прикинул Лукьян, многие уже в летах, крепкие, как старые коряги, только глаза сияли на лицах молодо. Есть и в Вавилоне такие вечные, не стареющие лица. Лукьян собрался с духом и все же остановил последнего, отставшего перед входом в столовую, чтобы смахнуть пыль с сапог. Тот поднял на Лукьяна ласковые серые глаза, выслушал. Есть такой забойщик, есть. На пятом участке, в бригаде Цехмистрова, кажется, Максима – точно он имени бригадира не знал. Выход у них за копром, у бань. Там ворота, в которые ведет узкоколейка. Это недалеко. И у них вот вот будет пересменка. А лучше всего зайти в шахтоуправление и спросить, там про каждого все знают. И прибыл Иван, кажется, из Донтопа, есть такая шахта за Харцизском, прибыл недавно, так что живет, наверно, либо в Шанхае, либо на Собачевке, с жильем тут всегда туго. Когда то все они прошли через Шанхай – это еще бельгийское на, следство. Шахты растут, народу прибывает, вот и приходится пока что жить в тесноте, что поделаешь. Пожилой шахтер как бы посвящал новичка в те трудности, с которыми ему предстоит здесь столкнуться (уж не месткомовец ли?). Откуда ж ему знать, что перед ним сам председатель Вавилонского сельсовета – владелец хаты, сада и всяческих угодий, даром что прибыл сюда с плетеной корзиночкой. Соберись он сюда насовсем, Фабиан смастерил бы для него что-нибудь покрепче да посолидней. В дверях показались управленцы, Лукьяц заторопился, горячо поблагодарил шахтера и пошел к копрам, прибавив шагу, чтоб не опоздать на пересменку.
Возле самого участка его обогнала «эмка», за рулем сидел «директор». Он был в соломенной шляпе, и потому Лукьян едва узнал его, когда обернулся на сигнал, а рядом сидел тот, что пил пиво, в синей спецовке, сейчас на нем была еще и фуражка. Перемолвились – верно, о нем, – но не остановились. За старыми копрами «эмка» круто повернула вправо, подняв столб пыли. Который же из них директор? Впрочем, какое это имело значение? Надо же, выдумает себе человек какую нибудь задачку и бьется над ней, вместо того чтобы готовиться к встрече с братом…
Металлические ворота в штольню с лязгом растворились, и Лукьян с трепетом подошел ближе, заглянул в шахту, освещенную так, что хоть иголки собирай, и всю в каких то фантастических сооружениях. Из туннеля показался состав вагонеток с углем, Лукьян не мог сообразить, какая сила толкала состав сюда, пока не увидел женщину, которая правила им, стоя за последней вагонеткой. «Эй, там, с корзинкой!»– крикнула она. (Проклятье какое то с этой корзинкой, подумал Лукьян.) Состав выбежал весь – добрый десяток вагонеток, до краев наполненных тем самым минералом, о котором так красиво сказано в столовой (позже Лукьян узнал, что слова эти принадлежали русскому горному инженеру П. Горлову, основавшему здесь первые шахты, в честь которого названа и сама Горловка), а уже за ними, за этими сокровищами., которые заискрились всеми гранями, впервые увидав солнце, шли неторопливые, исполненные какой то демонической силы и веры в себя, люди в измятых фуражках, с погасшими фонариками на груди, с отбойными молотками на плечах – их шаги наполняли все подземелье гулом. Выходили они молчаливые, черные, строгие, а выйдя, одни срывали с голов фуражки, вздымали руки, словно собирались взлететь, радовались солнцу и белому свету, другие, курильщики, прямо тут, у ворот, освобождались от инструмента и, собравшись в кучки, торопливо закуривали, шумели, острили, смеялись; от одной из этих кучек до Лукьяна донесся словно бы знакомый смех. Данько! Лукьян протолкался к этой кучке, но Данька там не было, и тогда он спросил о бригаде Цехмистрова. «Цехмистров? Это на какой лаве?»– «На третьей». – «Так они еще не вышли. У них нынче громадная кобыла». – «Сейчас выйдут…»– «С кобылой?»– спросил Лукьян. И снова раздался смех, похожий на смех Данька. Смеялся молодой, ладный шахтер, зубы белые белые. Лукьян, смущенный его смехом, вернулся к воротам и снова стал ждать.
Идут. По трое, по четверо, безо всякой кобылы, и снова эхо от шагов и молчаливые фигуры. Каким то непостижимым чутьем Лукьян отгадал, кто меж ними Цехмистров, и, едва тот вышел за ворота, обратился к нему:
– Вы товарищ Цехмистров?
– Я. А что? В бригаду?.. – спросил тот, смерив глазами незнакомца.
– Нет, нет… Мне Ивана… Ивана Голоту.
– Кого, кого ему? – спросил, не расслышав, один из подошедших шахтеров.
Лукьян оглянулся: это, кажется, был Вазоев. Он узнал по глазам – сколько раз смотрел на него в «Вистях», разглядывая Данька. Вазоев, высокий, степенный, поставил отбойный молоток у стены, достал из спецовки папиросы, попросил у Цехмистрова огоньку.
– К Ивану приехал, – сказал Цехмистров. – А его уже сколько как нет?
«Неужто погиб?» – у Лукьяна ёкнуло сердце.
– Да уже с месяц…
«Точно, – подумал Лукьян, – больше месяца, как пришли в Вавилон «Висти».
– Рассчитался. Не дали ему квартиру, вот он и оби, делся, уехал. Отличный был шахтер, – продолжал Цехмистров. – На кострах стоял (т. е. убирал завалы), играл со смертью. А потом – в нашей упряжке…
– И далеко уехал? – вздохнув с облегчением, спросил Лукьян.
– Донбасс большой, на «Кочегарке» свет клином не сошелся. А мог и на "Кузбасс податься. – Цехмистров двинулся со двора и все за ним.
– …Мог, – подтвердил Вазоев, который был, очевидно, к Даньку ближе других. Товарищ его, подумал Лукьян. – Семья еще, верно, здесь, если не отправил в Та тарбунары.
– В какие Татарбунары? – Лукьян остановился.
– А они из Татарбунар. И он, и жена. Тут татарбунарских полно. Еще с девятьсот пятого, как разбежались после восстания. Вот он к ним и приехал, на Дон топ, а потом сюда. Там, на Донтопе, у него товарищ погиб, ну он и поменял шахту. Чувствительный… «Данько не из таких. Не оставит шахты только потому, что там погиб товарищ…»– Лукьян пытался как то связать нити своих сомнений, запутавшиеся под впечатлением услышанного. Он мысленно обратился к Явтушку, к «Вистям», наконец, к своей поездке. Проклятый Явтушок: убедить его и весь Вавилон, что это Данько! Но ведь какое невероятное сходство! В глазах, в улыбке, в том, как держит голову, не говоря уж об ушах. Когда то Данька дразнили в Вавилоне Ушастым. Избавился он от этого прозвища, только как бороду отпустил, уже парнем.
– А ты кто ему будешь? Не из Донтопа часом?
– Нет, я не из Донтопа… Из других краев…
– А кто, кто? – настаивал Вазоев.
– Теперь уже никто… ежели… Это, брат, целая история. – «И притом вавилонская, – подумал он про себя. – Об том, товарищ Вазоев, в двух словах не расскажешь». Как то уютно было ему с этим Вазоевым, а может, стало спокойней на душе, что есть где то на свете подлинный Иван Голота, из Татарбунар, татарбунарско го корня (о Татарбунарах Лукьян давно уже слыхал!), а Данько живет где то тут, под собственным своим именем, как Данько Соколюк, искупает тайком грехи прошлого, очищается, обновляется и, быть может, сейчас стоит где нибудь «на кострах», играет со смертью. Ведь все вот эти пришли сюда не из под палки, а по своей воле, пришли строить социализм на этой «Кочегарке».
– Ну почему же «никто»? – успокоил его Вазоев. – «Кочегарка» как Вавилон (Лукьян невольно вздрогнул при этих его словах), здесь все меняется, организуется, сплавляется, одни уходят, другие приходят, а кто то отсеивается навсегда. Изотова нашего видел?
– Видел директора вашего…
– Был у него?
– Обедал с ним…
– Ого! Человек замечательный, был другом Серго М Все может, «Кочегарка» держится на Изотовых. На нас… На таких, как Цехмистров. Он когда то батрачил в Волновахе. Мытарился у нэпманов. А нынче – гроза «Кочегарки». За Ивана самому директору выдал… Пласт нюхом чует. Все тайны ему открыты под землей. Это, чтоб вы знали, талант, призвание. Вот и Иван был
Речь идет о С. Орджоникидзе. такой же. Отсюда и обида. – Он остановился. – А может, Люба, и правда, еще здесь?..
…Пришли в поселок. В сумерках он производил впечатление игрушечного городка с одной улочкой и бесчисленным количеством дорожек переулков, ведущих к удивительным, словно не людьми, а какими то чудо птицами сооруженным жилищам. Сюда прилетали и улетали с давних давних пор; кто то, верно, и умирал здесь, но здесь и рождались – философы, поэты и те же Изотовы. Быть может, самые бескорыстные из людей. Потому что, если подумать, величие духа измеряется не размером жилищ, а временем и силой строя. И не во дворцах ли чаще всего плодилась низость, некогда разбитая извечными обитателями этих жилищ… «Вазоев, а Вазоев, давно тут люди живут?» – «Тут? – Вазоев посмотрел на поселок, словно увидал его впервые – Лет сто, должно быть. Закрывали уже при мне и не раз. А он снова оживает. Тут вода, белые осокори, речонка вот там внизу… А зимы прямо как в сказке. Занесет – весь поселок белый, будто и нет его, только дымки, словно свечки…»
– Здорово, Вазоев! – Это Цыганка с полным ведерком идет от колонки. Та самая… «Родственница»…
– А, Лейла. Здравствуй, здравствуй!
Она уже переоделась, отмылась, шла босиком, в широкой цветастой юбке, в белой открытой кофточке в горошек, на шее – ниткикрасных бус.
– Кого это ты к нам привел? – Разумеется, она узнала Лукьяна.
– Свояка к Ивану Голоте… Не знаешь, Люба еще здесь?
– А что ей тут делать без Ивана? – Лейла усмехнулась. – Мы уже видались, а, свояк?
– Видались… – виновато подтвердил Лукьян.
– Совсем выехала? – снова спросил о Любе Вазоев.
– Совсем… – Она поставила ведерко. – Бери, неси, увидишь. – Так запросто она обращалась со знаменитым Вазоевым. – Я теперь в их дворце. Красота. Одна. Могу взять в примаки. Ха ха ха!
Ночью Лукьяна провожали на поезд. Теперь оии знали всю историю двух братьев из Вавилона. Вазоев посоветовал ему никогда больше не искать Данька. Сам найдется… На Донтопе, в Кузбассе или еще где нибудь. Шахтер хоть трудится под землей, а душою всегда здесь, на людях… Не будь у Данька тут привязанностей, чего то для него дорогого, не написал бы он то письмо… А Лейла сказала, что могла бы влюбиться в такого, как Данько, встреть она его здесь, на «Кочегарке». Сказано это было наверняка в пику Вазоеву… Цыганское коварство. На перроне стоял директор «Кочегарки», тоже кого-то провожал. Лукьян узнал его по тельманке. А «Кочегарка» полыхала огнями, дымила, трудилась, не знала передышки ни днем, ни ночью. Лукьян стоял у окна просветленный, душа была исполнена чего то прекрасного, вечного…
Глава ЧЕТВЕРТАЯ
По примеру больших городов, перенявших эту моду у Европы, в Глинске открыли похоронное бюро, чем нанесли чувствительный удар сельским гробовщикам, а в особенности вавилонскому, вовсе не приспособленному к существованию в условиях конкуренции. Экономный Ткачук сразу сообразил, что Вавилону выгоднее пользоваться услугами похоронного бюро, чем содержать Фабиана, да еще при этом заботиться о досках, гвоздях и черном сатине для обивки гробов, поскольку вавилоняне теперь на вечный покой предпочитали укладываться не на голые доски и настойчиво требовали обивки.
Похоронное бюро возглавил австриец Шварц. Такому высокому его назначению могла способствовать ликвидация Австрии как самостоятельного государства после аншлюса. В Глинске Шварца расценивали как жертву фашизма, хотя сам он вел себя совершенно спокойно, скорей всего успев за прожитые здесь годы охладеть к родине. Как выяснилось, до первой мировой войны он вместе с отцом держал похоронное бюро в Зальцбурге и теперь мог вести в Глинске это новое дело на европейском уровне. Шварц наладил серийное изготовление гробов, жестяных венков и даже надгробий из красного, как жар, бугского гранита, собрал оркестр из тринадцати музыкантов, в котором и сам играл на трубе (как делал это еще в Зальцбурге), оборудовал полуторатонку под катафалк и не только возил на ней покойников, но и сам носился по району, заключая контракты на услуги своего бюро. Его деревянная нога не умещалась в кабине, и в пути он ее отстегивал, а когда прибывал на место, снова прилаживал, полагая, должно быть, что может достойно представлять свое заведение только так, не прибегая к костылям, дабы не бросать тень на возможности бюро.
Варивону Ткачуку Фабиан осточертел постоянными жалобами на недостаток досок и других материалов, каких требовал всякий раз сверх нормы, и председатель охотно подписал контракт со Шварцем, лишив Фабиана разом и почета, и заработка. Складной метр гробовщика, которым тот обмерял не одну угасшую жизнь, очутился на столе председателя в качестве укора за контракт со Шварцем. «Вот единственное, что я вам советовал бы сберечь для истории…»– сказал Фабиан и, выйдя в Вавилон, почувствовал себя там почти лишним человеком. У него осталась только одна обязанность: он вел доску «Красное и черное», куда заносил передовиков и лодырей. Среди последних вроде бы теперь очутился и он сам.
Но уже на третий день безделья у него зародилась идея, которую, однако, надлежало проверить. Он разбудил козлика, спавшего под верстаком, и сказал ему таким тоном, как будто совершил только что и впрямь гениальное открытие: «Радуйся, старина, мы снова на коне великого чудака Дон Кихота Ламанчского!» Козел при этом зевнул, он то хорошо знал своего хозяина и уже не поддавался на радостные клики его души. Сколько раз, идя к кому нибудь обедать в прекрасном настроении, они получали там дулю и возвращались домой голодными. Однако сегодня в хате происходило что-то серьезное, достойное и его внимания, и он проснулся, стряхнув сон, как это делают стареющие козлы, поощренные к продолжению жизни. Вообще внешность таких козлов обманчива, их омертвение бывает и притворно, они умеют оживать, когда какая нибудь идея вдруг овладеет ими.
Фабиан же вооружился святцами, оставленными в верстаке еще Панкратом, предыдущим вавилонским гробовщиком, перелистал их, нашел там нечто такое, что вновь обрадовало его, а дальше все происходило уже в том отличном ритме и настроении, какие свойственны были философу в минуты великих открытий. Он достал из сундука черный суконный костюм, приобретенный у глинских мастеров еще при нэпе (теперь он надевал его только на первомайские демонстрации), на голову надел панскую шляпу, подаренную ему Чапличами за гроб для отца (это, собственно, и было все, что уцелело от их разоренного дворянства), обулся в парусинки зеленого цвета и так, расфрантившись (солидности ему придавали золотые очки), спустился в сопровождении козла в нижний Вавилон.
Была страстная пятница. Лучшей поры для такого нисхождения и не придумаешь. Невзирая на все меры, принятые Ткачуком против православных и католических праздников, Вавилон готовился к пасхе. В воздухе уже пахло куличами, то в одном, то в другом конце Вавилона визжали поросята, напоминая Фабиану о мяснике Паньке Кочубее, который, должно быть, уже умер в далеких холодных краях; теперь поросят в Вавилоне каждый мучил по своему, потому иногда и подымался этот страшный визг мучеников; женщины белили хаты снаружи, одни пересинивали, другие подбавляли красной краски, создавая необычную, но весьма приятную для глаз расцветку. Дети носились с горшочком, в котором была краска для яиц, заготовленная на весь Вавилон. Кому ее не хватало, те красили яйца отваром из луковой кожуры или кровавчика – травы, которая придает крашенкам редкостный цвет с оттенком крови. Краску для яиц достают в Глинске из давних запасов, делает это всегда кто то один, а пользуются краской все вавилоняне. Горшочек кочует из хаты в хату, бывает, что из за него перессорится весь Вавилон, даже родичи становятся на день другой врагами и потом им приходится всерьез мириться. Фабиана поражала выдержка этих людей, которые могли полгода жить впроголодь, но берегли пакетик белой муки для кулича.
Фабиан кланялся женщинам, принаряжавшим хаты, чуть завидовал самоучкам мясникам, свежевавшим пасхальных поросят за овинами; поприветствовал стайку ребятишек с закопченным горшочком – они как раз перебегали улицу, неся краску Бугам. Дети даже растерялись, увидав Фабиана таким франтом. Женщины тоже отрывались от дела и замирали в изумлении. Вообще всякий, кто наблюдал сейчас этих двух чудаков, не мог не улыбнуться в душе при виде их грации и величия духа, которые отличали уже не каждого из них в отдельности, а их – как единое целое. Разумеется, верхом оригинальности в этой картине была шляпа. Но пока еще никто, кроме самого Фабиана, не знал, какая идея зреет под этой шляпой.
Для начала был избран Явтушок, именно он значился на этот день в святцах: это был день Евтихия и Иеремии. В Вавилоне был и свой Иеремия – Еремия Гулый. Но начать философ решил именно с Явтушка, учитывая его болезненно преувеличенное представление о своей особе. Явтушка застали врасплох, к тому же он был немало поражен внешностью философа, который смахивал если не на самого пана Тысевича старшего, то по меньшей мере на крупного арендатора или губернского чиновника по делам разделов и наследования. На похороны пана Тысевича старшего приезжал в Вавилон именно такой чиновник, и Явтушок тогда весьма сожалел, что не доводится покойному хотя бы дальним родственником и не может попасть в его духовную. Но даже у чиновника по разделам и наследованию не было таких золотых очков, как у этого франта в парусинках. Явтушок как раз мастерил клетку для кроликов, он разинул рот от удивления, хотел было спросить: «Это вы, Фабиан?» – но так и замер, убедившись, что не ошибся.
– Добрый день, Явтуша!
– О, какой наряд! – воскликнул Явтушок, с трудом приходя в себя.
– Мы пришли поздравить вас с днем ангела. С именинам в. то есть.
– Меня?!
– Да, именно вас. Сегодня ваши именины – Явтуха и Еремии. День вашего ангела. В такой день мастерить клетки и вообще заниматься черной работой не достойно вавилонянина.
– Не знал, черт его дери!
– Хе! Я, к примеру, хотел бы сказать о вас похвальное слово, но для этого нужен стол, что-то на столе и публика.
– За этим дело не станет. Тут только свистни. Но вы, случаем, не перепутали, что это сегодня? Явтуха и Еремии?
– За кого вы меня принимаете, Явтуша? Фирма солидная, опирается на печатные источники. Вот. – Он вынул святцы и прочитал: —«Рабы божий Евтихий и Иеремия, чей день ангела приходится на последнюю пятницу великого поста».
Явтушок вызвал из хаты Присю, чтобы та поглядела, кто к ним пришел, и услышала собственными ушами запись в святцах: Еремия Гулый и он, Явтушок, имеют сегодня право на отдых и на пирог с потрохами.
Начали они вдвоем, потом подошли соседи, потом соседи соседей, а потом уже и сам Варивон Ткачук – к вечеру начались уже такие торжества, каких давно не знал Вавилон. Пироги вынимались из печи прямо на стол – горячие и пахучие. Фабиан сказал о Явтушке похвальное слово, обнажив его социальные и исторические корни, а когда упомянул о его происхождении от казаков Голых, именинник прослезился. Из чулана за этот день исчезло полпоросенка, а мяса не осталось даже на пасхальные колбасы, и Прися потом кляла не столько Явтушка, сколько обоих Фабианов, говорила, что один другого стоит.
У Еремии Гулого, чьи именины Фабиан самочинно перенес на следующий день, поросятины не было, и он зарезал громадного индюка. Гулыха посадила его целехонького в печь на железном противне, которым пользовались еще на кухне панов Родзинских. Когда индюка вытащили из печи, аромат разнесся по всему Вавилону, и гости не замешкались.
Еремия Гулый, тракторист, трудолюбивый и тихий человек, нелюдимый до смешного, незаметно сбежал, как раз когда Фабиан собрался произносить о нем похвальное слово. Однако Еремия все слышал (он притаился в сенях) и потом, спустя много дней, встретив Фабиана, таинственно спросил его:
– Фабиан, простите, коли я не то говорю, но откуда вы знаете обо мне все, что говорили на моих именинах?
– Еремия, пока твой трактор каждую ночь гудит за Вавилоном, я читаю книги, а там о тебе все все написано.
– Вы обо мне такое наговорили, что моя Оляна теперь смотрит на меня, как на бога. То, бывало, и рушник не подаст, а тут бросается мыть мне ноги. Я, конечно, не разрешаю.
– И зря. Мытье ног напоминает мужчине, кто он есть дома и в районе. Ты лучший тракторист, и ноги твои кое чего стоят. Приходи завтра к Протасику, почтальону нашему, я буду говорить как раз про его ноги, и ты услышишь, что это за чудная вещь – ноги, пока они носят человека по земле…
– А что, завтра его день?
– Да, завтра Маркиян.
– А сегодня чей?
– Сегодня выходной.
– И так бывает?
– К великому прискорбию, в Вавилоне Теофана нет. А сегодня Теофана либо Теофила.
– А если к соседям? Я знаю одного Теофана в Козо ве. Был у меня прицепщиком прошлую осень. А в Прицком Теофан на Теофане.
– Вот видишь, какое упущение!
А тут как раз Протасик с сумкой. Стремительный, босой, в почтальонской фуражке, рубашка с петлицами. Вот только обувки не напасешься, и приходится великому марафонцу ходить босиком. Летит! Только что явился из Глинска. Несет что-то срочное в правление. Ему и в голову не приходит, что завтра у него именины и Фабиан готовит уже застольную речь о его быстрых ногах, на одной из которых торчит шестой отросток. «Именно этот, шестой, и есть основная опора для уравновешивания почтовой сумки… Если бы не этот шестой – Протасик падал бы то и дело». С этого он и начнет свою поздравительную речь.
На следующий день все было устроено по высшему разряду. Приехал сам начальник глинской почты Хари тон Тапочка на бричке с кучером. Почтили ноги Прота сика, да так, что сами остались без ног и заночевали во дворе на травке. Харитон Тапочка спал на подушках. Протасик рассыпался в благодарностях философу. Неслыханное дело – чтобы сам Харитон Тапочка приехал в гости к почтальону! Шестой палец на левой ноге, благодаря Фабиану, превратился в такое достоинство Протасика, что Тапочка отныне хотел иметь только шестипач лых почтальонов. Фабиан произвел на Тапочку самое прекрасное впечатление, какое мог произвести вавилонский философ на глинского почтмейстера. Оба были рады этому знакомству, утром Фабиан разыскал в своих святцах Харитона и таким образом заложил основу нового приходного дела. Это был уже выход в Глинск, и дело не могло ограничиться одним Тапочкой, через него в святцы к Фабиану попадут, верно, и еще более достойные глинские мужи.
А пока что его внимание было приковано к вавилонянам. Они уже так свыклись с этим ритуалом, что если Фабиан не приходил к кому нибудь в день ангела, это расценивалось не иначе, как дискредитация именинника. Всем, правда, за очень небольшим исключением, импонировал и вид этого мыслителя, и образ его мышления, и речи на торжествах. Он умел даже самого маленького человека возвысить в глазах других (скажем, Протасика в глазах Тапочки). Вавилонский актив взял себе за правило бывать на именинах в более или менее постоянном составе: Ткачук, Соколюк с Даринкой, оба Буга – отец и сын, оба Раденьких – Федот и Федор (сыновья братьев Раденьких), трое Павлкжов – кузнецы, члены правления, Рузя Джура – слава и гордость Вавилона, Явтушок (в качестве страхового агента) и, конечно же, Савка Чибис – исполнитель. Как видим – немало уважаемых людей, которые могли бы украсить любые именины. Но, разумеется, самым прекрасным дополнением к ним был философ с козлом. Считалось, что присутствие на именинах козла придает празднику некий символический смысл – ведь если верить Фабиану, этим существам некоторые древние народы поклонялись как богам.
«Ни у кого из вас, – говорил Фабиан, – нет такого верного товарища, какого имею я в особе этого рогатого молчуна. Я уверен, что приобщение этих существ к цивилизации оправдало себя. Если бы у Дон Кихота вместо Санчо Пансы был обыкновенный козел, он наверняка допустил бы намного меньше ошибок в своей жизни, ведь в каждом из нас живет подстрекатель к безумствам и тем грешным страстям, какими наделили нас наши праотцы».
Полоса именин длилась всю зиму, весну, затем наступал большой перерыв до осени, Фабиан на это время переодевался в свое обычное платье и становился весовщиком к молотилке, являя собой там, по крайней мере в глазах Варйвона, образец честности и бескорыстия. Козел в этот период также переходил на содержание колхозной кухни.
Явтушок никудышно ориентировался в великих революционных ситуациях, всегда заблуждался и оказывался среди разбитых, за исключением, пожалуй, тех немногих дней, когда был коноводом в Первой Конной, победу которой над белополяками потом беззастенчиво приписывал себе, поскольку в решающую минуту будто бы подал командарму свежего коня вместо подбитого под ним шрапнелью. Правда, тогда никто, кроме самого командарма, не заметил этого подвига, но такой эпизод под Бродами имел место и в самом деле мог отразиться на всей операции. После этого, когда началась атака, Явтушок не спускал глаз с командарма, держа для него наготове запасного коня, но второго такого случая больше не представлялось, и командарм, и конь его были точно завороженные от пуль и снарядов, вот Явтушок и не смог прославиться в том походе.
Зато в мелких житейских событиях Явтушок порой выступал как выдающаяся личность. Это проявилось еще в эпоху ликбеза. Читать Явтушок научился за три вечера, на шестой вечер свободно писал по печатному, на следующей неделе стал писать по письменному, а через месяц сам уже вел группу наиболее тупых односельчан, среди которых была и Прися, так и не сумевшая одолеть премудрость словообразования. И если Явтушок не выбился в большие люди, так это совсем не его вина, это следует отнести к недостаткам самой системы выдвижения, при которой предпочтение отдавалось не таким сложным и противоречивым натурам, как Явтушок, из за невозможности хотя бы приблизительно определить, где такой тип может оказаться в случае тех или иных социальных усложнений или обострений классовой борьбы. Ведь «обезземеливание» не только позитивно влияло на человека, но и вызывало в нем такие неожиданные изменения, каких не могла в деталях предвидеть ни одна мировая философия.
Явтушок был одним из тех, у кого обобществление земли сперва вызывало неуемную тоску по ней, затем равнодушие, а позднее – чувство презрения к ней, быть может, и враждебности даже. Потому то он и пытался отойти от нее, охотно сам высказывался об этом, а со временем, добровольно застраховав свою жизнь, неожиданно для самого себя и для вавилонян выбился в страховые агенты.








