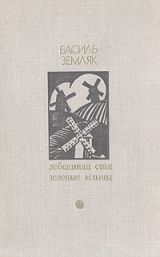
Текст книги "Зеленые млыны"
Автор книги: Василь Земляк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
– Долго рассказывать, Мальва… Орфеевна…
– Ну, ну, Орфеевна! Это еще на что? Зови просто Мальвой. Родичи ведь… Да и ты уж вон какой. Говорят, летал?..
– Не высоко… На кукурузнике… Побитый был. Самолетик побитый…
– Тут где нибудь? В наших местах упал?
– За Киевом. На Полтавщине.
– Это ты из того окружения?..
– Из того, Мальва… Орфеевна. Мы там держались до последнего патрона. Вместе с генералом в последнюю атаку пошли. Летчики, не летчики – все подряд. А вел нас в атаку секретарь ЦК Бурмистенко. Я был в его группе. Было пять групп, и ни одной не удалось вырваться. Бурмистенко погиб. У меня на глазах. Нам да же не удалось похоронить его. Не успели…
– А что Кирпонос?.. Изменил?……
– Кто вам сказал?
– Народ говорит. Будто бы сообщали в немецких газетах. Сдал армию и сам сдался…
– Я видел Кирпоноса. Привез ему пакет. Не знаю, что было в том пакете, но упали мы недалеко, и пакет я сам ему вручал. Это было на рассвете, еще сутки он был с нами, ходил с палочкой – в ногу его ранило. А на другой день, как раз только стало вечереть, погиб у «генеральского родничка». Там есть родничок, в Шумейковой роще, генералы из него пили, вот бойцы и прозвали его «генеральским родничком». Разорвалась мина как раз, когда он там пил воду. Шальная мина. Там его и похоронили. Я из того родничка сам пил, когда пришел к ним. Не упади мой кукурузник, может, я и вывез бы Кирпоиоса…
У крыльца затопали.
– Это Рузя, – успокоила меня Мальва. Побежала, встретила ее.
Рузя черным черна. В телогрейке, подпоясанной ремнем, в сапогах, в теплом платке, а в глазах и страх, и смех. Немцы пустили завод, гонят всех на плантацию, заставляют днем копать свеклу, а ночью, при фонарях, чистить. По два три раза в день приезжают коменданты, а каждую неделю наведывается и сам гебитскомиссар Месмер, обещает созвать в Глинске съезд свекловодов, на который должен прибыть еще более высокий начальник и вручить лучшим из лучших часы. Еще бы! Да за такую свеклу, говорит Рузя, можно пол ихней Германии отдать. Мы лее ее для себя растили, каждая с конскую голову, у тех, кто копает, руки сводит, а он, проклятый, ходит в белых перчатках да причмокивает.
– Вот какую вы землю немчуре отдали! – Рузя злится, стаскивая с ног сапоги. Правую ногу она сама вынуть не может, и Мальва ей помогает. Не рассчитала усилие, падает с сапогом на кровать, смеется, а Рузя на скамеечке плачет.
– Ну, ну, будет тебе, пятисотница! Иди, мой ноги, ужинай, да и родич вон, видишь, с дороги. Тоже не ужинал еще.
– А что там у нас на ужин? – спрашивает Рузя.
– Пироги со свеклой… И жаркое. Несоленое. Соли нет.
Обе идут за перегородку, Рузя там умывается, а Мальва накрывает на стол: вносит пироги, знаменитое
вавилонское жаркое, непочатую бутылку бураковки – свекольного самогона.
– С нашей винокурни, – Мальва усмехнулась, ставя бутылку на стол. – Рузя простужается, кашляет, вот я ее и подлечиваю. Она в поле, а я тут… под замком.
Входит Рузя, выпивает свою рюмочку, принимается за пироги. Она сразу разрумянилась, ожила, в глазах заиграли огоньки.
– Где же ты собираешься жить?
– Еще пе знаю.
– Тут ваши утки на пруду. Белые. Северин в Глинске достал. Поручил их мне, а я все не могу их дозваться. Не то одичали, не то не знают нашего языка. Китайские какие то…
– Ага, отец писал мне…
– Про уток?..
– Да он мне обо всем писал… Такой был писучий, что я не успевал прочитывать его письма. И про вас писал…
– А про меня что же?
– Что вы получили орден за свеклу. Что чуть не вышли замуж за какого то приезжего.
– Ох, уж это замужество! Он переселенец, из Теребовли. Печь у меня клал. Потом вот эту перегородку поставил. Красивый был, ласковый, тихий и великий мастер по печам. Влюбился то ли в меня, то ли в мою славу. Ну и жил здесь до поры до времени. Одну зиму, а потом ушел. А тут слышу – у них уже, у немцев. Чуть ли не начальник полиции в Глинске… Приголубила его, а он, может, шпионом был ихним, тогда еще, до войны. Мальва знает его, он и в Зеленых Млынах клал печи…
– Да еще какие! Любо посмотреть. А уж если распишет, так куда там. Двух одинаковых печей не найдешь, двух одинаковых узоров не было. Лемки просто млели от восторга. И собою хорош был. Мой Журба даже приревновал его ко мне. Так, ни с того ни с сего. А потом он ушел от нас. Сюда, в Вавилон.
– И теперь бывает?
– Наведывался… Приезжал мириться. Сгинь, говорю, нечистая сила! Не смей переступать святой порог! Как же я его впущу в хату, когда тут Мальва? Да и
не будь Мальвы… Больше не показывался. Только поклоны с Явтушком передавал. А мне и слушать было противно. Как то приезжал набирать наших ребят в полицаи, так хоть бы один пошел. Свеклу возят, ну, это уж такое дело – кому то надо копать, а кому то и возить, а вот в полицию – черта с два. Ну, а ты как же? Придется и тебе – на свеклу. Может, принять тебя в звено? – Рузя рассмеялась.
– Погоди со звеном, Рузя, надо же где то жить, – вмешалась Мальва.
– Пускай в примаки идет. Молодиц много. Вон у меня есть Галка Капелюшная. Молоденькая, хорошенькая, орденом за свеклу награждена. Есть еще одна, Ониська Палий, ты ее должен знать – из тех Палиев, что на Гунцвотах. Тоже без мужа, перед войной новую хату поставила, ребеночек у ней. Три годика, уже гусей пасет. Еще есть подходящая кандидатура – Тодоська Юстимчук, эта уже твоего, Мальва, возраста. Ну и что? Наш то парень тоже усатый. А ведь похож на Андриана, когда тот молодой был, верно, Мальва?
Я таким Андриана не помню. Я тогда еще на качели не ходила. А ты хоть знаешь, Рузя, откуда гость пришел?
– Точно я не вижу! С войны, откуда же теперь приходят. Не сумели постоять за нас, пусть хоть пристают к нам примаками. А что им теперь – лодырничать? Валандаться вот так? У немца долго не проваландаешься. Бах бах, и нету. Надо пристанище иметь. Ширму какую нибудь.
– Надо, да только не здесь, не в Вавилоне. Тут его фашисты схватят на другой же день. И у Галки, и у Приськи, и у Ониськи, где бы ни пристал. Только услышат, что летчик, тут же и прилетят. А парень еще может нам понадобиться… – При этих словах Мальва предостерегающе глянула на Рузю, чтоб та не выболтала лишнего, а я смекнул, что в этой хате знают и что-то такое, что мне еще рано знать.
Неужели это и есть подполье, с которого должна начаться моя новая война? И неужели подполье начинается вот так, просто, за ужином, и с такими домашними, хрупкими, дивными созданиями, которые и сапоги то путем снять не могут, падают. Я видел крупных и суровых полководцев, которые, исчерпав все возможные для борьбы средства, сознательно шли на смерть, а эти две беззащитные женщины и не собираются сдаваться. Смотрю на них и поражаюсь: откуда такая дерзновенная вера, такая неукротимость?
Сошлись на том, что ни в какие примаки идти мне сейчас ни к чему, хотя Вавилон кишит претендентками на мое сердце, и самое лучшее для меня не задерживаться здесь ни одного дня, а податься к лемкам, в Зеленые Млыны, тем паче, что меня видела Отченашка, а значит, завтра обо мне узнает весь Вавилон.
Мальва обулась, оделась, накинула Рузин платок и проводила меня за село. По дороге она рассказала о своем первом глинском подполье.
Две недели подряд вражеские войска шли через Глинск, превратили его в ад из черной пыли, смрада и гула. Две недели подряд в квартире Вари Шатровой не было покоя от офицеров, которых в ее жилище привлекала то ли зеленая крыша, то ли изысканность наличников на окнах, а может, и сама хозяйка. Мальва не могла учесть этого, когда оборудовала здесь свою первую конспиративную квартиру, и теперь ей приходилось выдавать себя то за сестру хозяйки, то за соседку. К счастью, по другую сторону Вариных сеней сохранилась каморка старого Снигура, и они с Варей перебрались туда, но офицеры заглядывали и в каморку, а увидев там таких красивых женщин, стали приглашать их на свои ночные оргии. "Один из постояльцев оказался генералом, чей корпус перебросили сюда из Парижа, он приметил Мальву (она назвалась здесь Настею), обещал прислать за фройляйн машину, как только корпус завершит свой марш и станет по окончании войны на зимние квартиры (генерал отводил на все это месяц полтора). Разумеется, он спутал Глинск с Парижем но получил решительный отказ и больше не совался в каморку, куда Мальва сбежала от его ухаживаний. Зато гестапо, появившееся вслед за тем корпусом, проявило к Мальве куда более настойчивый интерес. В центре Глинска на всех видных местах было расклеено объявление о розыске Мальвы Кожушной, опасной большевички, оставленной для подрывной работы против третьего рейха. Одно такое объявление Варя сорвала со
(столба и принесла домой. На объявлении была фотография Мальвы, та самая, что накануне войны появилась в районной газете. Неделю Мальва не выходила из дому, но однажды во двор приковылял Шульц на своей деревяшке. Он велел Варе Шатровой приодеться, сесть в бричку и ехать с ним к гебитскомиссару. Пришлось ехать. Вернулась Варя в ранге кухарки, тяжко удрученная этим, тогда как Мальва, наоборот, очень обрадовалась такому доверию, правда, не представляя еще, как обратить это обстоятельство на пользу подполью. А затем начавшиеся в Глинске облавы заставили Мальву искать новое пристанище, и она убралась в родной Вавилон.
За селом Мальва остановилась, прислушалась.
– Глупость это была. Недодумал Валигуров. Тут мне и носа высунуть нельзя. Разве можно было оставлять меня в родном районе? «Ты, – говорит, – знаешь людей, тебе и карты в руки». Но люди то знают меня лучше, чем я их. Наткнулась тут на Отченашку, а там еще на одного болтуна – и все мое подполье пошло кувырком. Под замком сижу, вот и все подполье… В Глинске схватили Ярошенка. Тоже оставленного. Видно, он и сболтнул про меня. Иначе немцы не бросились бы меня разыскивать. Вавилон не мог меня продать. Зеленые Млыны могли бы. Я выселила их из хуторов. Кирило Лукич первый не простит мне. А здесь– не за что. Кулаки вавилонские разбрелись по свету, не напоминают о себе. Может, двинут сюда позднее. А пока что… не слыхать… Вот, говорят, сын сахарозаводчика Терещеика объявился, приезжал на завод перед пуском, покрутился день два – и назад. В Пруссии он где то. А наших магнатиков нет и в помине. Старшие, видать, повымерли, а младшие выучились, стали людьми и воюют за Советскую власть, как все.
– Про Лукьяна не слыхать?
– Не слыхать. Скот погнал с Валахами, Гуртовым от всего Глинского района. Я ведь тоже должна была с ними идти. А Валигуров здесь меня оставил. Без оружия, без людей, безо всего. Еще и подбросил мне на беду этого Ярошенка. Вроде бы спец по радио. Радист, одним словом. И что бы он передавал? Что немцы пустили завод в Журбове? Что в Глинске расстреливают евреев? Что гебитс затевает съезд свекловодов, чтобы на будущий год получить такую же свеклу, какую вырастила наша власть…
– Рузя вырастила ее…
– Ясно, Рузя, а кто же? Никакая власть без Рузи, без таких, как она, свеклы не вырастит… Есть растения, которые без женщин ничего не стоят. Для меня Рузя – целое государство. И если Рузя запирает меня, прячет от меня спички, чтоб не было дыма, – значит, так надо. Значит, существует государство, государство есть; она, Рузя, думает не столько обо мне, сколько о нем, о своем государстве. Вот почему мне у нее так хорошо. Так спокойно. Так надежно. Словно я в этой хате родилась.
– У вас хоть есть чем обороняться? Если вас застукают?..
– Что ты имеешь в виду?
– Как что? Оружие?
– Нет у меня ничего.
– Совсем ничего? – Совсем…
– Возьмите вот это. Как же так, безо всего?
– А что это?
– Обыкновенный наш ТТ. На восемь пуль. Мальва взяла, подержала и вернула смущенно.
– Я не умею стрелять…
– Разве председателям сельсоветов не выдавали револьверы?
– Может, мужчинам и выдавали. А я женщина. Где бы я его носила? За пазухой? – Мальва рассмеялась. – Нет, правда, где? Да и зачем?
– Как же вы собираетесь воевать?
– Как?.. Думаешь, я знаю? Знай я, с чего начинать, разве я сидела бы у Рузи? Может, потом что-нибудь прояснится. Мне Валигуров сказал, что на первых порах надо сидеть и не рыпаться. А потом меня найдут товарищи из центра, дадут задание, а может, даже сбросят десант. Подожду еще некоторое время. А там начну шевелиться сама. Ты, я, Рузя – вот уже и маленькая организация. Так? Может, тебе с нами несподручно? Ты не стесняйся, скажи, я не обижусь.
– Отчего ж несподручно?
– Оттого, что тебе придется приходить сюда из Зеленых Млынов, отчитываться, что там и как. Там железная дорога. Поезда ходят на фронт. Марать руки об одного фашиста, пусть даже и палача, – нет смысла, только наших поубивают. А поезд с рельс – это дело. С орудиями или с танками немецкими. Авария! Кого тут стрелять за аварию? Жертвы есть, а виновных нет… Вот и присмотрись там к железной дороге, что везут, кого везут, какая охрана. И ходят ли поезда по ночам? Наверно, ходят… Словом, я посылаю тебя в Зеленые Млыны на разведку. Официально посылаю… Когда ждать тебя обратно?
– Дня через два три?
– Что? Через месяц. И не раньше. Пристройся, поживи, осмотрись. Может, даже наймись рабочим на железную дорогу. А что? Неплохо бы обходчиком или еще кем.
– Попытаюсь…
– Там был хороший человек главный кондуктор Микола Рак. Если он там, то устроиться тебе будет нен трудно.
– Это какой же Рак?
– Муж Пани Властовенко, пятисотницы нашей. Ты должен ее знать. Лель Лелькович обожал ее.
– Она не уехала?
– Нет, она там. Знаменитость. Слава Зеленых Млы нов. Заходи к ней смело – наш человек. Но обо мне – ни слова. Лемкам не надо знать, что я здесь, у них со мной свои счеты. А то я сама пошла бы к ним…
Вот и ветряки. Дальше Мальва не пойдет. Мы уже попрощались, как вдруг из за Абиссинских бугров вырвался свет фар. Лучи черкнули по искалеченным крыльям ветряков, двинулись в нашу сторону. Мы едва успели забежать в ближайший ветряк, залезли на чердак, притаились.
– Что это там светится? – Мальва показала на балку под потолком.
– Сова…
Грузовик приближался к ветрякам, фары осветили сову на бревне, та перепугалась, захлопала крыльями, а за ней другая, третья. Машина открытая, немцев, судя по голосам, должно быть, полный кузов. Только б не остановились. Останавливаются, черти, выпрыгивают, идут до ветру… Один говорит, что эти ветряки напоминают ему Вестфалию, только там мельницы колоссальные и внизу живут мельники. Стали было светить на развалины фонариками, но тут старший засигналил, они разом прекратили осмотр, полезли в кузов и уехали. В направлении Прицкого…
Я спрятал пистолет, а Мальва облегченно вздохну ла. Мы спустились вниз и долго еще стояли, чтобы убедиться, что они не повернули на Вавилон. Немцы, не зная дорог, да еще ночью, могли и заблудиться. Мальва сказала, что я хорошо держался, а она и сейчас еще вся дрожит. «Постоим, мне надо успокоиться. – А потом говорит: – Иди… А я еще зайду к маме, проведаю сына…» Возможно, она делает это каждую ночь, когда мальчуган уже спит. А потом видит его из Рузиного окна – через пруд. Подумал я об этом – и хоть возвра щайся с дороги. Мальве ни в коем случае нельзя навещать сына. Но Мать и в подполье остается матерью.
Глава ЧЕТВЕРТАЯ
Сегодня воскресенье, и в Зеленых Млынах, кабы не война, был бы веселый пивной день. Лемки развлекались бы вовсю, в клуб вкатили бы несколько бочек тывровского пива, сваренного из здешнего ячменя, а музыканты до поздней ночи перемежали бы падеспань с краковяком, а под конец грянули дружную и быструю «Коробочку», от которой тепло на душе всю следующую неделю. Теперь в клубе стоят немцы, уже второй месяц, стоят там, хотя прибыли вроде бы на несколько дней охранять железную дорогу, по которой должен был проехать к войскам чуть ли не сам узурпатор. Высокие окна до половины заложены мешками с песком, а в двух чердачных окошках под красной черепичной крышей установлены пулеметы, нацеленные на кладбище, что расположилось напротив клуба. Там камни, белая часовенка и заросли, оттуда немцы могут ожидать чего угодно… Те из лемков, кому довелось по бывать в клубе теперь, к примеру, Сильвестр Ма кивка, рассказывают, что там все осталось, как было до войны. Сцена, декорации, занавес, на котором Домирель, наш учитель ботаники, воссоздал в красках историю Зеленых Млынов, завершив ее процессией пятисотниц во главе с Паней Властовенко, большой в то время знаменитостью. Домирель собирался расписать еще и стены, но не успел, ушел на войну, и было жаль, что этот местный Сикейрос может погибнуть, не завершив работу. Женщины очень удались ему, идут как живые, и солдаты поделили их между собой, отдав Паню капитану, которого за глаза называли «Злым Иоахимом», – наверно, рассчитывали задобрить его такою жертвой. Но Злой Иоахим был непоколебим, запретил какие бы то ни было контакты с прототипами живописи, продемонстрировав при этом и собственный пример стойкости перед этими, как он выразился, «рабынями рейха».
Злой Иоахим оказался скрипачом, возил с собой старинную скрипку, как то услыхал исполнение Сильвестра (тот, лишенный возможности играть в клубе, каждый вечер музицировал для лемков возле своей хаты) и приказал привести скрипача под конвоем к нему. Теперь Сильвестр ходил в клуб, как на работу, они сыгрались, но лемки, заслышав долетавшие из клуба божественные звуки, впадали в еще большую печаль, полагая, что Сильвестр переметнулся к немцам. Когда он, обессиленный и разбитый, возвращался из клуба, они обзывали его «кривым чертом», а самые ожесточенные спускали на него собак. Сильвестр все порывался удрать из Зеленых Млынов, да и удрал бы уже, не будь на его шее сестры, такой же калеки, как и он. Злой Иоахим не поглядит на то, что она сестра гениального музыканта. И потому в условленное время Сильвестр снова и снова ковылял в клуб, проклиная и скрипку и свою горькую долю. Он пересчитал немцев, выведал все об их вооружении, иногда перехватывал даже пароль, который они время от времени меняли, хотя и не собирался нападать на них – просто так, на всякий случай, только потому, что идет война. Из за своей хромоты Сильвестр никогда не служил в армии, а бунчук военного оркестра видел только однажды, на маневрах года, когда через Зеленые Млыны возвращался из Вавилона корпус Криворучка. Этот бунчук с двумя конскими хвостами капельмейстер держал высоко над собой, а сам красовался впереди бригады на белом коне, и это тоже производило впечатление.
Так вот – немцев было ровно сто, они охраняли железную дорогу, еженощно отправляли на линию несколько нарядов, каждый из которых брал с собой заложников из местных жителей. Сперва брали мужчин, потом староста стал выделять в заложники и женщин. Они (заложники и заложницы) должны были идти впереди наряда, в нескольких метрах от немцев, и первыми подвергаться опасности. Ходила в заложницах и Паня Властовенко, до тех пор, пока капитан не узнал в ней «свою» Кетхен и не спросил, подведя ее к сцене и приказав опустить занавес: «Вы?». «Я», – ответила Паня. «Карашо!» Капитан отослал Паню домой, а на следующий вечер пришел к ней со скрипкой и в сопровождении молоденького солдата, несшего в папке ноты. «Я хотел для вас поиграль», – сказал Иоахим, осмотрев новую, даже не беленую еще хату.
В эту хату Паня перебралась накануне войны с хутора. Муж Пани Микола Рак дослужился на железной дороге до главного кондуктора, в начале войны сопровождал воинские эшелоны и не вернулся за Паней, оставив ее с ребенком (дочурке шестой год) в незаконченной хате. Мать Пани умерла еще на хуторе.
Паня уже собралась спать и теперь стояла возле спящего ребенка с расплетенной косою, такой черной, что, если долго смотреть на нее, глазам становилось больно. На шестке у печи подслеповато мерцала коптилка. Иоахим почувствовал, что Пане вовсе не до музыки, да и девочку можно разбудить, но он был из тех, кто, переступив порог чужого дома, сразу же претендует на роль хозяина. Пока молоденький солдат с автоматом стоял в дверях, не сводя глаз, с красавицы, капитан открыл футляр, вынул скрипку, смычок, уселся на дубовую скамеечку и, приладив скрипку под подбородком, повел смычком. Скрипка всхлипнула и затихла. «Я сыграль для вас, о тирольски женщина». Паня молчала, гладя дочурку. «Без нот сыграль…» Он начал играть, играл и в самом деле трогательно, однако девочка проснулась. Паня взяла ее на руки, прижала к себе и слушала. Должна была слушать.
Как раз в это время у хаты остановился мотоцикл (возле клуба стояло пять мотоциклов с колясками и две крытые машины), и через минуту в хату вбежал какой то нижний чин, в каске, с автоматом на шее, и крикнул:
– Десант! – Злой Иоахим никак не мог уложить скрипку в футляр, в спешке сунул ее не тем боком и, забыв о «тирольской женщине», выбежал из хаты.
Через полчаса на хуторах завязался бой, который длился почти всю ночь. Паня не спала, прислушивалась к бою, а он все удалялся и около полуночи переместился к ее старой усадьбе. Теперь там только сад, кусты, заросший двор и… десант.
Паня подумала о муже. И верилось, и не верилось, что Микола может оказаться здесь, па их хуторе. Действительную Микола служил в саперах, строил железную дорогу где то в Азии, на знойном юге, войну начал главным кондуктором, и если б прыгал с парашютом, то уж наверно рассказал бы о том жене. Грузовики и мотоциклы сновали от хутора к клубу, возили убитых и раненых. Прибыли машины из Глинска и еще откуда то, а у железнодорожной будки остановилась дрезина с санитарами. Староста с мельником Аристидом Киндзей всю ночь метался по селу на подводе, выхватывал у лемков из под голов подушки для раненых немцев. Староста, Хома Чорновух, забежал к пей: «Слушай, Паня, там случайно твоего Миколы пет?» – «Откуда мне знать? А много их там?» – «Говорят, спустились десять. А бьются, словно их сто». Паня тоже отдала подушку, лишь бы не для Миколы, если он там. Мысль, что муж там, все больше овладевала ею и даже пробудила в душе к Миколе новое чувство, которого прежде не было. Верно, это была гордость. Паня совершенно неожиданно поймала себя на мысли, что вот убьют этой ночью «скрипача» (Злого Иоахима), и сделать это должен Микола, если он не разлюбил свою Паню…
А на рассвете, когда бой утих, за нею приехали на мотоцикле. Тот самый чин (как потом узнала Паня – фельдфебель), который накануне примчался за капитаном. Фельдфебель ничего, живой, только словно в аду побывал. Паню посадили в коляску, повезли на хутор. Оба немца молчали, и Паня молчала, всю дорогу непроизвольно заплетая косу, которую распушал встречный ветерок. Когда проезжали запруду, начался восход, и Паня увидела на воде тень человека. Это монах со своим козырьком отбрасывал тень – точно как человеческая. Когда то, еще девушкой, Паня любила залезать на монаха и прыгать в пруд с козырька. Теперь пруд обмелел, немцы спустили воду (каждую субботу ловят рыбу
ш
сетями), и монах словно бы подрос и внутри у него не бурлит, будто он умер.
Паню привезли в ее старый двор на хуторе. Там дымил костер, вокруг него толпились солдаты, все в касках, с автоматами, они завтракали, пили из фляг, делили «Северную Пальмиру» (эти папиросы Микола иногда привозил из своих поездок), консервы и еще какие то трофеи. Офицеры в черных плащах стояли в стороне от этого торга, возле черных машин, и, похоже, ждали Паню. С ними был австриец Шварц на деревяшке. Его похоронное бюро до войны похоронило Панину мать. Шварц был потом на поминках здесь, на этом хуторе, хорошо знал Паню, но сейчас делал вид, что не узнает ее. Она догадалась, что Шварца привезли из Глинска и он здесь за переводчика. Были тут и Хома Чорновух и Аристид Киндзя, мельник. Они стояли у подводы, на которой всю ночь ездили за подушками. Фельдфебель повел Паню в глубь сада. Офицеры двинулись за ней.
Десантники лежали под белой черешней. Листья с нее уже облетели, и Паня легко нашла на ней свою любимую ветку, на солнечной стороне, там черешни поспевали раньше. Убитых уложили в ряд, лицами вверх. Со всех были сняты ремни и сапоги, у некоторых развязались тесемки исподних. Ребята все молодые, кудрявые, теперь их волосы, по большей части светлые, словно бы вросли в пожелтевшую траву или, вернее, срослись с нею, и только у одного рыжие вихры (как у нашего агронома Журбы, отметила Паня) вились как то сиротливо. Уж не командир ли ихний, подумалось ей, щеки обросли, может, уже тут, после смерти. У ног его лежала байковая портянка, сухая и белая, точно только что выстиранная. Серые глаза смотрели мимо Пани на ветки, но Паня заглянула в них: нет, не он, не Журба.
В сторонке, сложенные в кучу, лежали их парашюты из голубого шелка, с белыми стропами. Пане показалось, что парашютов больше, чем убитых. Она только сейчас пересчитала трупы: их было девять, да, точно, девять, а парашюты ей не удалось пересчитать, там все слишком перепуталось. И все же ее женское чутье подсказывало ей, что где то здесь должен быть и десятый – уж не Микола ли? Но где же? Паня невольно окинула взглядом сад, по осеннему задумчивый, затаенный, посмотрела на пруд, поблескивающий утренними красками, на камыши, в которых проснулся ветерок. «Не в камышах ли? – подумала Паня. – Тихо сидит себе под водой, дышит в зарослях, а может, утонул и через несколько дней всплывет меж лилий». Она все эти дни будет ходить на пруд, звать, ждать. А рыжие вихры вдруг вспыхнули под утренними лучами.
Рихтер, еще ночью прибывший сюда из Глинска, внимательно следил за Паней и теперь подал едва заметный знак старосте. Чорновух, маленький, шустрый, бывший Панин сосед по хутору и ее же недавний бригадир, теперь бегал как заведенный (совсем продался им, подумала Паня). Он взял ее за руку, подвел ближе к убитым, зашептал на ухо:
– Наклонись, наклонись, Паня. Не бойся. Они уже убиты. Покажи господину Рихтеру, который из них наш.
Паня выдернула руку, нечего ее поддерживать, она и сама устоит.
– Как это – наш? Они все наши. Все в нашем…
– А ты присмотрись получше. Тут один наш парень. Из Зеленых Млынов. Разве ты виновата, что он… Его заставили. Приказали ему. Покажи, Паня, покажи… – взмолился Чорновух, снова взяв ее руку и сжав ей ладонь – а это мог быть уже и потайной знак для нее. Паня стояла, всматривалась в головы, в лица, если она правильно поняла Хому, то на одного из них она должна указать как на своего Миколу. Но его тут нет; будь он тут, Паня, наверно, не удержалась бы, узнала б его. Ей даже стало неприятно, что его здесь нет, – так высоко она ценила их подвиг и смерть. Один из них, узбек или татарин, совсем юноша – черные усики, видно, только что пробились, – лежал свободно и гордо, как живой, пуля пробила кармашек против сердца, он не мучился, только в глазах застыло удивление, что жизнь может вот так внезапно оборваться.
– Нет, нет, туда не смотри, это не он, это азиат… Глаза осокой прорезаны, как у нашего Домиреля. Ты глянь лучше на вон того, третьего, на третьего. Не наш агроном Журба, а? Федор Авксентьевич Журба… Волосы… Глаза… Все… Посмотри на руки, Паня. Вон на том большом пальце у него был нарыв. Перед самой войной… Помнишь, нарвал у него большой палец? На правой руке… Погляди…
– Был нарыв… Был…
– Вот и я говорю господину оберсту: восемь чужих, а один наш. Федор Авксентьевич. Агроном. Слава богу, родни у него тут никакой, родня у него в Конских Раздорах, это вона где, так что ты только хорошо сделаешь, что признаешь его… Приглядись как следует, к пальцу приглядись. Он, а?
Журба сделал их пятисотницами, ударницами, а сам умел оставаться в тени, незаметным, неустроенным, по своему несчастным, да, пожалуй, по своему и счастливым. Но Паня не выдала бы его и мертвого.
– Нет, это не он, – сказала она.
– Так и я говорю, что не он! – подошел Аристид Киндзя. – На что ж, Хома, возводить на человека поклеп? Похож – да… Но не он, непревзойденно не он.
– Тогда ищите десятого! Парашютов найдено десять, а их тут девять… Вон господин оберет говорит, что без нашего здесь бы не сбросили…
«Десятый»… Вот почему у Пани такое ощущение, что Микола где то тут. Может, даже сидит в камышах и смотрит сюда и видит свою Паню. По телу словно ток пробежал.
– Ну? – спросил Рихтер, видя, что Чорновух в отчаянии.
– Нет здесь ее мужа. Сад этот когда то был ихний. А хозяина сада здесь нет.
– Пльохо. Где он? – спросил Рихтер у Пани.
– Кто? Микола? Откуда ж мне знать?
– Снайпер! – Рихтер сделал странное ударение на последнем слоге. – Десятый! – Он поднял винтовку с каким то прибором на ней (это был оптический прицел). – Вот его винтовка. Да, его?
Паня развела руками. Рихтер поинтересовался, коммунист ли ее муж. Паня сказала, что он был кондуктором на поездах, а был ли коммунистом – она не знает. Он был такой, что не разговаривал с ней об этом.
– А сама она – коммунистка? – спросил Рихтер через переводчика.
– Я?.. Из за этого сада… – Паня обвела рукой вокруг.
И тут Шварц сделал решительный скачок на деревяшке. Он сказал Рихтеру по немецки, что сад был слишком велик и Паню из за этого не приняли в пар тию, а сад обобществили. Он, Шварц, хоронил ее мать и потому знает некоторые подробности.
Когда немцы ушли из сада, Чорновух напал сперва на Киндзю, потом на Паню.
– Дурак ты, Киндзя, последний дурак! Что тебе до того – Журба или не Журба? Сам вижу, что не Журба, по ведь похож? Хочет, чтоб был наш, – на тебе нашего. Где его взять, этого десятого, где? Может, он в трясине увяз, может, как раз этот десятый и есть наш, родненький, завтракает себе где нибудь дома, а эти: нет, нет, нет! Сказать нельзя, до чего ж вы темные люди! Тут село на волоске – что ему стоит, этому Рихтеру, уничтожить нас за этого десятого – всех до одного, сжечь Зеленые Млыны, сровнять их с землею. Пропади вы пропадом! Лемки! Соврать не умеете какому то паршивому немцу! И эта еще выставляет шейку перед обер стом! Кондукторша! А может, этот десятый и есть твой Рак? Молчишь теперь? Э?
– А вы не кричите перед мертвыми…
– Им уже все равно, откричались. Бились, как львы. Семнадцать супостатов насмерть и две машины раненых. Какая страшная ночь! А Рихтер – не дурак. Тут точно без нашего не обошлось. Без нашего их здесь не сбросили бы. Кто знает в Москве об этих хуторах, за рослях, родниках? Думать надо, Киндзя, вот, этой мельничкой думать, – он показал на голову. – Враг хитер, а мы еще хитрее. А то нас и куры заклюют. По смотри, какие ребята! А все лежат. Одна ошибочка – и конец. А где то матери, жены, дети будут ждать… Ох хо хо!
– Тихо! – Киндзя вдруг замер. – Слышите?
– Мотоциклы трещат…
– Нет, нет… – Киндзя привык слушать свою мель ницу, умел различать в гуле паровика тончайшие оттенки. И тут его слух сразу выхватил из треска удалявшихся мотоциклов что-то другое. – Вроде кто то крик нул на пруду.
– Может, из них кто? – Паня оглянулась на убитых.








