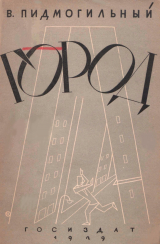
Текст книги "Город"
Автор книги: Валерьян Подмогильный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– У тебя глаза смеются! – крикнула она.
Да, они смеялись над нею. Он иронически смотрел на Мусиньку и находил её опустившейся и неряшливой. Никогда ещё так неприятно не бросалась ему в глаза щуплость её щёк, покрытых мелкими морщинами, бескровность губ и груди, которая заметно расплывалась. Радостный девичий смех на стареющем лице казался
гримасой, и он не мог побороть в себе дерзкую мысль, что если она была достойна первокурсника, то перворазрядному лектору она не под стать.
В назначенный час он встретился в канцелярии Жилсоюза со своим предшественником, товарищем Ланским, и, внимательно на него посмотрев, удивлённо спросил:
– А разве вы не поэт Выгорский?
– Да, Выгорский, – недовольно буркнул тот. – Но всё же я Лапский с деда и прадеда.
Потом поговорили о деле: выяснилось, что поэт оставил свою группу в заброшенном виде. Он не мог точно даже определить, на чём именно остановились его слушатели.
– Вообще я не верю, чтоб наука могла быть полезной, – закончил он, – особенно в моём изложении.
– Ладно. Посмотрим, – сказал Степан. – Но скажите мне, если это не секрет, зачем вы пишите под псевдонимом? Не понимаю!
– Это совсем не секрет, – ответил поэт. – Видите, вначале я подписывал стихи собственной фамилией, а их никто не хотел печатать, потом придумал псевдоним, и они пошли;
– Неужели это бывает?
– Бывает. Кроме того, если хотите, была и другая причина, внутреннего порядка. Слишком большая ответственность – подписываться собственным именем. Это словно обязывает вас жить и думать так, как пишешь.
– Разве это невозможно?
– Возможно, но скучно.
Степан предложил ему папироску.
– Нет, я не курю, – сказал поэт. – Пиво пью, это правда.
Новый костюм придавал юноше необычайную, для него самого непонятную смелость.
– Товарищ, – сказал он, – а я тоже пишу.
– Неужто? – тоскливо спросил поэт. – Что же вы пишете?
Степан весело рассказал ему не только о своих рассказах, но и о приключении у критика, казавшемся ему теперь приятной шуткой.
– А, знаю его, – сказал поэт. – Маленькая оса, которая силится больно укусить. Если хотите, дайте мне ваши рассказы, обещаю быть внимательным. Только принесите их сегодня вечером – Михайловский переулок, 12, квартира 24. Я завтра еду и заберу их.
– Едете? Куда?
– Маршрут ещё не выработан… У меня триста рублей в кармане. Постараюсь заехать подальше и надолго. Этот глупый город мне опротивел.
– Опротивел?!
– А вам ещё нет? Подождите, он себя покажет. А наш особенно. Знаете, что такое наш город? Историческая падаль. Гниёт веками. Так и хочется его проветрить.
Но звонок, возвестивший конец работы, прервал их беседу. Они вошли в большую комнату, где после работы происходили лекции. Служащие сидели у сдвинутых столов против небольшого куска линолеума, служившего классной доской. Поэт познакомил его со слушателями. Степан стад у стола и с увлечением прочёл лекцию о пользе украинского языка вообще и в частности.
XIV.
Только студент первого курса способен почувствовать радость слова «максимум», которое является для него чем-то вроде острова мечты. Во всяком случае, Степан Радченко был единственным среди своих коллег, который сдал максимум, то есть сдал зачёты по всем прослушанным за год предметам. Этот успех стоил ему колоссальной затраты энергии, если учесть, что он ещё три раза в неделю читал лекции украинского языка и должен был к ним изрядно готовиться, так как его теоретические знания не вполне соответствовали практическим потребностям учреждения, где он призван был просвещать утомлённых служащих, хотевших есть, а не склонять и, вероятно, весьма мало проникнутых сознанием высоких обязанностей перед украинской нацией.
Лекционные дни были тяжелы для Степана ещё тем, что для лекций он должен был специально переодеваться. Боясь потерять стипендию, он приходил в институт в своём старом френче. Это было для него страшно обременительно. Выходя из дому то убогим студентом, то элегантным лектором, Степан менял не только одежду, но и выражение лица, жесты, походку. Он был един, но в двух лицах, каждое из которых имело свои особые функции и задачи. Человек не мог бы придумать многоликих богов, если бы сам не был разнообразен, представляя собой странное соединение поразительных противоположностей, требовал для каждой из них воплощения, и стремление к созданию одного великого бога с маленьким чортом знаменует уже нормализацию человеческого существа, то есть усыхание его воображения. Человек не разлагается на так называемое добро и зло, на плюс и минус, как бы удобно это ни было для общественного употребления.
Очутившись в состоянии неопределённого равновесия между рыжим френчем и серым пиджаком, Степан не страдал от двойственности своего существования. Ибо за зиму он убедился, что на мир и самого себя нужно смотреть снисходительней, чем ему казалось раньше, так как в жизни, как и в гололедицу, можно упасть
и других свалить, совершенно случайно и неожиданно для себя и для ближнего.
Вся эта беготня и напряжённая работа, может быть, и истощили бы его, если бы он окончательно не решил переменить квартиру. Это решение изменило его отношение к коровам и Мусиньке. Зная, что вскоре освободится от них навсегда, он начал проявлять к ним ласку хозяина и тем временем расспрашивал товарищей о комнате и осматривал некоторые, но все они были связаны либо с ремонтом, либо с отступными, а он денег не хотел тратить, прекрасно понимая, что у него всё равно нет возможности нанять хорошее помещение.
В конце июня институт окончательно замер. Последняя экзаменационная сессия окончилась, коридоры опустели, и только изредка заходили студенты за отпускными свидетельствами. Но Степан ещё часто посещал его, занятый общественными делами. В маленькой комнате КУБУЧа и застал его как-то Борис Задорожный.
– А, вот куда ты забрался! – воскликнул Борис. – Отчего ты пропал так внезапно?
– Дела, – ответил юноша, показывая на груду бумаг.
– Дела делами, а товарищей забывать не следует… Помнишь у Шевченко: кто товарищей забывает, того бог карает… Ну, хорошо, что нашёл тебя.
– Ты меня искал?
– Несомненно. Видишь ли, я окончил институт…
– Мне ещё два года, – вздохнул Степан. – Говорят, что ещё один накинули.
– Я пять лет страдал, и то ничего! Но вот в чём дело – я оставляю свою комнату и ищу порядочного человека…
– Мне комната нужна до зарезу!
– И ты ещё удивляешься, что я искал тебя? Только не думай, что я на стаж еду: я по научной части пошёл, при кафедре остаюсь. А комнату себе нашёл большую, солнечную…
– Везёт же тебе!
– Да, должен же я получить награду за страдания! Но ты, Стефочка, на знаешь самого главного – я женюсь.
– На той самой?
– На той самой блондинке… Ох, не могу я про это спокойно говорить! Сам понимаешь – любовь…
Степан радостно обнял его, чувствуя странное облегчение, словно у него с плеч свалилась гора, которую он всё время нёс на плечах.
«Вот, если бы ещё и Мусиньку замуж выдать», – подумал он.
Вечером они оформили дело с комнатой, и Степан сказал товарищу:
– У моих хозяев мне было неспокойно, всё время гости, шум, прямо невыносимо. Ты очень мне помог. Спасибо, Борис.
Тот горячо пожал ему руку.
– Это такая мелочь, не благодари, – взволнованно ответил он, оставив свой шутливый тон. – Мне теперь доставляет радость сделать другим что-нибудь приятное. Я даю копейку нищему, и мне хорошо…
– Что-то ты сентиментальничаешь, – заметил юноша.
– Может быть. Влюблён ведь в корень! Ты не смейся – любовь есть. Начинаю, брат, верить в вечную любовь, ей-богу!
Борис дал ему свой новый адрес и просил зайти недели через две, когда он устроится и отпразднует свадьбу.
«Ну, это опасно», – подумал юноша, а вслух прибавил:
– Я завтра же перебираюсь.
На прощанье они поцеловались.
Степан думал о Борисе и не мог допустить, что здесь может быть речь об обоюдном чувстве. Он представил себе Надийку, её глаза, которые когда-то ему смеялись, и как-то убедился в том, что любить она может только его – Степана Радченко – и никого больше. Только он имеет на неё какие-то неведомые никому права и на его призыв она должна притти немедленно. Юноша, так себя чувствовал, словно обладал верховной властью над счастьем товарища и позволял ему этим счастьем пользоваться.
Потом ему стало жаль Бориса. Счастливые напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов – болезнь душевной близорукости. Возможно оно только в условиях неполного учёта обстоятельств и неполного знания вещей. Острое зрение – точно такое же горе, как и слепота, и самые несчастные люди – астрономы, которые и на ясном солнце видят досадные пятна.
Отчасти взволнованный близкой встречей со счастливым человеком, а ещё больше неизбежным прощанием с Мусинькой, юноша был, печален и не мог вполне ощутить радость от перемены квартиры, начала независимого продвижения в прекрасный мир. Хоть он и повторял слова Мусиньки, которая обещала не задерживать его, когда станет ненужной, но всё же был весьма неуверен в том, признает ли она себя ненужной именно тогда, когда он этого захочет.
Он вздыхал и томился до ночи, злился на несправедливость возможных неприятностей за все услуги, которые он оказал семейству Гнедых.
Действительно, когда он как бы шутя объявил новость, она разразилась над Тамарой Васильевной громовым ударом. На миг она как-то притихла, и юноша испугался, не упала бы она в обморок. Вот была бы забота!
Но вот она зашептала так тихо, что он еле разобрал её слова:
– Ты уйдёшь… Я согласна… Я знала… Перед тобой ещё всё. Останься только до осени. Осенью ты уйдёшь… Будут опадать листья. Будут тихие вечера… Тогда ты уйдёшь… Пусть это будет маленькая жертва… Перед тобой ведь всё. Жизнь, счастье, молодость. Перед тобой всё.. Я прошу только крошку. Неужто это так трудно? Или ты не хочешь убирать за коровами? Ну, возьмём работника… Переходи в комнаты… Что ты хочешь… Ну, не до осени… на один месяц! На неделю! На один день, только не сейчас, не сейчас!
Он выслушал её и сказал, придавая своему голосу жалость и тоску, силясь высказать глубокое сочувствие её горю:
– Дело так с комнатой подвернулось… Мусинька, я же буду приходить к вам…
Она вдруг бросила его руку, протянувшуюся обнять её.
– Ты к тому же и лгун! – промолвила она громко. – Ты хочешь меня обмануть? Я подобрала его на улице, как подкидыша, а он мне милостыню подаёт!
Хотя его положение было весьма шатким, но эти слова он принял как страшное оскорбление. Он подкидыш? Сдал максимум, перешёл на второй курс института, имеет общественную нагрузку, пишет рассказы, которыми заинтересовался известный поэт, – вдруг подкидыш! Да и не пора ли ему перестать возиться с этой бабой? Но не успел он подобрать ответа, достойного своего оскорблённого самолюбия, как Тамара Васильевна погладила ему голову.
– Не сердись, Степанка, – сказала она так покорно, что он почувствовал себя удовлетворённым. – Больно мне… Но это всё глупости. Завтра уйдёшь. Завтра, через неделю, две – всё равно, это нужно пережить! Ох, миленький, ты даже не понимаешь, каково мне! Пойдёшь себе посвистывая, и хорошо! Я тоже не буду плакать. Плачет тот, кто надеется на сочувствие. А я одинока. Максим ушёл. И никогда не вернётся.
Она тихо засмеялась, потягиваясь.
– Помнишь, я рассказывала тебе про себя?
– А что?
Он рад был слушать ещё раз о всей её жизни с начала, лишь бы она не напоминала о завтрашней разлуке, хотя в данный момент её рассказы заранее казались ему мало интересными.
– Тогда не рассказала тебе главного… Я никого не любила.
Он не понял сразу, в чём дело.
– Тебя я полюбила первого, – говорила она. – Раньше я не смела… из-за сына. Как я ненавидела его иногда! Ты ведь не знаешь, какой я была красивой… Одежда жгла моё тело, я спала без сорочки – она жалила меня. Это было страшно давно. И вот пришёл ты… – Она тихо поцеловала его в лоб. – Я не верила в бога… то есть когда-то не верила. А когда увидела тебя, снова стала молиться. Я пришла к тебе, как лунатик. Ты оттолкнул меня – я ушла. Позвал – я пришла. Воля моя сломалась. – Она сжала ему руки. – Завтра ты пойдёшь и будешь итти долго-долго… Будешь проходить мимо многих людей. Мне тоже остаются долгие дни, только я уже никого не встречу. Много пустых дней. Буду срывать их, как листочки с календаря, и с другой стороны их ничего не будет написано. А потом придёт смерть, Это страшно. Скажи что-нибудь!
Он вздрогнул. Было в её словах что-то невыразимо тяжёлое и безнадёжное. Они снова стали еле слышным топотом, который уносил его в безмерную даль, они падали ему на душу каплями тёплого масла, смягчали в ней все отвердения, разглаживали все морщины и складки, пробуждали спокойную, радостную чуткость.
– Что ж, Мусинька, – сказал он, задумчиво. – Говорите вы, я должен молчать. Ничего я не знаю. Не знаю, что будет со мной. Но одно я понял – живём мы на так, как хотим, и… должны делать другим больно. Это я понял. Иногда бывает хорошо, как сейчас. Уютно, тихо. То, что вы для меня сделали, никто уж не сделает. Мусинька, вы знаете, я мало думал о вас, когда вы были возле меня, но всегда буду вспоминать, когда вас не будет со мной.
Она благодарно поцеловала его, но отодвинулась, когда он ободрившись хотел ответить ей не одним только поцелуем.
– Не нужно обкрадывать самих себя, миленький!
Она обняла его и начала убаюкивать, напевая что-то неслышное, усыпляя тихими прикосновениями губ к его глазам и лбу, и юноша незаметно уснул, обессиленный событиями и теплотой собственного добродушия.
Утром он проснулся поздно и долго лежал. Потом умылся, постучал в двери, ведущие в комнаты, и, не дождавшись ответа, тихо вошёл. Там не было никого. Так, словно в этих комнатах никто никогда и не жил. Он постоял в Мусинькиной комнате, которая напоминала девичью светлицу своим белым одеялом и узорными занавесками на окнах, и вернулся в кухню, полный далёких воспоминаний. Выпив молоко, оставленное для него, он в последний раз выполнил свои обязанности перед коровами и наносил воды. Теперь он был свободен и начал собирать вещи.
Немного подумав, он растопил плиту. Пока разгорались дрова, переоделся в свой серый костюм и бросил в огонь френч, старые брюки и, мешки, привезённые из села, а сапоги выбросил в сорный ящик. Теперь у него остались только тетради, книги и завёрнутое в одеяло бельё.
Степан связал своё имущество в два аккуратных пакета, запер двери, положил ключ под крыльцо и пошёл с пакетами в руках, унося в душе печаль, горечь первого познания жизни и беспокойные надежды.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
I.В девять с половиной Степан Радченко возвращался с утреннего купанья, а уходил, на реку в семь. Два часа лежал он на песке под мягкими солнечными лучами, которые постепенно превратили его тело в тёмный атлас. Таково было предписание неуклонного, хоть и не писаного расписания, выработанного на другой же день после переселения на другую квартиру. Им обозначил он начало новой жизни и строго придерживался его.
Впервые избавившись от бедности, юноша был доволен своей жизнью, чувствуя себя молодым деревцом, которое может приняться на всякой почве. По крестьянскому обычаю он скопил за лето немного денег, а сам жил просто, выпивал утром два стакана молока, обедал и пил вечерний чай в Наройте. В комнате не держал и куска хлеба, боясь развести мышей и тараканов, и инстинктивно догадываясь, что держать пищу не следует в комнате, где работаешь и спишь.
Единственное, что юноша себе позволял, – это курить настоящий хороший табак, не жалея на него денег, так как если приятеля неприятно угощать плохими папиросами, то самого себя и подавно. Начатая летом серьёзная работа заслонила собою заманчивые афиши о мировых фильмах, знаменитых певцах и артистах. Он с удовольствием осудил себя на одиночество в этих стенах, где единственным украшением была забытая
бывшими владельцами чахлая пальма, переходившая во владение каждого нового квартиранта, печально напоминая о мимолётности всего на свете. Под её поблёкшими листьями он систематически вёл упорную работу над собственной личностью.
Юноша заметил нечто, показавшееся ему странным и даже страшным, так как он не понимал настоящих и естественных причин его. Блестящий год работы в институте, вместо того чтобы дать ему новые знания, казалось, уничтожил даже те, с какими он пришёл из села. Он вдруг почувствовал, что мозг его одет в ничтожные отрепья, и это чувство взволновало его, унижая его честь. Больше всего беспокоили его пробелы в той области, которая институтской учобы не касалась вовсе и была его личным делом. Литература! Она стала ему близкой и дорогой. Почему он не пробовал анализировать, оправдывая своё увлечение тем уважительным основанием, что знание литературы есть первый признак культурности человека. От обильного чтения он сохранил в памяти много имён, названий, фабул, но всё это было похоже на, запущенную библиотеку, в которой книги даже не расставлены по полкам. И он принялся приводить их в порядок, как некогда в сельской библиотеке.
Утром от десяти до трёх читал, потом до пяти – лекции в учреждениях, обмен книг в библиотеке, обед, отдых; затем два часа языки: английский и французский через день, и до десяти украинская литература. После этого он выходил немного погулять на улицу или на бульвар поужинать и с одиннадцати спал до семи. Таков был распорядок, который он выполнял, как верховный закон, написанный на небесных скрижалях. Иногда его «я» восставало против подобной жизни, хорошо зная, что измерить раз значит изменить навсегда. Но зато, погуляв вечером, проделав упражнения по системе доктора Анохина и укладываясь спать, он чувствовал необычайную стройность мыслей и высшую радость, о которой учил Эпикур.
За два месяца он проработал столько материала, сколько может проработать способный юноша, который умеет все свои силы бросить на штурм намеченной крепости. Утомления он почти не чувствовал, так как по утрам освежался водой и солнцем, а вечером упражнял мускулы ритмической гимнастикой. Но через несколько недель соблюдения такого режима он почувствовал потребность хоть немного отдохнуть после работы над языками и обсудив это желание на специальном совещании, дав самому себе высказаться «за» и «против», постановил позволить Степану Радченко лежать десять минут после языков. И минуты эти стали самым радостным временем его дня. Они выпадали между семью и восемью часами, когда вечер протягивает в окна призрачные тёплые руки, которые опускаются с далёких высот, и из глубины земли струится в комнату спокойствие просторов, неслышно сливая душу со всей вселенной. Погрузив глаза в угол комнаты, юноша смотрел, как растворяются во мраке вещи, и стены пропадают в густом синеватом сиянии. Десять минут такой летаргии и вдруг он вскакивает, зажигает электричество, сурово разбивая прекрасные чары. Раскрываются книги. Тишина. Поспешные заметки карандашом.
Поддерживаемый насыщенностью своего ума, он не чувствовал потребности в общении с людьми – теми далёкими фигурками, с которыми ему приходилось иногда встречаться. Их жизнь казалась ему теперь до смешного простой и недостойной уважения. Он дичал в своей комнате, хоть и подымался с каждым днём по лестнице культуры.
В одиннадцать часов этого дня, утро которого не предвещало ничего особенного, стук в двери нарушил его углублённость. Чорт возьми! Кто смеет беспокоить его в священный час? Но это было только письмо, которое своим появлением удивило его ещё больше, нежели непрошенный стук. От кого? Пожав плечами, юноша разорвал конверт. Ах, это поэт Выгорский, который увёз его рассказы! Он затрепетал, словно в этот миг окончательно разрешилась судьба его жизни и цель его бешеной работы. Какой-то неожиданный огонь, внезапное волнение вынудило его сесть и торопливо пробежать письмо в поисках нужных строчек. Вот, вот они: «…это прекрасные рассказы…» И письмо сразу, стало для него неинтересным, как будто он впитал уже в себя всё его содержание.
Степан бросил письмо на кровать и зашагал по комнате, волнуясь, как человек, проснувшийся в новой обстановке. «Это прекрасные рассказы», – этими словами пела его душа, и он понимал теперь, что, забыв о своих рассказах, он только ими жил и ждал этого неожиданного письма. Пережив жгучий приступ радости, он потянулся снова и взял письмо. Ещё раз невольно остановился на прекрасной строчке в середине, которая, казалось, выделялась из всего письма, словно выложенная самоцветной мозаикой. Юноша закурил и, беззаботно развалившись на стуле, начал читать:
«Я остановился на время в Симеизе и вспомнил, что должен вам написать. Угадайте, что напомнило мне о вас? Какая-то парочка проходила, и «он» жаловался на украинизацию. Бедняга привёз на курорт боль обиженного русского самолюбия. И вот я на почте, и вы должны благодарить этого господинчика, так как по доброй воле я писем не пишу, – это самая большая глупость, которую выдумали люди. Увидев вывеску
«Почта и телеграф», я думаю, что это страшный враг человечества. Вы ещё не знаете, как приятно убежать куда-нибудь далеко от знакомых в места, где ты всем безразличен, и стать тем, чем хочешь быть, и чувствовать, что никто у тебя не требует отчёта. Каково в такую минуту увидеть учреждение нарсвязи! Это настоящее варварство. Тем не менее, скажу по совести, – это первое письмо, а я исходил уже Кавказ и теперь странствую пешком по южному берегу Крыма, одинокий, но бодрый. Мой план – обойти весь западный берег. Я не устал, да и чересчур много ещё работы. И здесь в глуши пишу не про море и лавры, а про город. А ваши рассказы все сельские. Это прекрасные рассказы. Их недостатки свидетельствуют только о перспективах. Я прочёл их в поезде, и из Екатеринослава разослал по журналам. Хотелось бы, чтобы они оба появились одновременно. Это было бы неприятным сюрпризом для нашей критики, которая специализировалась на ариях о литературном кризисе. Не умею кончать писем. Да и писать тоже, Выгорский».
Степан встал и задумался. Потом поскорее оправил рубашку, выскочил на улицу и пошёл, умерив шаг, чтобы не обращать на себя внимания. По дороге зашёл в несколько книжных магазинов. Но журналов там не было. Лишь на Владимирской ему посчастливилось. Но какой именно нужно купить? Все, вышедшие за последний месяц! Юноша жадно пересматривал оглавления и дрожащей рукой отложил два из них. Собственное имя, напечатанное рядом с другими, так ошеломило его, что он сразу не мог сообразить, что делать. Потом, овладев собою, купил их и вышел из книжного магазина. Теперь куда? Он сам не мог понять, чего ещё ему осталось желать. Острая вспышка волнения улеглась в нём сладостным покоем, тихим пьянящим туманом.
Ему никуда не хотелось итти. Он остановился ещё у витрины, но быстро пошёл прочь, гонимый страстным желанием сесть где-нибудь в одиночестве и читать, читать свои рассказы без конца.
На бульваре, где когда-то играл он детскими мячами, Степан забился в тень и развернул свои произведения, внимательно рассмотрел бумагу и очертания букв, затем стал читать, как малограмотный первую после азбуки книжку. Не узнав вначале своих строчек в их новом внешнем виде, он взволновался, и это чувство углубилось ещё больше, когда освоился с ними. Читал, дрожа от восхищения и страха, и то, что было им создано, теперь в нём создавало новое содержание, давая познать счастье полного единства, стирая всякое раздвоение души на внутреннее и внешнее.
Читал он долго, а ещё дольше сидел, сплетая смутные мечты, связанные с несомненным фактом, что он стал писателем, а если так – сможет написать ещё много, много хорошего.
Его мечты прояснились, превращаясь в мысли. Он понял, что в глубине души давно был уверен, что этот момент когда-нибудь настанет, и эта уверенность незримо правила его жизнью. Ещё не став на первую писательскую ступень, не видев своих произведений в печати, он тем не менее уже принялся изучать литературу, чтобы на этой ступени укрепиться. Его удивляли таинственные процессы души, которые знают больше и видят дальше и больше ума, которые дают лишь санкции на уже утверждённые постановления, как английский король, который царствует, но не правит.
После обеда Степан Радченко решил, что отныне начинается новая эра его жизни, а потому надо начать дневник. Написав в тетради несколько строчек, он вспомнил, что надо датировать запись, посмотрел на календарь и от удивления забыл о написанном – сегодня как раз год с тех пор, как он приехал в город! Какой же куцый этот год! Как он страшно быстро пролетел! И молодой человек решил считать праздником этот дважды знаменательный день и отметить его развлечением. Ботинки и штаны, уже смятые на коленях, были ещё раз вычищены. В шесть часов он переменил воротничок, надел пиджак и без фуражки вышел из комнаты.
Улица обняла его тихим предвечерним шелестом, и его ноги, налитые пружинистой мощностью, мерили её ровно, словно работая на новых стальных пружинах. Степан шёл не спеша, гордо подняв голову в сознании своего величия, чувствуя блеск своих глаз и спокойную, размеренность движений. Самый процесс этой гордой ходьбы, чувство безупречной работы каждого колёсика сложной машины его тела доставляло ему такое пьянящее удовольствие, что он не думал даже о том, куда именно ведут его ноги.
Сойдя на Крещатик, купил он газету, зашёл в открытое кафе, сел за столик, заказал себе кофе с печеньем и, с непонятной и неожиданной изысканностью положив ногу на ногу, лениво мешал пахучий напиток, искоса поглядывая на сотни лиц, которые проплывали мимо решётки, поглощая в себя всю пестроту и размах уличного движения. Потом развернул газету в отделе объявлений.
– Ещё печенья! – бросил он проходившей мимо официантке.
Объявление о концерте симфонического оркестра в оперном театре заинтересовало его, потому что таких концертов он никогда не слышал. Он вышел из Кафе и сел в автобус. Купив в кассе дорогой, очень дорогой билет, Степан начал прохаживаться по дугообразному фойэ, радуясь беспрерывной смене лиц, фигур и одежд. Странно действовала на него эта толпа. Подвижностью и гомоном она возбуждала и без того напряжённые нервы, словно он впервые увидел столько людей и чувствовал родство с ними. Он испытывал хмельную радость общения с себе подобными. Ему хотелось смеяться, когда смеялись другие: незнакомые лица были ему в этот миг ближе всех знакомых и близких. Блуждая взглядом в чаще толпы, он видел в ней только женщину. Жадно напрягая взгляд, проникал сквозь прозрачность одежд, мысленно оголяя руки и плечи, ощущая сладостную упругость ног в тонких чулках, исчезающих под волнистыми изгибами платья. Толпа излучала сладострастие, как расцветшее в начале весны дерево свой венчальный аромат. Она угнетала мощностью чувственности, скрытой в глубине сотен существ, и была как бы олицетворением одного громадного самца и громадной самки со страстью, достойной их гигантских тел.
Концерт он слушал невнимательно, подавленный впечатлением, произведённым на него толпой. Он был её частью, но ни с кем не мог поговорить, и то, что он чувствует обиду от своей обособленности, его самого удивляло. Несомненно – кругом культурные люди, читающие журналы, и многие из них считали бы для себя честью познакомиться с талантливым писателем, а между тем их разделяет резкая граница, точно он – чужеродное тело, случайно попавшее в середину хорошо сработавшегося организма. Ох, если б иметь хоть одного знакомого! А так он – словно дух, быть может и совершенный, но неспособный при всём своём желании приобщиться к радостям физического бытия.
В антракте Степан скучал, слоняясь по коридорам. Толпа немного сбила его спесь, так беззаботно уничтожила его, что он в конце концов начал жалеть себя, цепляясь за обломки чувства собственного величия. В конце концов он зря волновался. Но он – писатель. Это несомненно, и все эти рожи должны его мало беспокоить. Среди них, наверное, нет ни души, читающей книги.
Не зная, как избавиться от чувства одиночества, Степан подошёл к столику лотереи-аллегри в пользу беспризорных. Хорошенькая продавщица встретила Степана весьма приветливо.
– Билет? Пожалуйста. Двадцать копеек.
Степан посмотрел на вино, конфеты, пудру, ножики, шкатулочки и прочие выигрыши и вытянул из ящика билет, который оказался пустым.
– Ещё возьму, – сказал он.
Но лотерея имела целью помогать детям, а не раздавать каждому встречному бутылки портвейна за двадцать копеек.
– Ещё один, – не унимался Степан.
После четвёртого билета возле Степана столпилось несколько человек, привлечённых весёлым смехом лотерейщицы и видом неутомимого благотворителя.
– Очевидно, они все пустые! – промолвил молодой писатель, притворяясь потерявшим надежду на выигрыш. Он вынул шестой билет под смех порядочного сборища, заинтересованные взгляды которого доставляли ему большое удовольствие.
– О, нет, – вам просто не везёт… вам везёт, верно, в другом, – лукаво ответила лотерейщица, даря ему чарующие взгляды во имя комиссии помощи беспризорным.
Взяв девятый билет, он обернулся к зрителям и, красный от волнения, развернул его, высоко подняв перед собою. Хохот поднялся над толпой – этот билет тоже оказался пустым.
Степан с видом победителя поглядел на море голов, столпившихся в проходе, мешая движению. Удивлённая публика останавливалась, узнав, что этот высокий чудак берёт двадцать третий билет. Со стороны подплывала блестящая каска пожарного.
– Я беру билет, – прозвучал вдруг женский голос.
Пока Степан рылся в кармане, молодая девушка опустила руку в предательскую коробку.
Выиграв соску, она торжественно вручила её Степану под радостный хохот и аплодисменты толпы, спешившей в зрительный зал. Антракт кончился.
Второе отделение симфонического концерта молодой человек слушал ещё невнимательней, чем первое, не то от стыда, не то от возбуждения. Лицо его горело. Глупо валять перед людьми дурака. И сердце его грызло неприятное чувство, тем более, что от пяти рублей, взятых из дому, у него осталось только две серебряных монетки. Лежавшая в кармане соска мучила его, и он тихонько бросил её под кресло.
Мрачный вышел Степан из оперного театра и остановился у крыльца закурить. Дважды знаменательный день его жизни закончился совсем глупо.
– Разрешите прикурить? – услышал он знакомый голос и увидел девушку, подарившую ему соску.
Степан страшно обрадовался и заволновался, словно увидел кого-то, с кем связаны самые светлые надежды. Он учтиво зажёг для девушки отдельную спичку и пошёл рядом с ней.
– Уже закурила, – заметила она, когда он свернул одновременно с ней на улицу Ленина.
– Я хочу поблагодарить вас за подарок, – промолвил Степан, немного подумав.
– Пожалуйста! Сосите её на досуге.








