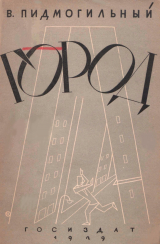
Текст книги "Город"
Автор книги: Валерьян Подмогильный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Валерьян Петрович Подмогильный.
Город.
Предисловие.
Сюжет о крестьянине, очутившемся в городе и подвергающемся сложному влиянию урбанистской культуры, стал одним из центральных и кардинальных сюжетов украинской художественной литературы последних десятилетий. Ибо процесс индустриализации и урбанизации Украины к началу XX века начинает развиваться особо энергичным темпом. Чернозёмная крестьянская Украина, быстро покрывшаяся сетью сахарных заводов и шахт, на некогда диких запорожских степях которой дымили мощные металлургические и сталелитейные заводы, окончательно теряла свою патриархальную старосветскость параллельно с тем, как классово-расслоенные украинские сёла ежегодно в возрастающей прогрессии выбрасывали к заводским воротам и на (Городские тротуары массу крестьянской живой силы, ищущей заработка, так называемых «заробитчан». Этот процесс нашёл рельефное отражение и под социологическим и под психологическим аспектом у лучших украинских классиков предоктябрьского периода, в частности у Ивана Франко, Коцюбинского, Чернявского. Для дооктябрьской украинской литературы, в значительной мере проникнутой крестьянской психологией или, скажем точнее, психологией интеллигентов, связанных с селом, город всегда казался каким-то чудовищем, чем-то вроде верхарновского «города-спрута», каким-то развратителем душ и тел. Это понятно: город разлагал деревню, пожирал её рабочие силы. Даже у Ивана Франко – наиболее прогрессивного из дооктябрьских писателей – мы можем встретить характеристику города как людоеда. «Пришёл Матвей в город людоедов» – так начинается одна из его значительных поэм. Иным и не мог представляться чуткому украинскому писателю город дооктябрьской эпохи, когда эксплуатируемый на заводе крестьянин испытывал тройной гнёт: не только социальный и экономический, но и национальный.
Параллельно с этим в буржуазно-интеллигентских кругах украинской литературы начала XX века постепенно культивируется диаметрально противоположное отношение к городу – раболепно-восторженное, надрывно-богемское, прославляющее не подлинную мощь городской культуры, а её внешнюю, чисто показную, мишурную величественность, теневые стороны города с его туманами и копотью, с ресторанами-фантасмагориями, с его проститутками, короче говоря – город, показанный в декадентском восприятии тротуарных фланёров и завсегдатаев кафе.
В конечном счёте, оба эти отношения к городу питались своими корнями в одной и той же социальной почве и, в сущности, только дополняли и логически продолжали друг друга. Только на почве Октября, практически осуществившего смычку города с пролетаризующимся селом, урбанистские мотивы в художественной литературе находили и продолжают находить своё здоровое разрешение.
Всё же – мы это отметим сразу – Валериан Пидмогильный, несмотря на то, что автор «Города» – писатель послеоктябрьской эпохи, трактует тему о переживаниях крестьянского парня, попавшего, в городскую обстановку, исключительно в дооктябрьском декадентском духе. Проблема взаимоотношений советского города и советского села в широком плане не заинтересовала художника. Перед нами не столько роман о городе во всей его сложности, сколько повесть о городской богеме, поймавшей в свои соблазнительные сети упрямого, эгоистичного и талантливого крестьянина – вузовца. Сюжет произведения движется совсем не по широким социологическим рельсам, как можно было бы ожидать, исходя из вызывающе-подчёркнутого заглавия романа, а по узкоколейке психологизма. Центр тяжести его не в анализе социальных взаимоотношений города и сёла, а исключительно в анализе настроений центрального персонажа, перерождающегося из неуклюжего, но идейного крестьянского парня Степана в циничного, самовлюблённого богемьена Стефана. Это – если не автобиографический, то в некоторой мере автопсихологический роман, интереснейший психологический документ, посвящённый советской литературной богеме.
Замечательно, что несмотря на свою сугубую психологичность, роман оказался чрезвычайно читабельным. Уверенной рукой мастера ведёт нас Пидмогильный по этапам врастания Степана Радченко, вчерашнего повстанца и сельского культработника, в круг богемских мироощущений. С тонкой иронией показывает талантливый украинский беллетрист, как Степан Радченко, недавно ожесточённо проклинавший город за его пышные витрины, за его праздную уличную толпу, тосковавший по идиллии сельской жизни, постепенно поддаётся городским соблазнам, с трепетом вдыхает аромат парижских духов у случайно проходящей дамы, мечтает об элегантных костюмах, о внешнем лоске, и новыми костюмами, равно как и новыми – с каждым разом более «светскими» любовницами – отмечает вехи своей карьеры. С неменышей художественной убедительностью изображены беллетристом моменты смены творческого подъёма полосами творческой депрессии.
«Город» в связи с его социальным эквивалентом вызвал на Украине как в литераторских, так и в читательских кругах чрезвычайно много споров, зачастую подвергаясь – на устных диспутах и в журнальных статьях – острым обличительным нападкам пролетарской критики. При этом спорящие стороны, с редким единодушием, как нечто абсолютно бесспорное, признавали безупречное мастерство романа и незаурядную талантливость автора.
Валериан Пидмогильный – автор «Остапа Шапталы», «Третьей революции», «Проблемы хлеба» – выходец из крестьянской семьи. Он родился в 1901 году в Екатеринославской губернии. Дебютировал в 1919 году и, таким образом, принадлежит к первой фаланге украинских послеоктябрьских беллетристов.
Среди них, однако, будущий автор «Города» сразу занял обособленное место. Он специализировался исключительно на изображении индивидуалистически-настроенных интеллигентов. Он занял позицию скептического наблюдателя современности, преломляя её сквозь призму несколько изломанной трагедийности этих анархиствующих интеллигентов.
Как мастер художественной прозы, он – один из лучших продолжителей традиции Коцюбинского, обогащающий эту традицию украинского европеизма непрерывной учёбой у лучших французских новеллистов.
Действительно – в импрессионистическом стиле Пидмогильного есть нечто французское в лучшем смысле этого слова. Ему свойственно большое чувство меры, чувство вкуса, искусство давать одновременно чёткий, тонкий и скупой психологический рисунок. «In Begrenzung zeigt sich der Meister» – в самоограничении проявляется истинный талант». Пидмогильный верен этому завету и в выборе тематики, и в отборе лексики, и в самом легко скользящем, подёрнутом дымкой иронии стиле – типичном «style coulante» французов, благодаря чему его произведения (при всей их социологической недовершённости, а иногда и ошибочности) находятся на неизменно значительной художественной высоте.
Мы не сомневаемся, что русский читатель прочтёт роман Пидмогильного с тем же эстетическим наслаждением, с каким он был прочитан на Украине.
А. Лейтес.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
I.Казалось, плыть дальше некуда. Днепр как бы застыл в заливе, окружённый справа, слева и спереди зелёно-жёлтыми предосенними берегами. Но пароход вдруг свернул, и длинная спокойная полоса реки потянулась дальше, к чуть заметным на Горизонте холмам.
Степан стоял на палубе у перил, невольно погружаясь глазами вдаль, и мерные удары лопастей пароходного колеса, глухие слова капитана у рупора обессиливали его мысли. Они растерялись в туманной дали, где незаметно исчезала река, словно горизонт был последней гранью его желаний. Молодой человек медленно посмотрел на ближние берега и немного смутился – на повороте справа выросло село, скрывавшееся до сих пор за изгибами лугов. Августовское солнце стирало с белых хаток грязь, узорило чёрные дорога, которые убегали в поле, и исчезали где-то, синея, как река. И казалось, пропавшая дорога, соединившись с небом в безграничной равнине, снова возвращалась к селу, неся ему впитанные в себя просторы. А третья дорога, скатившись к реке – передавала селу свежесть Днепра. Деревня спала среди солнечного дня, и тайна была в этом сне среди стихий, питающих его своей мощью. Тут, у берега, село казалось родным творением просторов, волшебным цветком земли, неба и воды.
Покинутое Степаном родное село тоже стояло на берегу, и он бессознательно искал сходства между ним и этим, случайно встретившимся ему на великом пути. И радостно чувствовал, что сродство это есть и что и в эти хаты, как и в свои оставленные, он зашёл бы хозяином. С сожалением смотрел, как тает оно, отодвигаясь с каждым движением машины, и вот пряди противного дыма спрятали его совсем. Тогда Степан вздохнул. Может быть, это было уже последнее село, которое он увидел перед городом.
Он ощутил в своей душе неясное волнение и истому, словно в родном селе и во всех других, которые видел, он оставил не только прошлое, но и надежды. Закрыв глаза, он отдался грусти, баюкавшей душу.
Когда он выпрямился, рядом с ним у перил стояла Надийка. Он не слышал, как она подошла, и обрадовался, хоть и не звал её. Он тихо взял её за руку. Она вздрогнула и, не подымая головы, смотрела на веерообразную волну, гонимую носом парохода.
Они жили в одном селе, но до сих пор были мало знакомы. Он знал об её существовании, о том, что она занимается и даже не выходит на гульбище. Несколько раз видел он её в «Доме крестьянина», где ведал библиотекой. Но тут они встретились как бы впервые, и общность судьбы сблизила их. Она, как и он, ехала в большой город учиться, у них обоих в карманах были командировки и перед обоими была новая жизнь. Одновременно переходили они границу будущего.
Правда, её положение было несколько лучшим – она говорила, что родители будут присылать ей продукты, а он надеялся только на стипендию; она должна была остановиться у подруг, а у него было лишь письмо от дяди к знакомому торговцу. Натура у неё была живая; он был сосредоточенным и как бы вялым. За свои двадцать пять лет он был подпаском-приёмышем, потом просто парнем, затем повстанцем и последнее время секретарём сельбюро союза Рабземлес. Только в одном он имел над ней перевес – был способным и не боялся экзаменов. За этот день, проведённый на пароходе, он успел разъяснить ей много тёмного в социальных дисциплинах, и она очарованно слушала его приятный голос. Когда отходила на мгновенье, её сразу охватывала скука. А когда он начинал разъяснять ей непонятные экономические проблемы, ей хотелось, чтоб парень рассказал о чём-то другом: о своих надеждах, о том, как он жил тогда, когда они ещё не были знакомы. Но она только благодарила его за объяснение и убеждённо говорила:
– О, вы получите стипендию! Вы так подготовлены.
Степан улыбался, ему приятно было слышать похвалу и веру в свои силы от этой синеглазой девушки. И действительно, Надийка казалась ему самой красивой женщиной на пароходе. Длинные рукава её серой блузки были ему милее иных голых рук; воротничок оставлял на виду только узенькую полоску тела, а другие бесстыдно выставляли напоказ плечи и линии груди. Ботинки её на маленьких каблучках были округлены, а колени не выглядывали беспрестанно из-под юбки. Степана радовала её безыскусственность, такая близкая его душе. К другим женщинам он относился с лёгким презрением и даже с боязнью. Чувствовал, что они не обращают на него внимания, игнорируют его за плохонький френч, рыжий картуз и выцветшие брюки.
Он был высок ростом, хорошо сложён и смугл лицом. Небритые неделю щёки придавали ему неряшливый вид. Брови у Степана были густые, глаза большие, серые, лоб широкий, губы чувственные. Тёмные волосы он откидывал назад, как многие из сельских парней и никто теперь из поэтов.
Степан держал руку на тёплых Надийкиных пальцах и задумчиво смотрел на реку, песчаные крутые берега и одинокие деревья на них.
Вдруг Надийка выпрямилась и, взмахнув рукой, сказала:
– А Киёв уж близко.
Киёв! Это тот большой город, куда он едет учиться и жить. Это то новое, во что он должен войти, чтобы достичь своей взлелеянной издавна мечты. Неужели Киёв в самом деле близко? Степан заволновался и спросил:
– А где Левко?
Они оглянулись и увидели на корме группу крестьян, расположившихся обедать. На разостланной перед ними свитке лежали хлеб, лук и сало. Левко, студент-сельскохозяйственник из того же села, сидел с ними и ел. Он был добродушен и не по росту толст. Прежде из него вышел бы идеальный священник, а теперь—образцовый агроном. Сам крестьянин от деда и прадеда, он прекрасно сумел бы помочь крестьянину либо проповедью, либо научным советом. Учился он очень аккуратно, ходил в поддёвке и всего больше любил охоту. За два года голодного пребывания в городе он выработал и до конца оформил основной закон человеческого существования. Из распространённого во время революции лозунга «кто не работает, тот не ест» он вывел для себя категорический тезис: «Кто не ест, тот не работает» – применял его при всяком случае и возможности. На пароходе крестьяне охотно угощали его сельскими продуктами, а он за это рассказал им много интересных вещей о планете Марс, о сельском хозяйстве Америки и о радио. Они удивлялись и осторожно, немного насмешливого, втайне не веря, расспрашивали об этих чудесах и о боге.
Левко подошёл к своим молодым коллегам, усмехаясь и слегка покачиваясь на коротких ногах. Усмехаться и быть в хорошем настроении было его основным свойством, критерием его отношения к миру. Ни бедность, ни наука не могли убить в нём благодушия, выработанного под тихими вербами села.
Степан и Надийка связывали узлы. Ещё один поворот руля, и в конце песчаных берегов реки слева легли серые полосы города. Пароход протяжно крикнул перед разведённым понтонным мостом, и этот пронзительный крик отозвался в сердце Степана болезненным Отзвуком. Он забыл на этот миг о своих как будто бы сбывшихся стремлениях и тоскливо смотрел на струю белого пара над свистком, который давал последний сигнал его прошлому. И когда свист внезапно оборвался, в душе его стало тихо и мертво. Он ощутил где-то в глубине глупый прилив слёз, совсем не подходящих к его годам и положению. И удивился, что эта влага ещё не высохла в бедствиях и работе, что она затаилась и вот неожиданно и некстати прилила к глазам. Это так его поразило, что он покраснел и отвернулся. Но Левко заметил его волнение. Он положил ему на плечо руку и сказал:
– Не горюй, парень!
– Да я ничего, – неловко ответил Степан.
Надийка засыпала Левко вопросами. Он должен был назвать ей каждую горку, каждую церковь, чуть ли не каждый дом. Впрочем, Левко обнаружил очень слабое знание местности. Лавру, правда, он назвал, памятник Владимиру тоже, но за то, что горка, где стоит памятник, называется Владимирской, он поручиться не мог. В Киеве он живал, но знал небольшой район – улицу Ленина и институт. Из этого района он почти не выходил, разве только раза три за зиму в пятое Госкино на американские трюковые фильмы да изредка ездил охотиться по линии Киев—Тетерев. Поэтому он не мог удовлетворить Надийкиного любопытства, которое усиливалось всё больше и больше. Группы домиков, таких крошечных и смешных издалека, приводили её в восторг, и она весёлым, смехом выдавала свою радость, что будет тут жить.
Но внимание её скоро отвлеклось от города. Она смотрела на моторные лодки, которые бодро стучали по реке, на обыкновенные лодки, где полуголые загоревшие спортсмены упражняли мускулы и весело качались на волне, гонимой пароходом. Смелые пловцы бросались чуть не под самое колесо и радостно вскрикивали. Внезапно мимо парохода белым привидением пролетела трёхмачтовая яхта.
– Смотрите, смотрите! – вскрикнула девушка, засмотревшись на необычайные треугольные паруса.
На палубе яхты было трое юношей и девушка в газовом шарфе. Она казалась русалкой из старых сказок, которой нельзя было даже завидовать.
Ближе к Киеву движение на реке увеличилось. Впереди лежал пляж – песчаный остров среди Днепра, куда три моторки без устали перевозили с пристани купающихся. Город сбегал с горы к противоположному берегу. С улицы Революции по широким ступеням катилась к Днепру разноцветная волна юношей, девушек, женщин; мужчин—бело-розовый поток движущихся тел, предвкушавших наслаждение от солнца и купанья. В этой толпе не было печальных. Тут начиналась новая земля, земля первобытной радости, Вода и солнце принимали всех, кто покинул только что перо и весы – каждого юношу, как легендарного Кия, и каждую девушку, как новую Лыбедь. Закованные в одежду бледные тела выходили из тюрьмы, расцветали бронзой в горячей истоме на песке, как затерянные где-то на нильских берегах дикари. И в каждом воскресала первобытная жизнь, и только лёгкие купальные костюмы напоминали о тысячелетиях.
Контраст мрачных сооружений над берегом и этого беззаботного купанья казался Надийке поразительным и очаровательным. В этих противоположностях она познавала размах городской жизни и её возможности. Девушка не скрывала своего восторга. Её ослепляла пестрота костюмов, гамма, тел, от бледно-розовых, только что выставленных под солнце, до каштаново-чёрных, уже закалённых в жгучих летних лучах. Она страстно повторяла:
– Как это красиво! Как красиво!
Степан не разделял её восторга. Вид голой беспорядочной толпы был ему бесконечно противен. И то, что Надийка присоединяется к этой смешной и беспутной толпе, неприятно поражало его. Он мрачно сказал:
– От жиру всё это.
Левко смотрел на людей снисходительней:
– Сидят в конторах, ну и дуреют.
Пробившись в толчее на берег, они стали в стороне, пропуская пассажиров. Восторг Надийки увял. Город, который издали казался белым от солнца и лёгким-лёгким, тяжело нависал над ними. Надийка робко оглядывалась. Её оглушали крики, торговок, свистки, лязг автобусов, отходивших в Дарницу, и ровное пыхтенье паровой машины где-то по соседству на мельнице.
Степан скрутил из махорки папиросу и закурил. По привычке следовало сплюнуть, но он проглотил слюну вместе с горькой махорочной пылью. Всё кругом было странным и чужим. Он видел тир, в котором стреляли из ружей, ларьки с мороженым, пивом и квасом, торговок с булками и семечками, мальчиков с ирисками, девочек с корзинками абрикосов и морелей. Мимо него проплывали сотни лиц, весёлых, серьёзных и озабоченных, жалобно причитала обокраденная женщина, кричали, играя, беспризорные. Так здесь бывает всегда, так было и тогда, когда его нога ступала ещё по мягкой дорожной пыли села, так будет и дальше. И всему этому он был чужд…
Пассажиры разошлись. Пароход начали разгружать. Длинными сходнями пошли полуголые грузчики с мешками, тюками и фруктами. Потом понесли растопыренные воловьи туши и покатили засмолённые вонючие бочки.
Левко повёл их в город, показывая дорогу. На улице Революции их пути расходились: Степан шёл па Подол [Прибрежная часть Киева], Левко с Надийкой в Старый Город [Центр].
– Ты же ко мне переходи, если что там, – сказал Левко. – Адрес записал?
Степан быстро попрощался и свернул направо, расспрашивая прохожих, как ему пройти. Проходя мимо книжного магазина, он остановился у витрины и начал рассматривать книги. Они ещё с детства были для него родными. Ещё совсем мальчонкой, не умея читать, он любил перелистывать единственную книгу, украшавшую божницу дядиной хаты, – какой-то столетний журнал с бесконечными портретами царя, архимандритов и генералов. И как раз не на картинках, а на рядах чёрных ровненьких строчек останавливались его глаза. Он даже не помнил, как выучился читать. Как-то случайно. И с наслаждением выговаривал слова, не понимая их содержания.
У витрины он стоял долго, читая одно за другим названия книжек, издательств и даты изданий. О некоторых из них он думал, что они ему нужны будут в институте. Вся эта масса томов производила на него странное впечатление. Среди них он увидел только одну прочитанную книгу. В них словно сосредоточилось всё то чужое, которое невольно пугала его, все опасности, которые он должен преодолеть в городе. Вопреки желанию и всем первоначальным расчётам, безнадёжные мысли, вначале в виде вопросов, начали овладевать юношей. Ну, для чего ему нужно было сюда тащиться? Что будет? Как он будет жить? Он пропадёт, он нищий вернётся домой. Не лучше ли было двинуться в свой окружной город на педкурсы? Для чего эти детские выдумки с институтом и Киевом? И юноша стоял у небольшого подольского, книжного магазина, казавшегося ему ослепительным, словно колеблясь – не вернуться ли назад на пристань.
«Я устал с дороги»,– подумал он.
На счёт усталости он и отнёс отяжеление мускулов и нежелание двигаться, которое его охватило. Он чувствовал себя посыльным, выполняющим чрезвычайно важное чужое поручение. Свои давнишние желания он вдруг воспринял как постороннее принуждение и покорился ему не без глухого отвращения. И пошёл дальше, гонимый поблекшими на миг, но цепкими мечтами.
На Нижнем Валу [название улицы] он отыскал тридцать седьмой номер, вошёл во двор и, поднявшись на крыльца, постучал в глухие, изъеденные червями двери.
Отворил ему человек в жилетке, с короткой бородой и проседью в волосах. Это и был рыбный торговец Лука Демидович Гнедой, который во время революции и городских бедствований сделал родное село Степана Теревени центром своих товарообменных операций и всегда останавливался в хате дяди Степана. Теперь рыбный торговец должен был расквитаться за эти услуги, хотя те годы уж прошли, да и совсем не такими были, чтоб принято было их вспоминать. Он немного испуганно посмотрел на Степана поверх очков, лотом беспокойно разорвал конверт, просмотрел письмо и, читая его, молча пошёл в комнаты.
Степан остался один перед раскрытыми дверями. Узлы жали ему плечо, и он сбросил их. Подождав несколько минут, сел на крыльце. Улица перед ним была пуста. За всё время, что он тут был, никто не прошёл, один лишь извозчик проехал, опустив вожжи. Юноша начал сворачивать папиросу, сосредоточив на ней всё внимание, как человек, который хочет отделаться от надоедливых, но бесцельных мыслей. Немного послюнив край грубой махорочной бумаги, осторожно слепил своё изделие и полюбовался им. Папироса вышла удивительно ровной, немного заострённой в конце, чтобы её легче было закурить. Взяв её в рот, Степан откинул полу френча и опустил руку в глубокий, но единственный в брюках карман. Перебрав рукой сокровища, лежавшие в кармане, – ножик, старый кошелёк, случайную пуговицу и платок, – он достал коробку спичек, но она была пуста. Последнюю спичку он потратил на пристани. Степан бросил коробку наземь и растоптал её сапогом.
И оттого, что не мог закурить, курить хотелось ещё сильнее. Поднявшись, он подошёл к калитке, высматривая случайного курящего прохожего, но подольская улица была, как и раньше, пустынной. Ряд низеньких старомодных домиков кончался у берега ободранными, давно немазанными халупами. Мощёная мостовая и тротуар исчезали за полквартала отсюда. Одинокий, голый от старости тополь странно торчал перед чьим-то окном.
Вдруг кто-то на крыльце позвал его по имени. Юноша вздрогнул, будто попался на месте преступления. Гнедой звал его.
«Я буду тут жить», – думал Степан, и эта мысль казалась ему странной, как тополь, который он только что увидел.
Но Гнедой повёл его не к дому, а в глубь двора, к сараю. Степан шёл сзади и смотрел ему в спину. Торговец был сутуловат и тонконог. Он был невысокого роста, но его худые ноги казались длинными и несгибаемыми. И Степан подумал, что такие ноги легко переломать.
Подле сарая Гнедой остановился, отпер замок, открыл дверь и произнёс:
– Вот тут перебудете.
Степан заглянул через его плечо в небольшую каморку. Это была маленькая столярная. У стены стоял верстак, на полках инструмент. Напротив темнело крохотное оконце. Пахло стружками и свежим деревом. Юноша так удивился, что невольно переспросил:
– Это тут?
Гнедой, звякая ключами, повернул к нему очки.
– Вам же не надолго?
Лицо его было в морщинах. Что-то приниженное было в его глазах.
Степан несмело вошёл и положил в угол узлы. Наклоняясь, он увидел сквозь щель между досками своих соседей – за перегородкой – пару коров, которые спокойно жевали у яслей. Хлев—вот где он будет жить! Как животное, как настоящая скотина! Он почувствовал, как быстро забилось сердце и кровь прилила к лицу. Он выпрямился, весь красный от оскорбления, посмотрел Гнедому в выцветшее лицо, за которым, казалось, не было ни желания, ни мысли, и, чувствуя какое-то превосходство рад ним, сказал:
– Спичку дайте. Прикурить.
Гнедой покачал головой.
– Я не курящий… Да и вы осторожней: тут дерево.
Он прикрыл двери, и ещё минуту был слышен издалека звон его, ключей. Степан большими шагами ходил по каморке. Каждый шаг его был угрозой. Такого унижения он не ждал. Он шёл на голод, на беду, но не в стадо. Он, правда, когда-то пас коров. Так неужели же после революции, после повстанчества, какой-то торговец, тонконогое ничтожество, имеет право загнать его в хлев?
Маленькое оконце в каморке темнело. Летний вечер покрывал его. Степан остановился подле него. Над сплошной массой однообразных крыш вздымалась к небу фабричная труба. Чёрные клубы, дыма незаметно сливались с светло-синими сумерками. Словцо проходили сквозь небо, в глубь космоса.
Папироса уже порвалась меж пальцами и высыпалась. Он свернул новую и вышел во двор. Ну что же, он пойдёт в дом, пойдёт в кухню и достанет огонь. Чего там стыдиться! Разве это люди? Но на крыльце сидел какой-то юноша, и, когда Степан наклонился к нему, чтобы прикурить, он сказал:
– Закурите мою!
Степан удивился, по папиросу взял. Раскуривая, он смотрел на юношу. Тот безразлично пускал дым. Когда Степан поблагодарил, он лишь молча кивнул головой, словно о чём-то глубоко задумался и собирается просидеть тут до утра.
Степан лёг в своей каморке на верстак, с наслаждением затягиваясь пахучим пьянящий дымом. Он мечтал, закрыв глаза, и пришёл к выводу, что всё хорошо. То, что он в хлеву, казалось ему теперь забавным. Он дважды стукнул кулаком в стенку к коровам, рассмеялся и раскрыл глаза. За окном над трубой стоял ясный серп полумесяца.








