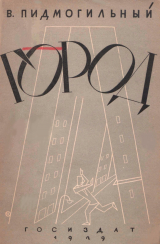
Текст книги "Город"
Автор книги: Валерьян Подмогильный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Путешественника в пивной ещё не было, и юноша сел вяло к столику среди залы. Впервые за всё время пивная показалась ему отвратительной. Впервые он понял искусственность веселья, рождённого алкоголем, дешёвую позолоту здешней радости. И музыка джаз-банд с барабаном, тарелками и цимбалами, которая всегда бодрила его, угнетала надоевшими мотивами и дразнила нестерпимым громом. Он ушёл бы отсюда сейчас же, если бы не ждал кого-то, и сидел, насунув шляпу, и полулёжа на столе, перед начатой бутылкой пива. Потом нетерпеливо закурил, ломая спички.
Наконец пришёл Выгорский в резиновом плаще и кепке. Взгляд Степана поразил его.
– Почему этот чайльд-гарольдовский вид? – спросил он, здороваясь.
– Скорее у вас, потому что вы едете.
– Еду, но никого не проклинаю.
– А я проклинаю, но не еду.
Поэт беззаботно махнул рукой.
– Оставьте! От проклятий мир становится всё хуже и хуже.
Сегодня угощал Выгорский.
– Но, извините, – сказал он, – я стал вегетарианцем.
– По убеждениям?
– Нет, для разнообразия.
Когда пища и вино были поданы, поэт спросил Степана:
– Откуда всё-таки эта нахмуренная меланхолия? Неужели по случаю моего отъезда?
– Нет, – усмехнулся Степан, – это – мировая скорбь. Поэт облегчённо вздохнул.
– А, это совсем безопасно.
Он был очень мил, весел и ласков. И Степану захотелось высказаться, рассказать ему о своей боли, об её тёмных источниках, но что-то тайное удержало его.
– Если хотите правду знать, то это просто плохое настроение. Временами чувствуешь, что ты зверь, кровожадный зверь, и становится печально. Жизнь жестока. Знаешь, что исправить этого нельзя, и всё-таки плохо. И ясней понимаешь, что кругом животные, мерзавцы, грязь, висельники, и становится страшно. Оттого, что ты такой, как они, а они такие, как ты.
– Да где вы видите такие ужасы?
Степан безнадёжно усмехнулся.
– Где? Да кругом!
– Кругом прекрасные, приятные люди!
– Вы шутите, – вздохнул Степан.
– Нет, совсем нет. Посмотрите.
Поэт перегнулся на стуле и дотронулся рукою к плечу соседа, который сидел сзади него. Тот обернулся.
– Извините, – сказал поэт. – Вы мне очень нравитесь. Разрешите пожать вашу руку.
Тот помедлил, но руку подал. Даже сказал:
– Есть… Очень благодарен!
– Чудак вы, – вздохнул Степан.
Потом они ели и пили, уйдя в собственные мысли. И Степан, изнемогая от потребности высказать свою тоску, сказал, подымая стакан:
– Выпьем, друг, за любовь.
Поэт удивился.
– С какой стати нам пить за это ужасное чувство, которое отнимает у людей спокойствие?
Степан возбуждённо ответил:
– Отнимает спокойствие, укорачивает жизнь. – Ужасна эта любовь.
– Так вы согласны со мною? – неуверенно спросил Выгорский.
– Целиком.
– Терпеть не могу сходиться во взглядах, – недовольно пробурчал поэт. – Согласие – это смерть. К тому же должен заявить, что сила любви исходит исключительно из традиции. Золотой век любви прошёл, рыцари и дамы растаяли в вековой мгле. В двенадцатом столетии женщины разделяли свою особу на две части – тело мужу, душу – избраннику. В XIX столетии они делали наоборот, а в XX и совсем потеряли ощущение разницы. Любовь вернулась к своему исходному пункту. Чтоб правильно понять её современное, народное, если хотите, положение, надо помнить, что любовь не сопровождала человека на всех ступенях его развития. Дикари не знали её, а наш век есть век просвещённого дикарства, дикарства в «снятом» виде, как говорят диалектики. Вот и любовь «снимается». Песня любви пропета, любовь умерла вместе с музами и вдохновляет лишь старомодных поэтов. Вместо этого выдвигается то, что было главнейшим в дикарстве, – работа. Настоящий поэт может быть теперь только поэтом труда.
– Например – вы, – сказал Степан.
– Я – печальное исключение. На грани двух эпох неминуемо являются люди, которые остаются как раз на грани, откуда видно далеко назад и ещё дальше вперёд. Поэтому они страдают болезнью, которую люди ни одной партии никогда не прощают, – остротой зрения. Наилучшие слуги жизни – ослеплённые и подслеповатые. Они бодро идут вперёд, ибо видят то, что им кажется. Видят новое, потому что хотят видеть. Воля управляет, друг мой, жизнью, а не разум.
– Чорт знает, что ею управляет! – хмуро сказал Степан.
Скоро они вышли, потому что поэт собирался хорошо выспаться перед отъездом.
– Еду, еду! – воскликнул поэт на улице. – Ничего этого завтра не увижу. Какая радость не видеть завтра того, что видишь сегодня. И вас тоже, мой друг! Достаточно я вас терпел.
– И я вас, – признался Степан.
– Сознайтесь, что не было так уж скучно? Но не вздумайте завтра меня провожать. Знакомые на вокзале – это кошмар!
– Да я не знаю даже, каким поездом вы едете, – успокоил Степан.
– Я и сам точно не знаю.
На углу Большой Житомирской они остановились.
– Прощайте, дружище, – молвил поэт. – Я говорю «прощайте», ибо мы можем, уже и не увидеться. Не забывайте, что исчезнуть на этом свете так же легко, как и появиться.
Он пошёл, а Степан почувствовал, что остаётся один, среди улицы, среди сурового безжалостного города, среди безграничного утреннего света, который ясно блестел над ним перед заходом месяца.
Потянулись однообразные дни, печальные, как чётки чернеца. Скука не оставляла его. В новом помещении молодой человек устроился скоро. За неделю оно приобрело тот вид и затейливость, о которой он когда-то мечтал, когда мечтать было ещё интересно. У окна в углу он поставил американское бюро из тёмного дерева, против дверей у стены – зеркальный шкаф для одежды, против окон – диван, обитый тёмно-красной тканью, рядом со столом – небольшой остеклённый шкаф для книг. Кроме того купил ковёр на пол и полдюжины стульев на деньги, оставшиеся от гонорара за киносценарий.
Но чем больше Степан украшал свою комнату, тем более чуждой она становилась ему. Каждая новая вещь наполняла его непонятным беспокойством. Он ставил её на место и смотрел на неё с удивлением, как на что-то чужое, нагло ворвавшееся в его жизнь. Потом за несколько дней привыкал к её присутствию, пользовался ею, когда нужно было, но чувство странности и враждебности всё ещё таилось в глубине души, всплывая внезапно, когда вечером, приходя домой, он зажигал свет. Так, словно без него они жили своей особой жизнью, может, разговаривали даже, шептались о нём, подслушав его мысли, и внезапно утихали, когда он растворял двери. С порога в прямоугольном блестящем зеркале он видел всю свою фигуру и это ему было неприятно, словно он неожиданно встретился со своим двойником.
Но наибольше боялся стола. Там в верхнем ящике справа хранилась начатая повесть. Он никогда не выдвигал его, но чувствовал, что рукопись там притаилась, как нечистое сомненье. Писать он не мог. Та пустота, которую он почувствовал, когда отошёл тогда от Зосиных дверей, незаметно разрушала его душу, и в этом опустошении исчезало прошлое, таяло, растворялось. Исчезало почти без следа под отравляющим действием скуки.
В восемь он просыпался, пил кофе, шёл на службу.
Это были самые счастливые часы его жизни, когда в нём просыпалась давняя мощь, живость и настойчивость. Он работал энергично, с увлечением, углублялся в дела, бегал по городу, улыбался, был остроумным, дельным, всюду незаменимым, но в восемь часов, кончив работу, отбыв все собрания и нагрузки, оставался один с самим собой. Переход этот был ужасным. Так, словно бы он был поделён на две части, одну для других, другую – для себя, и вторая оставалась пустой.
Вечера наполняли его пугающим беспокойством, чувство страшного одиночества угнетало его. И он терпел сумасшедшую боль человека, который утратил личное, придающее жизни вкус и приятность.
Все его попытки найти что-нибудь были напрасны. Разговоры со знакомыми казались ему пустыми, женские взгляды противными, любезность хозяев смешной. На лекциях, которые он начал посещать изредка, он не слышал ничего ни интересного, ни нового, в театрах пьесы были однообразными, а кинофильмы пошлы и шаблонны. В пивные он не заглядывал. Как-то вошёл в казино и бросил рубль на 20 – ему подали три червонца. Он поставил снова на ту же самую цифру, проиграл и нетерпеливо вышел. Всюду было слишком людно, светло и шумно. И всюду щемящее одиночество неотступно следовало за ним.
Как-то вечером он медленно шёл по Крещатику в том тёмном конце его, где расположены технические магазины. Его остановила женщина из тех, что просят прикурить и интересуются временем. Она употребила первый способ, и молодой человек зажёг ей спичку.
Она предложила:
– Идём?
Молодой человек согласился. Женщина взяла его под руку и свернула на Трёхсвятительскую. Они вошли в тёмный двор сквозь калитку на цепочке. Степан должен был согнуться вдвое, чтобы пролезть в низкую дверь. Тут женщина шепнула ему:
– Не шелести! Знаешь, какой народ пошёл – ко, всему придираются.
И он услышал от женщины ту ругань, которую считают привилегией мужчин. Наконец в конце затхлого полуподвального коридора она забренчала ключом и ввела Степана в комнату.
Тихий огонёк лампадки скудно светил в уголке.
Женщина зажгла лампу.
Он впервые смог её рассмотреть. Была она толстой, пухлой, стареющей, со злыми глазами и бледным ртом, из которого выходили хриплые звуки, как из старого граммофона.
В комнате стояла кровать, застланная серым одеялом, и несколько стульев, соответственно простоте действия, которое в комнате совершалось. Матерь божия в углу склонилась над сыном и ни на что не обращала внимания.
Прежде всего женщина потребовала рубль.
Потом немного ласковей сказала:
– Тебе как? Голой?
Он покачал головой.
– По-походному, – засмеялась она.
И прибавила, что работала на германском фронте.
Молодой человек рассматривал фотографии, которые висели на стене, без рамок, запылённые и заслеженные мухами. Внезапно в нём проснулся интерес к этой женщине, желание знать её быт, взгляды, интересы, отношение к власти и то тайное, чем живёт её душа за привычным торгом. Он предложил ей закурить и сел у стола. Она вынула сразу полдесятка папирос, но недовольно сказала:
– Ты чего маринуешь меня? Давай тогда ещё два рубля за ночь?
Он вынул кошелёк и высыпал ей серебро – шестьдесят пять копеек.
– Врёшь, – недоверчиво сказала она. – Дай сама посмотрю… А это что?
– Это две копейки.
– Давай и их.
Вывернув кошелёк, она успокоилась и начала грубо, но вполне охотно отвечать на его осторожные вопросы, часто употребляя острые, удачные слова, которые касались её профессии. Вспоминала время военного коммунизма, когда приносила полные чулки денег. А теперь народ пошёл жулик, скупой и «мучительный». Правда, у неё много есть женихов, но они ей неинтересны.
– Замуж нужно выходить по любви, – сказала она. – А побаловаться я и с тобою могу.
Потом рассказала одну из выдуманных, стереотипных историй, которыми они тешат своих гостей и себя, которые из фантазии постепенно превращаются в полудействительные воспоминания в бессознательный обман, за который цепляется их душа в своих машинальных порывах к счастью. Рассказала, что какой-то деникинский полковник на коленях молил её ехать в Англию.
– Ну, и чего бы я поехала, – мечтательно спрашивала она, – если английского языка я не знаю? Ну, вот выйду на улицу – и ничего не понимаю… Да и он не знал, – добавила спокойней. – Ко мне ходил англичанин, так тоже говорил, что он не знал.
Но по мере того как его вопросы становились более точными и требовательными, она насторожилась и внезапно перебила его:
– Что это ты расспрашиваешь меня? Ты чего сюда пришёл?
Он безразлично ответил, что пришёл к ней больше за тем, чтобы по душе поговорить. И она страшно возмутилась.
– Душа ему нужна! За рубль душу ему выворачивай! Для тебя моя душа под юбкой.
Он еле успокоил её, божась, что не хотел обидеть.
– Да разве тебе не всё равно, что делать?
– Не всё равно, – ответила она. – За что платишь – бери, а душу не трогай.
Разговор дальше не клеился. Прощалась она холодно, словно он причинил ей величайшую обиду. Степан вышел, преисполнившись к ней уважением, взволнованно понимая, что женщина продаётся, а человек нет.
Однажды, читая газету, он узнал, что в городе заседает окружной съезд сахароваров. Среди десяти лиц, которые фигурировали в отчёте, Степан заметил фамилию бывшего институтского приятеля Бориса Задорожного. Тот делал доклад о какой-то системе селекции свёклы, был выбран в комиссию для составления резолюции и делегатом на всеукраинский съезд. Как много сказали ему эти строчки! Каким горьким щемящим укором стали они перед ним! Он ещё раз прочёл их. Да. Борис Задорожный – молодой мещанин, угнетатель прекрасной девушки – шёл вперёд, творил, работал, выдвигался! Давняя затаённая вражда зашевелилась в сердце Степана. И он откинул газету, чтобы не видеть неприятного имени.
Съезд сахарников скверно на него подействовал, разбудил в нём ряд печальных размышлений о самом себе. Долго ли это так будет продолжаться? Пусть он провинился, пусть сделал кому-то большую неприятность, но и покаяния уже достаточно! По календарю
прошло уже три недели одиночества. Пора уже расшевелиться! Пора! Пора!
Кричал он это, как погонщик над конём, упавшим на дороге. Но откуда ждать помощи? От кого? И он начал надеяться, что в его жизни произойдёт какая-то глубокая внезапная перемена, и отчаяние его, дойдя до определённой ступени, превращалось в надежду.
Теперь он обедал в большой столовой Нарпита на Крещатике, выбрав её потому, что она была по дороге на Бессарабку, где он садился на трамвай, идя домой. В ней облюбовал маленький столик у стены, где мог сидеть за едою и полбутылкою пива, которая стала неотменной составной частью его меню.
Однажды он с досадой увидел, что столик его занят. Это было чуть не оскорблением для него, покушением на установленное привычкой право, даже на его «я», которое в постоянном пользовании превращает мёртвую вещь в свою неотъемлемую часть. Но, посмотрев на захватчика внимательнее, Степан подбежал к нему и крепко схватил его за руку.
– Здравствуй, Левко! – крикнул он. – Это ты, Левко! Тот удивлённо поднял на него глаза, не узнавая.
– Это я, Степан, из Теревней. Помнишь? – взволнованно говорил молодой человек, склонившись к товарищу. – Помнишь, мы ехали сюда на пароходе?
Левко узнал, но ещё больше удивился.
– Степан? – пробормотал он. – Вот не узнал бы, ей-богу!
И от этих слов душу молодого человека охватила грусть.
– Чего? – тихо спросил он.
А Левко уже усмехался добродушной улыбкой.
– Изменился, – сказал он, – Во какой нарядный. Красавчик, да и только.
Степан торопливо снял фуражку и сел рядом с Левко. Неведомое волнение увеличивалось, росло, подымалось из глубин души горячим отзвуком. Он смотрел на товарища радостными, влюблёнными глазами и с невыразимой радостью открывал на его лице те самые черты, те самые движения, ту самую улыбку и добродушие, которые оставил давно и нашёл неизменными.
– Левко, как я рад, что увидел тебя! – сказал он. – Ты представить себе не можешь, как рад! Эх, Левко, чужое тут всё – и люди и жизнь.
– Жизнь? – отозвался Левко. – Дёрганье тут, а не жизнь. А кормят чем, ты только посмотри!
Он засмеялся, показывая на порцию котлет, и его усмешка показалась Степану остроумной, рассуждения мудрыми, выражения очаровательными, поведение несравненным. И зависть поднялась в нём к тому, кто сумел не измениться, остаться самим собой, стыд нашалившего школьника, который заметил пристальный взгляд учителя.
– Как поживаешь, Левко? – вскрикнул он.
– Э, ты рассказывай сначала.
И молодой человек рассказал, – коротко, бледно о времени, прошедшем с их разлуки, вспомнил о своих рассказах, о работе, не чувствуя ни в словах своих, ни в событиях, которые за ним стояли, никакого просвета жизненного веселья.
– Ого, так ты важная особа! – усмехнулся Левко. – Наверно, рублей полтораста тянешь?
Приблизительно, кроме гонорара. А вот продал несколько месяцев назад сценарий. Полторы тысячи взял.
Левко свистнул.
– Сто чертей его матери! – промолвил он.
Но в голосе его было только удивление и никакой зависти. Потом другая мысль привлекла его внимание.
– Выходит – ты украинский писатель? – серьёзно спросил он.
– Выходит, – грустно усмехнулся Степан.
– Значит, и живые писатели есть? – спросил он.
– А что?
– И есть такой, как Шевченко?
– Такого нет.
Левко облегчённо вздохнул, словно современная литература ничем ему не угрожала.
Потом, не торопясь, рассказал о своих делах и планах. Институт он кончил и отбыл год практики в деревне. Теперь приехал получить диплом и должен ехать на Херсонщину, куда получил назначение на должность районного агронома.
– А как же… тот учитель, латинист, у которого, ты жил… что чаем нас угощал? – спросил Степан и ощутил беспокойную радость от этого прикосновения к прошлому, которое внезапно ожило в нём, ещё туманное, туманное, словно предрассветная мгла, которую прорежет сейчас ясный луч.
– Э, с ним плохо, – засмеялся Левко. – Зарезался, брат, сам и нож себе наточил. Так и говорил, что зарежется, как философ, а мы думали, что бредит. А он и доказал. Ну, и было заботы!
– А жена?
– О, козырь бабуся, хоть и беззубая! Если что сварит или спечёт, то куда там ресторану! Умели буржуи вкусно кушать. Я думаю её с собою на Херсонщину взять…
– Ты не женат?
– Нет ещё.
– Чудак ты! Что же ты без жены будешь делать в глуши?
– Охотиться там хорошо, – сказал Левко. – Ну, и степь люблю.
Степь!
А Степан разве не любит степей? Ясное, горячее воспоминание встало в нём, – воспоминание о неподвижной ночи, о безграничности неба и земли, синей тишине лунного сияния. Лежать кверху лицом в траве, раскинув руки, без шапки, босым, смотреть на золотое, лазоревое, красное, зелёное мерцание звёздочек, рассыпанных по небу чьей-то могучею рукою, чувствовать эту руку, в дыхании воздуха на лице и заснуть утомлённым от созерцания дали. А утром, за холмами всходит солнце – страшная, громадная почка холодного огня медленно расцветает горячим кругом.
Левко съел котлеты и вытер руки бумажной салфеткой.
– Собираюсь в кино, – сказал он. – Люблю посмотреть, как скачут люди. Подумаешь только, чем только человек не кормится! Может, вдвоём пойдём?
– Нет, у меня дела, – сказал Степан.
На улице они крепко поцеловались, молодой человек был взволнован.
– Пиши, Левко, из своей Херсонщины, – сказал он.
– Да, как видно, не будет о чём, – ответил тот.– Это уже вы, писатели, пишите себе, а мы когда-нибудь прочитаем.
XV.
Осенью в степи тревожно шелестит сухими ветвями кукуруза – целые поля ровных жёлтых стволов, словно бы кто-то крадётся, раздвигает её обвислые листья. Осенью у дорог осыпаются семенем бурьяны – высокие заросли лебеды, молочая, чертополохов, чернобыльников. Осенью ветры ходят внезапные, изменчивые. Осенью ветры нападчивые и хитрые. Удивит и исчезнет. Рвы в степи проваливаются внезапно, раскрывая глиняные внутренности. На дне их растёт бурьян, а в нём змеи, комары и миллионы ящериц. Множество путей в степи, дорог и тропинок. Перекрещённые, кривые, коленчатые. Словно бы нарочно перепутали их там, чтобы ходить и блуждать без конца. И хочется в степь итти. Хочется свернуть на боковую тропинку. Вьётся она горками, холмами, убегает прямо по нивам и баштанам. И ломается под ногами шелестящее жнивьё.
Степан внезапно остановился. Насколько он мог понять, это была Павловская улица. С полчаса ходил он, расставшись с Левко на пороге столовой. Ходил, задумавшись, радостно, в том молчаливом спокойствии, которое овладевает человеком после болезненных беспокойств и разочарований. Чувствовал, что, надеется на что-то и это что-то сейчас сбудется. Предчувствие освобождения было в нём, и всплывавшие воспоминания возвращали его всё назад и назад, в прекрасное детство, незабываемое время первого познания мира. Он шёл волшебной тропинкой прошлого, вдохновенно ища истоков жизни, и весною средь города страстно грезил теплотою осенних степей.
Потом посмотрел на часы. Четверть девятого. Ещё не поздно. Ещё можно увидеть её. Да и что ему время?
Он возвращается на село.
Эта мысль – дикая, внезапная не испугала его. Даже не удивила. Она родилась вдруг, ясная, прекрасная, полная жгучей радостью, силой и надеждой. Он возвращается на село. В степь. К земле.
Навсегда оставит этот город, чужой его душе. Этот камень, эти фонари! Отречётся навсегда от жестокой путаницы городской жизни, отравляющих грёз, которые нависли над гулкой мостовой, душных порывов, которые разъедают душу в узких закоулках комнат, бросит сумасшедшее желание, которое растравляет мысль, сжатую тисками. И пойдёт в спокойные, солнечные просторы полей, к оставленной воле и будет жить, как растёт трава, как зреет нива.
Звонок трамвая остановил его. И он радостно подумал: «Завтра я тебя не услышу».
И боль, собранная за полтора года, гнетущее неудовлетворение, вся горечь ежедневных стремлений и утомительность мечтаний, которые он познал в городе, превращались в приятное утомление, в щемящую тягу к спокойствию. Он видел себя завтра не сельбудовцем, не сельсоветчиком, не учителем или союзным активистом, а незаметным хлеборобом, одним из множества серых фигур в свитках, в армяках, которые водят по земле вечное орало. Влажный рассвет! Свежесть первого луча! Прекрасный блеск тихой росы! Будь благословенно время, когда родится свет жизни! Дух прошлого пробудился в нём, дух веков, который дремлет в душе и подымается в минуты сдвигов, тот непреодолимый хоть и придушенный голос, который шепчет в сказке об утраченном рае и поёт песни природы.
Но не в этом была главная забота. Охотника купить комнату и обстановку он найдёт завтра же, завтра же подаст заявление об увольнении, и завтра же вечером двинется на юг, чтобы пристать где-нибудь к коммуне либо артели. Это нетрудно. Это просто и легко. Об этом нечего думать и беспокоиться… Но… он поедет не один!
Думая об этом, он захлёбывался. Что-то безграничное было в этом неожиданном пробуждении откинутой угнетённой любви. Из маленькой искры, полуугасшей, покрытой теплом, словно мстя за холодный страх угасания, вспыхнул жгучий огонь, который озарил его новым порывом. Ясным, таким простым, радостным был перед ним путь, и он тихо пойдёт по нему вдвоём с Надеждой.
– Надийка, Надюся! – шептал Степан.
Понимал теперь, что она всегда была в его душе, как зовущий звон из дали, что рождала в нём своим дыханием тревоги, являлась ему в мечтах, и он не узнавал её до сих пор; что и в других любил только её, а в ней любил что-то безгранично далёкое, какое-то непознанное воспоминание. Он чувствовал теперь, что не забывал её никогда, что искал её всё время в недрах города, и она была тем огнём, что горел в нём, порываясь в даль. Возвращаясь к ней, он находил себя. Возвращаясь к ней, он оживлял то, что погибло, то, что исчезло от его испорченности, то, что он сам в ослеплении разрушил.
Надийка! Прекрасная девушка! Светлая русалка вечерних полей! На его призыв она отозвалась тихим трепетом, который вселился в него, донёсшись оттуда, где жила она, где ждала его, угнетённая и скорбящая. Она словно повернула голову на его мольбу, и глаза её засветились счастливым согласием, и рука протянулась к его лбу. Она прощала! Да и могло ли быть иначе? Она пойдёт! Да, это и неминуемо. Теперь в цветущих долинах, которые ждут их, он будет смотреть без конца в её глаза, где будет видеть свет и жизнь, будет брать её за руку в радостной покорности чувству и ощущать на своей ладони неисчерпаемое тепло её тела, к которому он никогда не прикоснётся. Ночами будет стеречь её сны, прекрасные сны убаюканной красоты. Будет их понимать, как понимают разговор людей. И будет пить, пить каждую минуту сладостную отраву её обожествления и будет медленно умирать у её ног в смертельном опьянении. Так нужно. Её воскресение одновременно с певучей тягой в степь сливалось в единый порыв сладкого покаяния, порыв к бесконечному рабству, в котором он чувствовал всю радость обновления.
На углу Владимирской он озабоченно остановился. Не забыл ли он их… то есть её адреса? Нет. Андреевский спуск, квартира 38/6. Название улицы и цифры всплыли в памяти, хоть слышал он их только раз. И странным ему только казалось, что к ней так близко итти, так легко добраться. Тем лучше, ибо он согласен был исходить пустыни, голодный и жаждущий, блуждать в подземельях и чащах, среди неземных опасностей и всё преодолеть во имя её.
Молодой человек приговаривал:
Андреевский спуск, Андреевский спуск…
Он сразу вспомнил эту крутую, искривлённую улицу, свою старую дорогу с Подола к институту и снова встрепенулся, – на том пути, где он потерял её, он должен её найти.
«Как это прекрасно… как прекрасно…» – думал он.
Новая мысль внезапно пришла ему в голову. Ему хотелось увидеть этот маленький дом на Бессарабке. Войти в него, как входил впервые, когда увидел Надийку в обществе друзей – сельских парней. Где они? Где стыдливая Гаянуся и молодцеватый Яша? Где пышная Нюся с инструктором клубной работы? Они вдруг стали ему дорогими, родными, интересными, и его охватила смутная надежда на то, что он застанет их всех у стола и сядет рядом с Надийкой, которая его ждёт. Да чего и действительно ей не зайти туда случайно? Мог же он встретиться сегодня с Левко, которого ещё дольше не видел! Степан свернул направо и быстро сошёл на Крещатик.
Сердце его так растерянно трепетало, когда он постучал в шаткие двери низенькой халупы. Всё кругом он узнал: старомодное крыльцо, ограду, надворные ставни. Ничто не изменилось, какое счастье! Да и времени-то в конце концов прошло не много. Полтора года, которые казались ему сейчас сплошной ночью непробудного сна.
Ему открыли. Открыл человек с грубым голосом, недовольный и неприветливый.
– Тут живут девушки… которые жили здесь полтора года тому назад? – спросил Степан.
К сожалению, спросить иначе не мог, так как забыл их фамилии.
– Нет здесь никаких девушек, – ответил человек таким тоном, словно хотел сказать, что здесь проживают только честные люди, и хотел закрыть двери.
Тогда Степан, путаясь, начал объяснять ему. Он, собственно, ищет свою сестру, которую оставил в городе полтора года тому назад, и где она – могут знать только девушки, которые здесь жили. Если он их не найдёт, то ничего не узнает про сестру, которая куда-то выехала. В адресном бюро он уже был. Ничего не сказали.
– Деньги только берут. Порядочки советские! – пробурчал человек, смилостившись.
– Да, страшный бюрократизм… Одна из них была портнихой, такая низенькая…
– Да тут портниха какая-то во дворе живёт. Пройдите за ворота.
Расстались они приветливо, и молодой человек вошёл в тёмный двор – узенькое пространство между высокими соседними домами, на котором росло несколько деревьев. Тут заметил крохотный домик, словно гриб, прилепленный к глухой стене. Бледная полоска света светилась в щели ставней. Спотыкаясь о комья земли и камни, Степан подошёл к окну и осторожно постучал.
– Кто там? – услышал он женский голос.
Молодой человек, затрепетав, ответил:
– Откройте… Это я… Степан… Помните к вам приходил, когда Надийка здесь жила…
– Степан? – удивлённо переспросили в доме.
– Да, да… Степан из Теревней. Откройте, Ганнуся!
Внутри вдруг засмеялись.
– Вот как! А меня зовут Евгенией!
Степан со страхом отступил. Её зовут Евгенией… Какое ненужное имя! Он готов был упасть здесь на землю, закрыв глаза. Но на улице мысль о Надийке снова овладела им, и он снова начал о ней думать. Только это было уже не сладкое мечтание, которое только что грело и радовало его, а болезненная тяга. Теперь он думал о деле больше умом и взвешивал его со стороны его реального осуществления. Что Надийка ждёт его, это казалось ему несомненным. Сознание исключительного права на эту девушку никогда не оставляло его. Он объяснит ей, что жизнь возможна только на лоне природы, которую они оставили и к которой должны вернуться, а город, душный и нудный, – это страшная ошибка истории. Мысли эти, он сам знал, не новые, но это только доказывает их правдивость. Да она это поймёт без слов. Сейчас он о ней совсем не беспокоился. Но она же замужем! Ах, как это неприятно! Молодой человек посмотрел на часы. Двадцать минут десятого. Поздновато, но он должен это сделать сегодня.
Чувствуя страшное утомление, он позвал извозчика и поехал, вяло склонившись на сиденье. Уличные огни, вечернее движение толпы угнетали его, доводили его до полного бессилия. Желание уснуть, как тёплый тяжёлый покров, – укрыло его мысли неподвижной истомой. Он чувствовал, что тело его связано, чувствовал, как крепко обвили его душу пелёнки, мягкое качанье рессор колыхало его, отодвигая всё далее и далее беспокойный рокот жизни.
Внезапно извозчик остановился.
– Что? – спросил Степан, очнувшись.
– Приехали, – сказал тот.
Молодой человек, вздрогнув, соскочил на землю.
– Можно подождать? – спросил извозчик.
– Подождите, я сейчас, – ответил Степан.
Он торопливо раскрыл двери дома, над воротами которого горел номер, но по ступенькам шёл медленно, зажигая спички. Наконец остановился на третьем этаже, и душа его переполнилась безучастностью.
Он прислонился к косяку и начал думать о том, куда девался его портфель. Очевидно, он потерял его. И хотя в нём не было ничего ценного, Степана охватило неприятное чувство: «Эх, остолоп же я, право!» – подумал он.
Шаги за дверью прервали его размышления. Он снова заволновался. Она или не она откроет? Незнакомый женский голос спросил: «Ктр там?» И Степану вдруг пришло в голову, что они переменили квартиру. Это предположение ободрило его, и он громко спросил:
– Можно видеть товарища Бориса?
Тогда двери открылись на цепочку, и в щель выглянуло лицо девочки-подростка.
– Бориса Викторовича нет дома, – важно ответила девочка. – Они уехали в командировку.
– Жаль, – буркнул Степан и безразлично добавил: – В таком случае я оставлю записку.
– Пожалуйте, – промолвила девочка.
В передней он повесил на вешалку фуражку, пригладил волосы и вошёл в комнату, где над застеленным клеёнкою столом горела лампа под широким абажуром из оранжевого ситца. Он сел за стол и, пока девочка отыскивала карандаш и бумагу, украдкой осмотрел обстановку. На окнах – кружевные занавески, на подоконниках – цветы. В углу матерчатый дивам, пред ним коврик. Под стеною простые, но изысканные стулья. И сейчас же справа – большой помещичий буфет, покрытый резьбою. Тёмные обои не соответствовали размерам комнаты. Было тихо и опрятно. Мебель была расставлена по назначенным местам, по принципу симметрии, а буфет казался верховным надсмотрщиком за порядком, суровым представителем неподвижных основ, местной жизни.
Что-то коснулось его ног – кошка прижалась к его ботинку. Он взял её на колени и начал писать.
«Милый Борис, наконец я собрался тебя проведать и так неудачно. Думал поболтать вечер о прошлом…»








