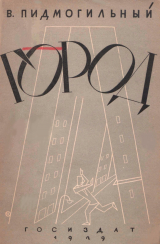
Текст книги "Город"
Автор книги: Валерьян Подмогильный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Два дня его грызла глухая тоска по Мусиньке, главным образом потому, что был с ней разлучён насильно. Он в конце концов терпеть не мог, когда что-либо делалось не по нём. Но ещё через два дня примирился бы со своим положением и, верно, остался бы у Бориса, если бы не новая неприятность, которая, снова разрушила его планы.
Как-то вечером Борис, собираясь на охрану магазина, обратил внимание на его невесёлый вид.
– Ты заработался, Стефочка, – сказал он ему. – Даже паровой котёл лопается от перегрева, а он ведь чугунный! Ещё Маркс говорил, что рабочий человек должен отдыхать.
– Я и сам вижу, – сказал Степан, – зарвался я в работе.
– Самый лучший отдых – это женское общество или, по-нашему, вечеринки. Меня недавно водили, я и тебя поведу – только нужно полбутылки и что-нибудь съестное. Это совсем близко, возле Крытого Рынка. Там есть дом не дом, хлев не хлев, чорт знает что, одним словом, но зато девушек пять…
– Пять? – спросил Степан.
– Целых пять. Но одна – боже мой! Настоящая Беатриса! Такая беленькая, тихая, а тихая вода, говорят, берега рвёт. Как её? Наталка? Нет… Настунька? Тоже нет. Только уговор – это моя.
– Да бери их всех, – угрюмо сказал Степан. – Есть у меня время для женщин!
– Зря. Ученью пишут, что это помогает обмену веществ.
Когда Борис ушёл, Степан думал долго и горько. Что девушек стало пять вместо трёх, понять было нетрудно. Он сам слышал от Надийки, что они собираются принять на зиму ещё двух подруг, чтобы легче было с дровами. Понял он и то, что Борис собирается ухаживать за Надийкой. Его будет тянуть туда, если он ему будет рассказывать, что там делается, а там рассказывать про него, Степана. Но достаточно было Борису только напомнить о Надийке, как юношу охватила чуть ли не физическая тошнота. Что же будет, если она беспрерывно будет фигурировать в рассказах Бориса? Чувство самосохранения подсказывало ему, что надо уйти.
В этот вечер он чувствовал к девушке вражду, грустную вражду к утраченному, которое не может вернуться и издали приобретает притягательную силу. Неужто полюбит она Бориса? На миг им овладело желание остаться, остаться нарочно у Бориса, чтобы ходить за ним туда и отобрать Надийку. Натянуть нос этому хвастуну! Обрезать ему хвост, чтоб он не смел звать её своею. Но душа его была чересчур утомлена, чтобы проникнуться порывом, иные, более важные заботы стояли перед ним, и, взявшись за книгу, он безразлично подумал:
«Пусть берёт»,
И решил перебраться в КУБУЧ, горько разочарованный от сознания, что город тесен и в нём нельзя разойтись с людьми.
XII.
Это было первое утро, когда аккуратнейший студент института Степан Радченко не явился на лекции. Угрюмо шёл он на Нижний Вал за вещами. Шёл утром, потому что в это время Мусинька бывала дома одна. Хоть гнев против Максима в нём уже совершенно перегорел, а сам Гнедой вряд ли осмелился бы ему что-нибудь сказать, тем не менее юноше было бы неприятно с ними встретиться. Да и им, верно, не весело было бы с ним увидеться, а он не любил причинять людям неприятности.
Дверь была не заперта. Степан пошёл в пустую кухню. На миг ему пришла, мысль – тайком забрать свои вещи и исчезнуть отсюда навсегда. Но он отбросил её, как позорную, – не вор ведь он в самом деле! Войдя в кухню, он почувствовал, как сжился со всей этой обстановкой. Каждая вещь была ему знакома. В углу ведро, в котором переносил столько воды, стол, за которым исписал стопы бумаги, вот его книги и тетради на месте, как он их оставил. Ему показалось до боли невероятным, что он должен всё это оставить. За что? Он, чувствовал себя обиженным.
Но обстановка была лишь фоном, на котором лежали видимые только ему следы романа. Вещи напоминали ему о близости к женщине, которая дала ему такое большое и острое наслаждение, и он почувствовал, что если это чувство и не любовь, то всё же оно не исчерпано, что его ждёт ещё глубина многих ночей, потеря которых может его разорить. Внезапный страх охватил его при мысли, что эта вынужденная разлука с ней
ввергает его в отчаяние, от которого до сих пор его спасала тайная надежда вернуться к ней и снова овладеть ею. Дрожа от возбуждения он постучал в дверь, ведущую в комнату.
Вошла Мусинька. Юноша посмотрел ей в лицо, ища на нём признаков радости, счастья, вызванных его появлением. Но оно было спокойно, как всегда днём, только немного утомлено и бледно.
Тогда он, не здороваясь, сурово сказал:
– За вещами пришёл.
Она улыбнулась, и эта улыбка завершила его раздражение.
– Не хочу вам мешать! – крикнул он. – Наверно опротивел я вам, и вы сами послали Максима, чтобы избавиться от меня.
– Максим уехал, – ответила она тихо.
– Убежал?!
– Да. Он будет жить отдельно.
Ужас овладел Степаном.
– Он сказал: «Мама, обещай, что ты прогонишь этого жулика, тогда я останусь, и всё будет, как раньше». Я сказала: «Он не жулик…»
Степан бросился к ней, схватил руку и горячо поцеловал:
– Нет, нет, Мусинька, я жулик! – говорил Степан. – Я скверный, меня нужно прогнать. Я люблю вас, Мусинька, простите меня!
Она вяло ответила:
– Простить? Тебя? За что?
Он целовал её шею, утолки губ, глаза, лоб, припадая к знакомым местам, прижимая её нежно и сладостно, и она, словно проснувшись, обвила его шею, отклонила ему голову и посмотрела в глаза долгим страстным взглядом.
Ночью она сказала ему:
– Я знала, что ты вернёшься.
– Почему?
– Потом скажу.
– Я тоже был уверен, что вернусь. Шёл забирать вещи, а где-то в душе знал, что будут с вами. Поцелуйте меня, я хороший.
– Ах, ты, любовь моя, – засмеялась она.
Степан умолк.
– О чём ты думаешь?
– О… той половине вашей квартиры.
– Раньше не думал?
– Очень мало, как-то мельком, между прочим. Боялся вас спрашивать. Мусинька, всё так странно происходит. Выходит, я сам себя не знаю!
– И никогда не будешь знать.
– Почему? Сколько я выстрадал! Город закружил меня. Я утопал.
– А теперь около меня обсыхаешь.
Он услышал в этих словах столько боли и насмешливого упрёка, что невольно отстранился, как-то вдруг, неожиданно поняв, как что-то неведомое до сих пор, скрытое и страшное, что Мусинька его жила и до того, как стала для него существовать, что годы, десятки исчезнувших лет неуклонно вели к их встрече и скрестили в этой кухне их пути. И сейчас яснее, чем когда-либо, почувствовал тихую, непреодолимую работу судьбы, как пристальный взгляд, который вдруг принуждает оглянуться, и обычные встречи существ, которые ещё вчера друг друга не знали, а завтра станут друзьями, любовниками или врагами, поразили его своей таинственностью и ужасом.
Пугало его то, что лежит она рядом, а он не знает, о чём она думает, и внезапно сжал её руки.
– Вы не покинете меня?
– Ты никогда не позволишь, чтобы тебя покинули.
– Неужто потому я и вернулся?
– А почему, мой мальчик?
Он опёрся на локоть и закурил? Её слова были ему немного неприятны. В них слышалось недоступное ему знание жизни и какая-то грустная ирония.
Она молчала. Он медленно курил, лёжа на спине.
– Невесёлой была эта неделя, – сказала она.
– Для меня тоже, – ответил он.
– И для тебя? Да. Сколько тебе лет? Мне сорок два года, – сказала она не сразу, – я стара. Ты хочешь сказать, что это не много. Эх, миленький, через год я буду настоящей старушкой, ты не узнаешь меня! А когда-то, очень давно, я тоже была молода… Знаешь, что такое радость? Это – эфир. Он испаряется в один миг. А боль держится и держится без конца…
– Это правда, – сказал он, – я сам это замечал.
– Говорят, что жизнь – базар! Правильно. У каждого свой товар. Один зарабатывает на нём, другой докладывает. Почему? Никто не хочет умирать и должен продавать себе в убыток. Тот, который прогадал, называется дураком. А люди страшно непохожи друг на друга. В книгах пишут – вот человек, он то и сё. И поговорки есть про людей, можно подумать, что мы чудесно знаем человека! Есть даже такая наука о душе – психология, я читала, не помню чью. Он доказывает, что человек бежит не потому, что путается, а пугается, потому, что бежит. Но не всё ли равно бегущему? Он тоже ничего не знает. Понимаешь?
– Вы, очевидно, имеете в виду идеалистическую психологию. Теперь психология строится совсем на других основах. Метод интроспекции давно уже заброшен.
Он положил окурок на стол, протянув для этого руку,
– Что же дальше? – спросил он, – Вы были молоды, а что же дальше?
Мало интересного. У меня было два брата и две сестры. Они умерли. Кто скажет, почему, именно я осталась жить? Странно, правда? Мы жили тут. Этот дом мой. Богатыми мы не были. Так себе. Отец мой мелкий купец. У отца был товарищ, они вместе росли, учились. Отец торговал железом, а товарищ его – рыбой. Товарищу повезло, он построил в Липках [Часть Киева, где жила преимущественно буржуазия.] дом, большой, пятиэтажный, стал оптовиком. Загрёб миллионы. А отец торговал железом. И никому не завидовал. Когда умерло четверо детей, он как-то опустился. У него пропала жажда жить. Потом умерла мать. Я осталась одна. Отца я боялась – он был угрюм, не замечал меня. Молчит, бывало, день, неделю. Подруг у меня не было… Вообще к нам никто не приходил. В школе меня дразнили монашкой. Мне было семнадцать лет, когда однажды поздно вечером пришёл товарищ отца с сыном…
– Это был ваш муж?
– Да… Это был Лука. У его отца на груди был орден – я помню. Я могу рассказать каждый день своей жизни, с тех пор как помню себя… Это страшно – так помнить всю свою жизнь. Так будто сам себя сторожишь… Отец сказал мне тогда: «Тамара, я скоро умру, выходи замуж». Я согласилась и поцеловала ему руку. Рука была холодной, он действительно умер через два месяца. Тогда я впервые увидела, как далеки друг другу люди. Отца хоронили с почестями, так как все его любили. Меня одели в чёрное и вели за катафалком под руки – с одной стороны Лука, с другой – тётка. Я как-то посмотрела на тротуар: там останавливались люди, снимали шапки, спрашивали, кого, хоронят, и шли своей дорогой. Когда я увидела это, я перестала плакать. Мне стало стыдно плакать перед прохожими. Я представила себе как придут они домой и расскажут за обедом, что вот хоронили такого-то и его дочь очень плакала. После этого у меня навсегда высохли слёзы. А плакать было чего.
Она остановилась и откинулась на подушки. Спокойствие её слов всё больше зачаровывало юношу, и чем сильнее волновал её рассказ, тем меньше мог он ей сказать что-нибудь. Он осторожно достал папиросу и снова закурил.
– Не свети мне в лицо, – сказала она. – Я ещё не рассказала тебе, почему Лука, который меня, быть может, где-нибудь только случайно видел, пришёл к нам свататься. Я сама узнала об этом позже. Будь уверен, что обо всём неприятном тебе непременно расскажут. Рано или поздно, случайно или нарочно. А было вот что: Лука влюбился в одну девушку, тоже купеческую дочь, и дело дошло до обручения. Но там будущий тесть или тёща – не знаю уж кто – как-то неосторожно выразился, что это большая честь для рода Гнедых, – породниться с их семьёю. И старый Гнедой взял Луку и привёл к нам. Лука ненавидел, его, но покорился. Ты можешь догадаться, какая ожидала меня судьба… Словом, Лука говорил, что если я разбила ему жизнь, то должна хоть потешить его.
– Чего же вы не бросили его? – спросил Степан.
– О, он заботился об этом! Все двери были заперты, а окна на четвёртом этаже все открыты. Как он хотел, чтобы я покончила с собою, но сам убить меня боялся. Я ждала, чтобы умер отец. Но после его смерти Лука ко мне переменился, перестал бить меня, совсем забыл обо мне. Я редко видела его. Конечно, мне рассказывали, где он, что он, с кем живёт. А я только с виду жила на земле. Знаешь, что такое мечта для того, кому больно? Это проклятие. Но как я мечтала! Чем тяжелей мне было, тем счастливей я была. Я знала чудесные миры. Я переселялась на ту звезду, которая вечером всходит, – там прекрасные сады, тихие ручьи, и никогда не проходит тёплая осень. Потом у меня родился сын…
– Максим?
– Максим… Я хотела, чтобы его звали иначе, чтобы его звали… 1
– Как чтобы звали? – спросил он.
– Ты удивишься… Чтобы звали Степаном!
– Почему?
– Тогда я не знала, а потом поняла. Я имела достаточно времени, чтобы изучить себя, чтобы раскрыть в себе каждую мысль. Видишь ли, я сама в конце концов стала себе удивляться. Я не любила себя так, как другие себя любят. Но сама себе была необычайна близкой. Понимаешь? Кто сам себя любит, тот раздвоен, а можно ещё слиться с самим собою… Тогда любить себя невозможна, никак. Но тогда не боишься себя и своих мыслей… Так вот что. Было мне лет двенадцать, когда у нас служил работник. Как-то я уснула вечером над книжкой, и он перенёс меня на кровать. Когда он нёс меня, я проснулась, но притворялась, что сплю, чтобы он не поставил меня на ноги. Я закрыла глаза, мне было очень страшно и приятно. Потом мне ужасно хотелось попросить его, чтобы он носил меня, и это желание было таким сильным, что я удирала из дому от стыда. Всякими способами я добилась того, чтоб отец забрал его в магазин, и больше его не видела…
Степан чувствовал какую-то неуверенность. Неужели это она, его смеющаяся Мусинька, такая радостная и шутливая? И ему вдруг стало неприятно, что женщина, которую, как казалось ему, он знает хорошо, имеет какие-то свои, не связанные с ним секреты.
Она продолжала:
– Потом революция уничтожила его миллионы. Лука за месяц поседел, и нас выселили из Липок. Тогда он заметил меня и Максима. Как-то ночью он пришёл ко мне в комнату и спросил: «Тамара, ты ненавидишь меня?» Я ответила прямо: «Ты для меня не существуешь». Тогда он стал меня бояться. Ему страшно было на меня взглянуть. Он начал носить синие очки… А Максим вырос, стал юношей. Может, я сама виновата – я его безумно любила. Иногда мне казалось, что его должны украсть. Я сторожила его целые ночи. Когда он начал ходить в школу, я умирала от тоски и страха. Он рос тихий, нежный. Собирал бабочек, жуков, потом марки. Любил читать. Никогда у него не было товарищей, – никого, кроме меня. Вечером он рассказывал мне обо всём, что видел днём, что делалось в школе, – всё, всё. Я помогала ему учиться, пока могла. Когда он стал юношей, мной овладела страшная скорбь… Ведь он должен был от меня отойти. Я мучилась, плакала. Он это понимал. Как-то подошёл ко мне и сказал: «Мама, я никогда вас не оставлю». «Это невозможно», – сказала я. Он ответил: «Увидишь, разве я когда-нибудь обманывал тебя?» И действительно он меня не обманул.
Она замолчала, сама проникаясь тоской своих слов, словно впервые услышала их из чужих уст. Воплощаясь в слове, воспоминание приобретает незнаемую ещё реальность, в соединении звуков оно становится поразительно острым, далёким от своего тихого существования в молчаливой мысли.
Он тоже молчал, молчал и курил, смотрел в оловянное небо за окном, слушал тиканье часов над головой, казавшееся в тишине торопливым. А мысли его напряжённо работали, воспринимая и усваивая то, что он услышал. Далёкая перспектива её прошлого, бесконечный тёмный коридор времени, в котором она там и сям зажгла словами дрожащие огни, поразил его вначале, ужаснул странной сложностью своих поворотов и изгибов, но как-то внезапно побледнел, погас в его глазах от улыбки, невольно вспыхнувшей у него на губах. В чём дело? Что удивительного в этой банальной истории о несчастливом браке, мещанской истории, которая повторяется повсюду, под низкими крышами предместий, где жизнь заключается в любви и уюте? Покорная купеческая дочь, муж изменник и тиран, осенние мечты, материнство и наконец увлечение красивым юношей, цеплянье за остатки жизни, болезненная потребность предать ей хоть какое-нибудь содержание перед старостью, когда вспыхивает последний, жалкий, безумный огонь в женской крови! Не ново и не редкостно. Но тем не менее он чувствовал в себе прилив силы от тайной мысли, что сумел войти в её удушливую жизнь и подчинить себе. Он явился, и всё переменилось, – это было для него важнее всего. И, обняв её и вдруг овладевая ею, он шёпотом спросил:
– Вы же меня, Мусинька, немного любите?
Нарушенная на неделю жизнь красивого и способного юноши прошла очередной порог и снова полилась ровным мощным потоком. И в институте, и дома он чувствовал себя хорошо. Он был перегружен академической и общественной работой, и работа не давала серьёзно задумываться, особенно о неприятном. И Мусинька, такая деликатная женщина, не докучала ему досадными воспоминаниями. Всё успокоилось в притихшем доме Гнедых, который, разлагаясь и умирая медленной смертью, которая может тянуться месяцы и годы, выбросил вдруг свежий побег возросшего в его гное случайного семени. В этом ветхом мёртвом, гнезде рос и обрастал перьями кукушкин птенец, расправляя сильные крылья. И действительно, после того знаменательного события юноша почувствовал себя хозяином не только кухни, но и других комнат. Заглянув на миг в душу Мусиньки он пустил туда корни, обосновался и укрепился там, как неизбежное следствие, свободно впитывая живительные соки, которые может дать перед увяданием женское тело. Он обвился вокруг неё, питая ею свой рост, и щёки её горели лихорадочным румянцем от пламени, которое, сжигая её, растило его молодость, как плод, который налившись должен упасть, оторваться от ветки.
Уже давно должна была наступить зима, как уверяли бюллетени Укрмет, [Украинская метеорологическая станция.] но опоздала по независящим от науки причинам. Робкий снег, выпадающий утром, таял на мостовой жиденькой грязью, не опасной для юфтевым сапог Степана, но чувствительной для беспризорных. Беспризорные перебирались на зимние квартиры в водосточные люки и сорные ямы. И когда однажды случилось чудо, и снег, скреплённый морозом, не поплыл струйками в канализацию, город пышно развернул свои белые артерии и гордо вознёс своё тело. Покрытый снегом, он достигал апогея творчества, напрягался, чтобы весной сбросить венчальную фату и снова вступить в полосу увядания. Это было время, когда поздно гаснут окна, когда по хрустящим улицам несутся лёгкие сани, когда громче становится музыка пивных, увеличиваются обороты рулетки, когда шипы автобусов обуваются в цепи, женщины – в очаровательные боты, а студенты сдают первые зачёты в институтах и жизни.
XIII.
Весну приносят в город не ласточки, а ломовики, которые с благословения Комхоза начинают ковырять на улицах слежавшийся снег, грузить его на сани и вывозить туда, где он может таять без вреда для благоустройства. Прежде чем появятся эти предтечи тепла, ни одна почка на деревьях бульваров не смеет набухнуть и распуститься. Это было бы дерзким нарушением местных законов и варварским покушением на основы цивилизации.
Пробуждение природы не прошло без влияния на душу Степана, которая напоминала собой светочувствительную пластинку. Ничто так не вскрывает искусственность города, как весна, которая и здесь расплавляет снег, но обнажает, вместо ожидаемой зелени, голую мостовую. Степана тянуло подышать запахом влажной земли, утонуть взором в зелёных просторах полей, в чёрных полосах пахоты. Вокруг он видел страшное бесправие природы, и деревья на каменных улицах и огороженных бульварах, запертые за решётками, как звери в зверинцах, грустно простирали к нему набухшие ветки. Что значила здесь смена холода на тепло, кроме смены одежды? Что напоминало о могучих испарениях степей и радости человека, чувствующего под плугом плодородную землю? Там весна – труба светозарного бога, лучезарная вестница счастья и работы, а здесь она – мелкий эпизод, конец хозяйственного квартала и начало движения пригородных поездов. Город разлёгся на солнце, как громадный изнеженный кот, жмуря от света бесчисленные глаза, потягиваясь и позёвывая от наслаждения. Он готовился к летнему отдыху.
Но воспоминания Степана о деревне, принесённые теплом и свежими дождями, не могли покорить его. В них была грусть о детских годах и скорбь о минувшем, приобретающем в отдалении особую прелесть, и он надеялся что эта тихая скорбь рассеется, как тающий туман. А может быть, это были остатки неясных и бесформенных желаний, которые растравляет в сердце весна, нашёптывающая ласкающие слова о будущем, разжигающая жажду, обещающая, какие-то перемены, какое-то продвижение, возбуждающая и тревожащая души разноцветными семенами, которые, вместо того, чтобы расцвесть розами, чаще произрастают в виде горькой полыни. Ибо жизнь – лотерея с цветными афишами, умопомрачительными плакатами, усовершенствованной рекламой, обещающей необычайные выигрыши, но деликатно умалчивающей о том, что на один выигравший билет приходится тысячи пустых тоненьких билетиков, и принимать участие в тираже можно только один раз.
В институте весна проявилась зачётной лихорадкой – болезнью, которой подвержены только студенты. Начинается она медленно, и её первая стадия характеризуется повышенной усидчивостью, склонностью составлять конспекты и подчёркивать в книгах строчки; но первый симптом явного припадка начинается с объявления профессора в канцелярии, после чего болезнь переходит в горячечную стадию с повышенной температурой, бредом и бессонными ночами. Кризис происходит в зачётной комнате, где выявляются все осложнения и возможность рецидива. Сдавая на «хорошо» такие серьёзные предметы, как политэкономия и экономгеография, Степан вспомнил об обязательности изучения украинского языка и решил сдать его между прочим. Лекции по украинскому языку были единственными, которые он не посещал, и готовиться по нему тоже не собирался, основательно полагая, что украинский язык есть тот самый, которым он прекрасно владеет, даже рассказы пишет, да и сам он – украинец, для которого этот язык существует и сдать который он имеет все права, тем более, что за время своей повстанческой карьеры, перед тем как поднять красный флаг, он держал некоторое время жёлтый флаг осенних степей и голубого неба. Но на собственном пороге тоже можно споткнуться, и Степан растерялся от первого же залпа тяжёлой батареи, глухих гласных и законов фонетики, а меткий обстрел из скорострельных существительных и глагольных пушек вынудил его постыдно отступить с пылким желанием какой бы то ни было ценой овладеть этой, неожиданной крепостью.
Достав в библиотеке лучшие учебники, он забросил всё остальное и в тот же вечер сел за работу. До сих пор он знал только русские грамматические термины, и с каким-то странным волнением произносил тождественные им украинские, видя, что его язык тоже разложен на отделы и параграфы, подведён под законы и правила. Он углублялся в них с возрастающим увлечением и удовольствием; мелкие обыденные слова казались ему полнее, значительнее, когда он узнавал их составные части и тайну склонения. Он полюбил их и преисполнился к ним уважением, словно к важным лицам, которых считал до сих пор простыми.
Усвоив за месяц талмуд Олены Курыло [Одно из самых распространённых пособий по украинскому языку.] и заучив историю языка по Шахматову и Крымскому, предстал он пред ясные очи профессора. Профессор чрезвычайно удивился глубине его знаний.
– Вот как полезно прослушать курс моих лекций, – сказал он. – Но должен признаться, что редко имею удовольствие экзаменовать украинцев, которые знают свой язык.
– К сожалению, – заметил Степан, – большинство считает, что достаточно родиться украинцем.
– Да, да, – поспешно согласился профессор. – Но должен признаться, что я их безжалостно гоню. Очень рад, что вы этого избежали.
Они разговорились; профессор расспросил Степана об его прошлом и теперешнем положении. Последнее юноша обрисовал самыми тёмными красками, так как и в самом деле его положение начинало казаться ему жалким. Он так мрачно рассказал профессору об уходе за коровами, словно это было опасное укрощение африканских львов, а кухню изобразил такой запущенной и душной, как келья подвижника в чаще первобытного леса. Добряк профессор был растроган.
– Вы кажетесь мне способным, серьёзным студентом, и я попробую вам помочь, – сказал он сердечно. – Должен признаться, что у меня не так уж много слушателей, аккуратно посещающих лекции и которых я ни разу не гонял с зачёта.
После этого профессор написал ему записку к председателю лекторского бюро по украинизации, пообещав ещё и лично поговорить с этим выдающимся человеком, и прибавил, пожимая Степану руку:
– Надеюсь, что из студента вы скоро превратитесь в лектора.
На другой день утром Степан явился в украинизационный ареопаг, где его вторично проэкзаменовали. После внимательного изучения грамматических достоинств юноши, его посвятили в рыцари украинизации первого разряда с оплатой академического часа в один рубль восемьдесят копеек.
Записывая его адрес и выдавая справку, элегантный секретарь лекторского бюро сказал ему:
– Надеюсь, товарищ, что через неделю-две вы получите назначение в учреждение, – добавил он, мило улыбаясь, – перемените свой френч на что-либо более подходящее. Горе украинцев в том, что они плохо одеваются.
Степан понимал правоту его слов. Действительно, его одежда была не только старой, но и неудобной в тёплое время. Её пора было бы сменить. Он не раз об этом думал при одевании и раздевании. И собственно, не недостаток денег останавливал его, – за эти семь месяцев он собрал из своей стипендии около ста рублей, – а неловкость перед самим собой. Смена одежды казалась юноше чрезвычайно смелым шагом, и для этого надо было иметь достаточное основание.
Горизонты расширялись перед ним. Иметь стипендию и лекции в упреждении, то есть повысить свой месячный бюджет чуть ли не до шести червонцев, – это было для него не шуткой, возбуждало юношу и укачивало, но весеннее беспокойство не оставляло его ни на минуту, превращаясь изо дня в день в сосущую тревогу, застлавшую тенью его красивые глаза. Всё скучнее было ему возвращаться домой и он сидел вечером в библиотеке до тех пор, пока это разрешалось и всё сильнее погружался в книги. Вспоминая утром, что ему нужно чистить навоз, подстилать коровам солому и поить их, он начал залёживаться, схватывался в последнюю минуту и иногда бил палкой смирных животных, которые всегда относились к нему благосклонно. Всё тоскливей думал он о лете, когда настанет в институте перерыв, и он будет прикован к своей кухне. В деревню его не тянуло. Подол, особенно Нижний Вал, заброшенная улица, дыра, трущоба предместья, перестала ему нравиться, и долгий путь к институту, которого он раньше совсем не замечал, начинал казаться ему утомительным.
Думая о будущем, он хотел стать ближе к городской культуре – посещать театры, кино, выставки и доклады, а оторванность от центра отнимала много дорогого времени на лишнюю ходьбу, мешая таким образом свободно приобщаться к благам цивилизации. И в душе Степана росло недовольство, отравлявшее ему академические успехи, обессиливавшее надежды и ослаблявшее энергию. Он вдруг вообразил, что переутомился, и втайне возлагал какую-то, если не большую часть своего истощения на счёт Мусиньки, которая своей страстью совсем бесцельно, как начинало ему казаться, пожирала его силы, достойные высшего и более ценного применения.
Лекторское бюро его не подвело: через полторы недели он получил письменное предложение принять кружок в Жилсоюзе от лектора товарища Ланского. Ночью Степан поделился своей радостью с Мусинькой, но она отнеслась к ней иначе.
– Для чего тебе эти лекции? – сказала она. – Разве тебе чего-нибудь недостаёт?
– Но я ведь буду получать почти два рубля за сорок пять минут.
– Из-за этих лекций ты свои забросишь, – сказала она. – Эти два рубля будут тебе стоить института.
– Никогда, – ответил он и, почувствовав в её словах какое-то недовольство, прибавил: – Что же мне, всю жизнь коровам хвосты крутить?
– Да, – вздохнула она, – твоя правда.
Он молчал, курил и вдруг промолвил:
– Я устал. Вечером у меня голова болела.
– Водит? Эта умненькая головка? Нет, моё маленькое счастье, это сердце твоё скучает и тужит. Сколько ему ещё биться! Но Мусинька не станет поперёк твоего пути, когда она станет ненужной.
– Мусинька, вы оскорбляете меня! – сказал он. – Я вас никогда не забуду.
– А, ты уже словно прощаешься! Я вас не забуду это слова, которые говорят при прощаньи. У тебя душа – грифельная доска: достаточно пальцем провести, чтобы стереть написанное.
Он предпочёл бы жалобы, упрёки, чем тёплую горечь её слов, волновавших его своей правдивостью. И желая доказать ей и себе невозможность разлуки, он обнял её в порыве принуждённой страсти.
На другой день в три с половиной он должен был уже быть в Жилсоюзе. До одиннадцати он просматривал пособия и составлял конспект вступительного слова, так как хотел начать свой курс не без некоторой помпы, понимая, как много значит в каждом деле первое впечатление. Понимал он и то, что явиться в старом френче перед аудиторией, которую он должен очаровать, это всё равно, что играть на расстроенном рояле. Надо преобразить свою наружность во имя успеха украинизации.
Вынув свои сбережения, он пошёл к магазину, который полгода тому назад остановил его блестящим шиком своих витрин, заставив столько передумать. Он влетел на крыльях червонцев, порхал и кружил с быстротой ласточки и через три четверти часа вылетел оттуда с изрядным пакетом, где было серое демисезонное пальто невысокого качества, такой же серый костюм, пара сорочек с приставными воротничками, галстук из кавказского шёлка, запонки с зелёной эмалью и три цветных платочка с клетчатыми краями. Купив ещё серое кепи, остроносые хромовые ботинки и калоши к ним, он на остаток купил себе хороших папирос и поехал домой на Подол.
Мусинька, ведшая грустный ménage à trois, варила обед на три персоны и очень удивилась, увидев Степана с кучей пакетов. Он таинственно попросил позволения побыть полчаса в её комнате, где было зеркало. Там он завершил своё превращение, легко приспособив себя к требованиям новой одежды, так как его наблюдательный глаз не раз уже замечал на других, где что должно быть, и только галстук никак не желал завязываться, пока он не догадался, как это делается. Увидя себя всего в зеркале, он замер от радостного волнения, словно бы впервые себя увидел и узнал. Он долго любовался своим открытым высоким лбом, говорящем об недюжинном уме, и медленно поднял к волосам руку, чтобы погладить их, чтобы поласкать самого себя и этим проявить свою самовлюблённость.
Бодрым, новым шагом вышел он в кухню и стал перед Мусинькой, которая не могла сдержать радостного возгласа, увидев эту вылупившуюся из куколки бабочку. Она обнимала его, целовала, забывая в своём увлечении, что имеет на это меньшее право, чем когда бы то ни было. Потом отступила на шаг и, внимательно осмотрев его, убедилась в верности первого впечатления – молодой человек был чертовски хорош, статен и неотразим.








