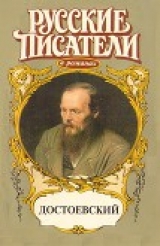
Текст книги "Игра. Достоевский"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Рассеянно слушая, неприязненно подумав ещё раз, что, должно быть, рисуется, называя «Дым» вещью единственно дельной, уж слишком загнул, перехватил через край, не забыл же о «Записках охотника», куда уж были своевременней и дельней, заслуга перед обществом несомненная, неужто нынче и повыше занёсся, нехорошо-с, он неторопливо курил, медленно выпуская дым через ноздри.
По какой-то причине, но невозможно было решить по какой, он припомнил довольно живую статью об Иване Шестом, на которую наткнулся как-то в «Отечественных записках», около года назад. Может быть, внезапное это воспоминание было вызвано довольно верной мыслью Тургенева о разных сторонах одного и того же предмета, как почему-то донеслось до него? Может быть, тут были и иные, глубинные, самые нужные связи, как знать? Да и зачем выяснять так дотошно? Но та же ли самая была бы это рисовка?
Но он твёрдо помнил, как в статье излагались две возможные версии несчастной жизни Ивана Антоновича, младенцем провозглашённого императором и младенцем же заточенного в Шлиссельбург. Одна версия опиралась на официальные документы и, разумеется, была выгодной официальным кругам и потому, скорей всего, лживой насквозь. Эти документы клятвенно заверяли, что Иван Антонович, в нежном возрасте насильственно отторгнутый от людей и проведший с лишком двадцать лет в заточении, вырос косноязычным и слабоумным и был идиотом в прямом, то есть в клиническом, смысле этого слова. Другая же версия была народной легендой, и в мнении народном несчастный страдалец, безвинно погубленный злыми людьми, был истинный праведник. Как ни берегли его, какие ни ставили караулы, гласила легенда, отрок лет в двенадцать узнал о своём высоком предназначении от одного из честных солдат, охранявших глухую темницу, много размышлял об этом предназначении, благодаря чему в нём развился светлый и сообразительный ум. Уединение избавило опального юношу от обычных людских недостатков, тем более от чёрных пороков. Эта редкая душевная чистота делала Ивана Антоновича вполне достойным короны, которую насильственно отняли у него и с меньшим правом носили другие. Мало кто видел его, но те, кто видел, рассказывали тайком, что молодой государь был красоты несказанной, ростом статен, высок, имел белокурые волосы, бороду русую и густую, черты лица правильные, а кожу белизны чрезвычайной.
Припомнив всё это, Фёдор Михайлович тотчас подумал о том, что народная-то молва, скорей всего, справедлива, что народ и сквозь тюремные стены каким-то особенным образом чует правду и красоту, как он сам не раз убеждался там, за стеной, и что всегда уж так непременно бывает, что тот, в ком для народа воплощается эта правда и красота, во мнении высшего, корыстного, развращённого слоя слывёт идиотом.
Самое же интересное в этой истории для него было то, что человек с младенческих лет оказался отделённым от современного, злополучного общества. Редкий, но замечательный случай: общества нет, то есть общества испорченного, извращённого, лживого, с идеалом только телесным, без нравственного закона в скудной душе. И вот человек по счастливой случайности ведать не ведал, какие извращённые отношения существуют обычно между людьми, все эти карьеры, все эти деньги, все эти самолюбьица и старческие рисовки.
И вот любопытно: что бы из этого вышло?
Не сходилось тут только одно: человек жил совершенно один, стало быть, в таком исключительном случае мог бы развиться он как человек?
Тургенев снисходительно усмехнулся:
– Сказано ведь: «Услышишь суд глупца...» Он всегда говорил правду, наш великий певец. Он сказал её и на этот раз. Всё это можно и должно переносить, а кто в силах, пусть презирает, но есть удары, которые бьют по самому сердцу...
Он было поморщился: можно ли выражаться так вот, в обыкновенной беседе, высокопарно и неестественно – «наш великий певец», но глаза Тургенева вдруг стали печальными.
– Вот человек сделал всё, что мог, работая уединённо, с любовью, честно, а честные души гадливо от него отворачиваются, честные лица при одном его имени загораются благородным негодованием. «Удались, ступай вон! – кричат ему юные голоса.– Ни ты нам не нужен, ни труд твой. Ты оскверняешь наше жилище, ты нас не знаешь и не понимаешь. Ты наш враг!» Что в таком положении делать этому человеку?..
Уловив как будто смысл этих слов, он с интересом спросил:
– Это о нигилистах вы?
Тургенев ответил не то безразлично, не то утомлённо:
– О нашем молодом поколении, и, конечно, тоже о них. Без нигилистов Россия сейчас не Россия.
Так вот о какой славе тоскует и вот какого внимания просит, уж не с ними ли заодно, принципы Девяносто третьего года и прочее?
И он с тайной иронией посоветовал:
– Ну, оправдывайтесь тогда перед ними.
Тургенев удивился, поднял брови и внимательно посмотрел на него, но ответил безотрадно и твёрдо:
– Не оправдываться надобно, даже не ожидать более справедливой оценки ни от кого. Надо трудиться. Вот и землепашцы проклинали некогда путешественника, принёсшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу несчастного бедняка. Они выбивали из к ним протянутых рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами. Теперь они питаются им – и даже не ведают имени своего благодетеля. Пускай! На что им его имя? Он и безымянный спасает от голода.
Какое смирение, какое желание пользы, принесённой своим негромким, неприметным трудом, он так и поверил в это всем сердцем, но подумал и поверил уже не совсем, высчитав и в этом признании, может быть, слабую, но всё-таки тень оскорблённого самолюбия, и Тургенев, как-то особенно выразительно седую голову опустивший на грудь, опять показался актёром, который перед ним разыгрывал нарочитую роль, и разыгрывал неискусно и плохо.
Это удивление и тут же явная, по слуху бившая безотрадность в ослабленном голосе и вместе с ней точно бы не идущая к месту, будто скрытая, но невольно проскочившая твёрдость укрепляли его подозрение. Даже по временам весёлый и простодушно-искренний взгляд представлялся не таким уж весёлым и простодушным, а что-то слишком уж проницательным, словно Тургенев после каждого слова осторожно прикидывал, верят ему или нет, чтобы на ходу ловко изменить всю игру.
Он попытался представить себе, так ли Тургенев смеётся, так ли смотрит, так ли даже сидит, когда остаётся один и не рассчитывает на стороннего зрителя ни жестов, ни интонаций, ни слов, и почему-то решил, что в таких случаях Тургенев съёживается, тускнеет, весь уходит в себя и, уже не отвлечённый ничем, но занятый тонкой игрой, не озабоченный впечатлением собеседника, тяжко страдает в безотрадном своём одиночестве, не может же не страдать, оттого так грустны, так задушевны из-под его пера выходят иные страницы, оттого и поэт.
Постой, может быть, оттого и страдает, оттого и безотраден и одинок, что истинный, глубокий поэт?
Он и сам бывал одинок и страдал, но мало сочувствовал такому страданию, в особенности если оно вызвано ещё и больным самолюбием, но сама мысль Тургенева очень близко задела его, и он оживился:
– А ведь это именно верно, это почти что и так. Вся суть, может быть, заключается в этом. Отказаться от имени, добровольно отречься, тут может таиться начало всего.
Тургенев, глядя в сторону, вниз, подхватил:
– Вот и станем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей. Что говорить, горька неправая укоризна в устах людей, которых искренне любишь, но перенести можно и это. «Бей меня, но выслушай!» – говорил афинский вождь спартанскому. «Бей меня – но будь здоров и сыт!» – должны говорить мы.
Он многое мог бы сказать против этого, ну хотя бы о том, что одной только сытости, одного физического здоровья слишком недостаточно нормальному человеку, что одни здоровье и сытость, приземляя, отрезая другое, неизбежно, неотвратимо губят его, но именно об этом спорить ему не хотелось.
В нём вспышками, словно потугами пробивалась другая идея, и всё его внимание поспешно бросилось на неё, потому что это была идея современного самолюбивого человека, который больше всего на свете страшится быть ординарным, со страстью отчаяния рвётся к оригинальности, к тому, чтобы как-нибудь отличиться, показаться лучше других, занять почтенное, почётное, занять самое первое место, и этим безвозвратно губит себя.
Кажется, именно современная, именно центральная идея нашего оскуделого времени?
И он увлёкся, но вскоре открыл, что эта идея отчасти уже воплотилась в Раскольникове.
Это было досадно, потому что уж очень некстати, и было жаль, что по этой причине на такой сильной идее нельзя построить новый роман, а расставаться с ней было жаль.
Тогда он решил, что отдаст её совсем другому герою, скажем, на вторых или на третьих ролях, но как-то глупо казалось отдавать такую идею на задворки и в тень, идея стоила большего, и выходило опять, что к новому роману он всё ещё совсем не готов. Что за морока?
Он вдруг рассердился, что понапрасну торчит битый час в этой вытянутой, неудобной до странности комнате и выслушивает всякий вздор о нигилистах, об афинских и спартанских вождях, которых всунули уже явно для красного слова, и ещё почему-то о сытости, особенно раздражавшей его.
Заспешив, сунув в пепельницу и сильным движением раздавив папиросу, он огляделся, отыскивая шляпу глазами, забыв, где она.
Поглаживая больное колено, не замечая его беспокойства, Тургенев рассуждал тревожно и мягко:
– А только в голове невольно зарождается мысль, уж не уродца ли высидел я. Вероятно, прав был Альфред де Виньи[33]33
Виньи Альфред де (1797—1863) – французский писатель-романтик. В драме «Чаттертон» и в поэме «Смерть волка» звучат мотивы одиночества личности в мире стяжательства.
[Закрыть], говоривший, что литература имеет то роковое свойство, что положение в ней никогда не бывает завоёванным окончательно, что с каждым произведением имя писателя разыгрывается вперемежку с самыми недостойными, что каждое новое произведение – это почти дебют и поэтому сделать карьеру в литературе нельзя.
Эти слова остановили его, и он перестал искать шляпу глазами. Да, в этих словах была большая и горькая правда, хотя он успел мимоходом подумать о том, что напрасно мелькнуло это имя француза, к чему оно тут, лучше бы проще высказать эту мысль и своими словами. Он тоже всё последнее время чувствовал себя новичком, и причину обнаружить было нетрудно: в голову, как назло, лезли только недостойные его пустяки, ни одной действительно крупной, значительной мысли, вот и ту, о самолюбии современного человека, который больше всего на свете страшится быть ординарным, пришлось отложить или всё-таки нет?
Собственно, он был уверен, что непременно напишет роман, неуверенность заключалась не в этом, чувство дебюта и прочее, но с каждым днём его всё больше томил и преследовал страх, что он исчерпан до дна, что его вершина уже позади, что теперь не наскрести ему сил и на половину того, чего он достиг, а хотелось писать всё совершеннее, всё крупней, и он всё время сбивался, спешил, хватался за всякую мысль и с нарастающим ужасом убеждался, что он совершенно бессилен и пуст.
Тургенев задумчиво вторил ему:
– Хотел было приняться опять за работу, зашевелилась литературная жилка, пошевелилась, пошевелилась да и пропала. Я ничего не читаю, ничего не делаю, ем, сплю, гуляю, почти здоров, одна катковка в колене, да это пока не болезнь, все болезни ещё впереди. Даже думаю очень мало. Как-то спокойнее так. Всего не передумаешь, да и нового не выдумаешь ничего. Уж стареть так стареть. Главное, надо в руках себя крепко держать, и тогда всё пойдёт как по маслу.
У него вертелся коварный вопрос, собственно, что же пойдёт как по маслу, если ни о чём и не думать, ни о чём не читать, но он подтвердил, опять решаясь остаться, чувствуя, что в эту минуту не может уйти:
– Разумеется, надо...
Тургенев поднялся, сделал несколько неспешных шагов, но тут же сморщился, захромал, доковылял до письменного стола, присел боком, помолчал, должно быть борясь с приступом боли, потеребил несколько каких-то листочков и с лёгкой грустью, но спокойно, размеренно проговорил:
– Вот придумал себе развлечение, забавляюсь писанием опереточных либретто, а мадам Виардо чудесно перекладывает их на музыку. Одна из опереток, озаглавленная «Слишком много жён», в которой мой приятель Поме играет роль паши, имела такой необыкновенный успех, что её давали пять раз и королева Пруссии пожелала увидеть её. А всё равно с каждым часом становится равнодушнее жить.
Невольно и сочувствие и злость охватили его. Это как же можно так раскисать? Как же не бороться, не биться, не рваться вперёд? Как можно забавляться какими-то оперетками и поощрять в себе равнодушие к жизни?
А Тургеневым, видимо, всё сильней овладевало отчаяние, и жалобный голос звучал всё беспомощней, всё слабей:
– Я давно уже видел, что жизнь бежит в эту сторону, и сделал набросок, указал, так сказать, пальцем, как я понял её, но этого, видимо, мало при нынешнем положении. Что ж, серьёзному художнику остаётся только уйти и предоставить другим действовать и работать, что я и сделаю, должен сделать, как видно.
У него сердце защемило от этих отчаянных слов, чужое страдание, исходящее от этого скорбно замкнувшегося, постаревшего в самом деле лица, от этого трагически сдержанного, спокойного, но безвольно угасавшего голоса, как электричество прилипало к нему, и страстно хотелось броситься к этому несчастному человеку, крепко стиснуть по-братски его большую ослабевшую руку и наговорить ему кучу каких-то нелепых, может быть, а всё равно нужных слов, но он уже задыхался от злости, которая всё разрасталась и жгла, превращаясь в презрение.
Тургенева он всегда представлял себе безмятежным счастливцем, которому жизнь при самом рождении дала всё, чего можно только желать от неё: тончайшую поэтичность, глубокий талант, прекрасное происхождение, ум, почти уникальную образованность, обеспеченность, наконец, а тот, обнаруживалось, погубил это всё своими руками, превратясь зачем-то в бесприютного, чужого скитальца, оторванного от почвы, как от дерева лист, и теперь вот гонит его по Европам его собственная неприкаянность и собственная тоска.
Как было не злиться, как было не выходить из себя? И он страдал за него, и злился, и выходил из себя, и в то же время с робкой радостью ощущал, что огромная идея, пригодная, может быть, для настоящего, большого романа, которая клюнулась на скамейке, когда он слушал и разглядывал тоже тоскующего, казалось, надломленного Ивана Александровича Гончарова, и которая неожиданно закрепилась здесь, в первую минуту встречи с Тургеневым, подставлявшим ему для поцелуя розоватую щёку, вдруг окрепла и разрослась, ещё как будто неясная, плохо понятная, но уже начинавшая принимать почти определённые, зримые формы, втягивая в себя каким-то образом и мысль о заточенном в крепости императоре, и мелькавшую идею современного самолюбивого человека, страстно жаждущего встать над другим хоть на ноготь, на волосок, и что-то ещё, что он, кажется, чувствовал, но не мог бы выразить словом.
Ему захотелось всему-всему сосредоточиться на этой огромной, самой важной идее, чтобы не потерять, не дай бог, чтобы поскорей рассмотреть, осмыслить и, натурально, сто раз проверить её, но это просившее слёз сострадание, эта зубы сжимавшая злость, его охватившие помимо желания, страшно мешали ему, и он сердился опять и опять, что пришёл зачем-то сюда выслушивать этот старчески-ребяческий вздор, тут же резонно напоминая себе, что без этого глупейшего вздора у него не было бы сейчас, может быть, никакой настоящей идеи, которая как будто годилась в настоящий роман, и всё равно раздражённо сердился на обмякшего, сиротливо умолкнувшего Тургенева, что тот разжалобил его этой своей душевной беспомощностью, но сердился скорее за то, что эта беспомощность обязывала его продолжать этот тягуче-бессмысленный, ненужный почти разговор, а не ломать голову над мелькнувшей идеей.
Он облизал пересохшие губы и раздражённо воскликнул:
– Но ведь вы же художник, Тургенев, вы же погибнете здесь без настоящей работы из-за этих проклятых немцев и королев! Посмотрите на ваше прошедшее, подумайте, что вас ждёт впереди!
Весь обмякнув, поникнув, с прядью мягких седых волос на опущенных книзу глазах, Тургенев словно бы машинально пытался отбросить назад эту мешавшую прядь, но волосы падали снова, всё больше растрёпываясь, мешая смотреть.
Он видел больше всего по этому машинальному жесту, что Тургенев внутренне в самом деле изломан, избит этим всеобщим непониманием, которое со всех сторон, как стая голодных собак, обрушилось на него, вдобавок издерган своим одиночеством, обессилен, а мозг-то, мозг-то продолжает работать, работать отчётливо и широко, и потому так спокойно, так внятно звучит изнемогающий голос:
– Да, это верно, вся жизнь почти позади, но я не могу вам сказать, с каким, собственно, ощущением гляжу я в прошедшее. Мне своё прошедшее не то что бы жаль, не то досадно, что оно вот прошло, прокатилось, исчезнув почти без следа, и не думаю я, что мог бы лучше прожить, если бы оно повторилось. И вперёд не страшно смотреть. Заглядывая вперёд, я сознаю совершение каких-то вечных, неизменных, но глухих и немых немилосердных законов всеобщего бытия, всевластных надо мной и над всеми, и в этой всеобщности бытия маленький писк моего беспомощного сознания так же слабо звучит, как если бы я стал лепетать своё «я, я, я» на берегу океана. Муха всё жужжит, а через мгновение жужжать перестанет, и зажужжит та же муха, только с другим носом, и так вот во веки веков. Брызги и пена реки времён...
Эти бессильные рассуждения о вечных и холодных законах, лишённые веры, лишённые жара души, окончательно разозлили его, и он возмутился:
– Да вы что же живым-то в могилу? Как же? Люди жить должны, долго жить! У меня вот, знаете ли, порой-таки мелькает глупенькая, грешная мысль: ну что будет с Россией, коли мы-то, последние могикане, помрём, если вот забудут об нас?
Тургенев, не взглянув на него, усмехнулся:
– Непременно забудут, а Россия, хорошо ли, плохо ли, обойдётся без нас.
Он засмеялся коротко, сухо и властно, настойчиво продолжал:
– Ну разумеется, и я при этой мысли сейчас усмехнусь про себя, а всё-таки, всё-таки вы о России думайте чаще, Тургенев, нам о ней, о ней чаще надобно думать, и тогда будет в душе это чувство, что мы должны, мы обязаны долго жить для неё и для неё же что-нибудь делать, неустанно делать что-то насущное. А вы ли не деятель, господи, вы-то!
Тургенев выпрямился, справился наконец с непокорными волосами и громко сказал, словно ожил:
– Это очень приятно, Фёдор Михайлыч, что вы обо мне такого лестного мнения, только ведь всё едино прожужжим мы, сколько придётся, а потом жужжать перестанем. А в ожидании этого часа буду, конечно, понемногу писать, как придётся, без этого, уж точно, нельзя. Будущей весной как раз исполняется четверть века, что я печатаюсь. Правда, стихи, которыми я дебютировал, были уж очень посредственны, но так или иначе это повод, чтобы рассказать о своих воспоминаниях, вот и стану собирать их, что ж ещё делать. Да и ещё есть кое-что. Вот сколько лет всё мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод «Дон-Кихота»...
Он чуть не вскрикнул от внезапного имени. Всё предыдущее, эти расслабленные охи и вздохи, рисовку и стенания старичка, он почти тотчас забыл. Мысли так и хлынули в другую, в противоположную, в нужную сторону, перебив сразу всё, что думалось перед тем. Ведь да, именно Дон-Кихот оказался в эту минуту ему особенно, до чрезвычайности нужен. Он и жизни своей больше без Дон-Кихота не представлял. Тут проглядывала какая-то важная, но пока скрытая, тайная связь, которую непременно, немедленно необходимо было до последней черты, до последнего волоска разгадать, чтобы все и всё наконец стало ясно, и он без колебаний тотчас поверил, что теперь от скорейшей и вернейшей разгадки этой страшной таинственной тайны, которая вдруг завязалась между именем этого странного, любопытного, необычного испанского странника и его смутной настоящей идеей, несколько раз в этот день беспокойно и смутно дразнившей его, именно в этот неудачный, запутанный, потерянный день, теперь зависит решительно всё: и судьба, и работа, и целая жизнь.
И он опять заторопился уйти, чтобы где-нибудь присесть одному и в тишине и в покое, без этих тургеневских стенаний и млений, добиться, непременно добиться самой энергичной разгадки, которая, он это знал, стремительно двинет вперёд. Он тотчас увидел, что искомая шляпа лежит под рукой, на том же круглом низеньком столике, возле которого он примостился, рядом с чугунной полураскрытой ладонью.
Уже торопливо хватая её, он вдруг припомнил каким-то краем сознания, что явился сюда за чем-то другим, чего не сделал и о чём абсолютно забыл, к тому же Тургенев о Дон-Кихоте не сказал ещё ни одного понятного слова и может, хотя бы случайно, что-то сказать, от чего сразу сама разгорится его прихотливая мысль, которая легче всего воспламенялась именно от чужих, внезапных и угловатых идей.
Он провёл обшлагом по полям, словно и взял лишь затем, чтобы почистить её, и беспокойно сунул шляпу на место.
То слово, слово сочувствия, было теперь у него. Он весь был готов. Слово высказывалось задушевно и искренно. Он сообразил лишь в последний момент, что такое слово окончательно разжалобит, разнежит Тургенева и тот, опять с удовольствием окунувшись в самолюбивую жалость к себе, свернёт на другую дорогу, а Дон-Кихот останется сиротой в стороне, но она, эта мысль о рыцаре Печального Образа, случайно подсказанная о своём будущем размышлявшим Тургеневым, тревожно томила воспрявшую душу, и он, смущённо почесав щёку мизинцем, сбиваясь и останавливаясь, забормотал вовсе не то, о чём было начал и хотел говорить:
– Да, вам бы... вот «Дон-Кихот»... и пора... Великая книга... таких вот нынче не пишут...
Тургенев благодарно кивнул:
– Вы правы, Фёдор Михайлыч, а мы, к сожалению, не имеем хорошего перевода, большая часть из нас сохранила о нём довольно неопределённые воспоминания. Под словом «донкихот» мы часто разумеем просто шута...
Ага, шута, просто шута, удивительно хорошо!
И с жадностью слушал:
– Слово «донкихотство» равносильно у нас слову «нелепость». Между тем...
Вот именно, что же, что там «между тем»?
– ...в донкихотстве нам, именно русским, следует видеть высокое начало самопожертвования...
То есть без самолюбия, без эгоизма, без стариковских стенаний, то есть нравственно здоровый человеческий тип?
– ...только схваченное с комической стороны.
Вот именно, с комической и всё-таки несколько шутовской, но для какой надобности, чёрт возьми, а?
– Хороший перевод «Дон-Кихота» был бы истинной заслугой переводчика перед публикой.
Господи, опять, опять о себе!
– Всеобщая благодарность ждёт того, кто передаст нам это единственное творение во всей его красоте.
Он язвительно предложил:
– Вот и возьмитесь, это вам по плечу.
Тургенев как-то странно, коротко взглянул на него и смущённо попятился:
– Впрочем, что ж это я... В одном провалился, так провалюсь и в другом. Ещё вопрос, достанет ли сил...
Такое внезапное малодушие показалось ему непристойным, но он не очень-то и поверил ему, угадав, что Тургенев просто чересчур уж увлёкся в откровенном восторге, а потом спохватился, что этот восторг звучит самонадеянно, быть может, даже смешно, а тут ещё эта язвительность в его суховатых словах.
О Дон-Кихоте же надо, ведь это всё пустяки и ветошь души, а он снова наталкивался на это ложное самоуничижение из кокетства, из позы, на эту продуманную неискренность!
И что удивительно: самоуничижение и было его идеалом, но самоуничижение задушевное, добровольное, как порыв, как неодолимая потребность созревшей, нравственно прозревшей души, а в эту минуту у смутившегося Тургенева оно могло быть лишь результатом ловких логических размышлений, условностей и приличий, что было оскорбительно и противно ему, но он понимал, что в этот момент в Тургеневе одна иллюзия столкнулась с другой, что неудача с последним романом по контрасту рожала новую, но ещё слабую веру в себя, которая уже прельщала сладкой надеждой после всеобщих ругательств снискать в качестве переводчика всеобщую благодарность и не дать-таки в обиду себя.
Он вдруг припомнил, что подобный мотив заключается в самом «Дон-Кихоте». Проницательность Сервантеса поразила его, и он, почти забыв о Тургеневе, принялся взбудораженно объяснять:
– Вы не пожалеете, взявшись за труд. Вы на каждой странице найдёте глубочайшие и таинственнейшие стороны человеческого духа, которые так тонко подметил этот великий сердцевед и великий поэт. Я уж не говорю о самом Дон-Кихоте, об этом самом великодушном из рыцарей, об этом душой самом простом, одном из самых великих сердцем людей...
Он с радостью подумал о том, что и в наше бы время, теперь даже особенно, непременно, быть может, нужен именно вот такой человек, великий сердцем, простой и чистый душой, хватит нам этих жаждущих оригинальности пошляков, но представить не мог, что бы происходило с ним в нашей жизни, какие тяжкие муки тот должен был бы принять, какие бы камни полетели в него отовсюду, а он, сцепив пальцы, вдруг сказал с восторженной завистью:
– Такие книги посылаются человечеству по одной на несколько сотен, если не тысяч лет!
Почему не он написал эту великую книгу? Почему не в его голове возник и разросся этот всечеловеческий замысел? Почему, ну вот скажите теперь, почему? Разве нет в нём подобной творческой силы? Разве смутился бы он взяться даже за нескончаемый труд?
Нет, его силы были огромны, он чувствовал это, он сознавал, у него не было ни малейших сомнений. Этих сил хватило бы даже на «Дон-Кихота», а он всё метался, как загнанный заяц с усами, всё спешил, где достать кусок хлеба, всё путался в позорном безденежье и неоплатных долгах, теряя бесценное время, которому нет возврата назад, транжиря бесценные силы, которые иссякают с годами.
Он вдруг возненавидел Тургенева неистовой ненавистью. Сидит и ноет, дядя, изволите видеть, ограбил, подлая критика в грязь сбивает и топчет свиными ногами, а сам обеспечен по горло, не ведает ничего обязательно, воздвигает заграничные виллы, свободен как птица, и мог бы писать, мог бы бесконечно писать огромные книги, на десятилетия, если не на века.
Если бы вот ему сию минуту эту свободу и обеспеченность, пусть даже с грабителем дядей в придачу, чёрт с ним, он приютил бы и дядю. Что бы он смог написать!
Он, разумеется, чувствовал, что не совсем справедлив и что эта зависть не очень красива, но продолжал сердито, если даже не грубо:
– Во всём мире нет глубже, нет сильнее этого сочинения. Пока это последнее и величайшее слово человеческой мысли. Вот если кончилась бы земля и если где-нибудь там спросили последних людей: «Поняли ли вы вашу жизнь на земле, что вы об ней заключили?» – я голову кладу на отрез, что человек мог бы молча подать «Дон-Кихота»: «Вот моё заключение о жизни земной. Можете ли судить меня за него?»
Ему нравилась эта сильная, эта гордая мысль, но тут же ему показалось, что он сильно испортил её неуместным тоном своим, потому неуместным, что этим тоном он точно намекал на себя, точно говорил о себе, о своих написанных или скорей о своих ненаписанных, ненаписавшихся книгах, нельзя же, нельзя же о таких важнейших и светлейших предметах говорить таким тоном, и по глазам Тургенева, блеснувшим неожиданным, подозрительным блеском, можно было твёрдо предполагать, что Тургенев именно уловил этот бессовестный тон, истолковав его именно в этом уничижительном смысле.
Это было тем хуже, что он действительно говорил почти о себе. Воображение уже вспыхнуло в нём, и теперь Дон-Кихот всё теснее сплетался с нынешним, тоже комическим, днём, всё ближе подходя к его сегодняшним обрывочным и нечаянным мыслям, а Тургенев, ничего не знавший, конечно, об этом, мог принять его за обыкновенного хвастуна, за бахвала. Вот так поговорили, любо-дорого посмотреть!
Он стеснительно отвёл глаза в сторону и, неожиданно для себя, вставил грубее, чем прежде:
– Вы прекрасно сделаете, если переведёте его, именно вы, Тургенев, именно вы, я это предчувствую.
Ему стало неловко, что путался всё и сбивался, и смущало, что никак не найдёт простую, задушевную интонацию, как бы пристало беседовать двум писателям и старым знакомым. Происходило же это всё оттого, он угадывал, что он чувствовал себя у Тургенева неестественно, неуместно, словно пришёл не к тому, а он только в искренности бывал задушевен и прост, именно со своими людьми, сердечными, близкими, но именно искренность в присутствии этого нелюбимого человека представлялась ему невозможной. И не только с ним, и не только в эту минуту. Даже если бы он захотел рассказать самому близкому, самому задушевному другу, которого не было у него, какие чувства теснили его, какие мысли тревожно просились наружу и что невольно примешивалось к Дон-Кихоту другого, внезапного, растревоженного, но предвиденного когда-то в мечтах, он всё равно ничего рассказать бы не смог, и он говорил, задыхаясь, неприветливо, резко выговаривая слова:
– Мне хотелось давно, чтобы с этим великим произведением знакомилось юношество. Я не подозреваю, чему теперь учат в классах литературы, но обстоятельное знакомство с этой величайшей и самой грустной из книг возвысило бы душу юноши великими мыслями, великие вопросы заронило в жаждущее истины юное сердце, отвлекло бы от поклонения вечно глупому идолу середины, то есть довольному всем самомнению и пошлейшей благоразумности. В этой книге скрыта роковая и глубочайшая тайна о человеке и человечестве. Она говорит нам, что величайшая красота человека, величайшая чистота, целомудрие, простодушие, мужество, незлобивость, ум величайший нередко обращаются ни во что, проходят без пользы для человечества и даже обращаются на посмеяние, и происходит это единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми ведь очень часто бывает награждён человек, не хватает дара направить всё это могущество на правдивый, а не на фантастический путь, во благо человечества, а не на своё только легковесное и от этого пошлейшее благо.
Он строго взглянул на Тургенева, сидевшего неподвижно и молча, будто его имея в виду, хотя в эту минуту не думал о нём и с некоторым недоумением ощущал отчасти даже нелепость его присутствия здесь, в этой нескладной, удлинённой, запущенной комнате.
Но о ком же он всё-таки говорил? Чья судьба навела его вдруг на эти грозные и горькие мысли? Судьба ли одного Дон-Кихота обжигала затосковавшее сердце своим безысходным трагизмом? Не примешалось ли здесь хоть бы капельку и своей смятенной души? И он сам-то, это ещё вопрос, совладал ли со своими дарами?








