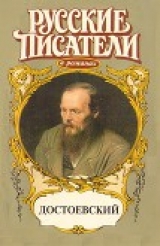
Текст книги "Игра. Достоевский"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Иван Александрович уставился на эти ждущие, молящие пальцы, точно готовые вцепиться в него, и удивлённо сказал:
– Ну, что это вы, как понимаю? Не понимаю никак, да и только!
Не веря ему, не понимая, как можно об этом беспрестанно не думать, не мучиться этим, он возмущённо воскликнул, сжимая кулак:
– Это всё зря, вы зря сейчас говорите, не хотите ответить мне, может быть, потому, что не доверяете мне, не любите, то есть, я заранее соглашусь, хотите, но не можете меня полюбить! Как это так, Гончаров не может понять! Что вы, что вы, голубчик Иван Александрыч! Гончаров не пустяк, Гончарова со счета не скинешь! Гончаров всё понимает, да, верно, держит всё про себя!
Круглая щека Ивана Александровича вдруг покрылась детским румянцем, а глаза, беспомощно заморгав, отвернулись в противоположную сторону от него, и вялый голос слабо, еле заметно, но задрожал:
– Это, Фёдор Михайлович, совестно мне, я этого не заслужил, такая честь...
Его обрадовал страшно этот внезапный, удивительно детский румянец. Именно этот честный румянец так нужен, он тотчас решил, так был важен ему. Он заволновался от признательности, от деликатности и быстро сказал проникновенным, но возбуждённым, возвышенным голосом:
– Да, да, вы искренно думаете, и тем лучше, тем лучше, поверьте! О вас-то запомнят всегда, когда имена многих, многих иных навсегда изотрутся из памяти! Не притворяйтесь, какой из вас мотылёк!
Иван Александрович отодвинулся от него и вытянул ногу, точно надо было подвинуться, ногу вот, мол, отсидел, но щека его разгоралась, глаза всё смотрели куда-то и голос всё заметней дрожал:
– Ну, вот вы как, а есть люди, и много таких, которые меня называют пустым чуть не в глаза, творит, мол, бог весть из чего, чего я будто и сам не способен понять, а то ещё величают актёром и, довольные очень, ум-то, глядите, острый какой, потешаются своей выдумке, не думая, не предполагая того, что от таких выдумок другим ведь может быть больно и скверно жить.
Опустив свою руку, стараясь не глядеть на него, чтобы не смутить ещё больше, но всё-таки взглядывая быстро и весело, он радостно стал извиняться:
– Если вы и актёр, то прекрасный актёр, я никогда так не думал об вас, я всегда видел и знал, что вы никому не поверяете своих мыслей, своих самых главных идей, кроме романов своих, потому что дешёвой популярности и газетных интриг вам никак не пристало искать, но это же так и должно быть, и я вас прошу...
Не слушая, склонив голову, усиленно пряча какую-то жалкую, расслабленную улыбку, Иван Александрович странно, болезненно сетовал:
– Пусть бы со мной перестали хитрить, пусть бы перестали подозревать нечестное и кривое...
Кусая губы, желая понять и не понимая, что же случилось, чем же Иван Александрович так больно задет, он подхватил горячо:
– Нет, во всём вы такой, каким создала вас природа, а природа не лжёт, природа лгать не умеет!
Иван Александрович, неосторожно блеснув беспомощными глазами, как-то расслабленно мямлил, словно не веря себе:
– Ну, вот вы и угадали меня, но, может быть, вы просто-напросто хитрый, может быть, просто льстите из видов, не получается там у вас что-нибудь, да и хотите выудить половчей из меня?
Ему становилось досадно, все проволочки раздражали его, а ему не терпелось узнать, что же думает Гончаров о сущности современного человека, но в то же время было страшно жалко его, на кого-то за что-то обидно, и он принялся доказывать с жаром:
– Нет же, голубчик Иван Александрыч! Что может не получаться? Нечему не получаться, ведь совсем не пишу! Обещал Каткову роман, да и нет ничего, не то что строки, а прямо совсем-совсем ничего, ни полмысли, даже проблеска, даже намёка на стоящую идею, на тип!
Помолчав, пошевеливая губами, должно быть что-то обдумав, Иван Александрович капризно, надломленно возразил:
– Вот-вот, я вам полмысли, полпонимания современного человека, пол-идеи или полтипа, а вы Каткову целый роман? Были, были уже с таким подходцем черкесы, пригоршнями брали, не один роман, даже не два, целых три! И не хитрый вы после этого человек?
Невозможное, фантастическое творилось у него на глазах. Не то это был в самом деле нелепый, бессмысленный страх, не то уж слишком искусная, слишком озорная игра?
Не зная, что думать, ощущая, как нервная боль нарастает в груди, потирая ладонью, он устало и возмущённо сказал:
– Из чужих мыслей романа не сделаешь. Самая верная, самая разлиберальная, распередовая – всё равно не годится, если собственной жизнью не выжита. Я не роман, я просто ищу. И знаете ли, что я ищу? Хочу найти и увидеть цельного, единого человека!
Иван Александрович покосился и неуверенно протянул:
– Эва, хватили куда! Да где ж его взять! Цельного-то не видно нигде!
Он задвигался на проклятой скамейке и с угрюмой радостью, облегчённо и зло разразился потоком наседавших, перебивавшихся слов:
– Именно, именно, в кого ни гляжу, везде цепляется крайность за крайность, как в мёртвом, отчаянном сне. Не слыхано, не видано, было ли это когда, что человек изо всех сил рвётся сразу и к свету, и к тьме, что свет распространяют насилием, деспотизмом и тьмой, что в душе каким-то немыслимым парадоксом умещалась бы одинаково и жгучая жажда добра, и неистощимая способность к самому последнему, к самому грязному, к самому изощрённому злу, и даже во имя добра же! Что это, болезнь нашего века или таков всегда человек? Могут ли остаться в нём только свет и добро или вечно обречён он крушить сам себя в ожесточённой, нелепой схватке с собой? Вот нынче все, и ведь уже очень давно, спрашивают и хотят всё понять, почему все мы не как братья с братьями? И почему сам человек не способен быть себе братом?
Опустив голову с полуприкрытыми больными глазами, вытянув ноги, перебирая пальцами на большом животе, Иван Александрович рассудил, будто давно обдумал всё это и давно разрешил:
– А это цели высокой нет у людей. Ну, зачем все мы живём? Чтобы растить чины, капиталы? Положим, что без этого и нельзя, время такое, без чина тебя заклюют, а без денег, сами знаете, останешься без штанов, чего доброго, ноги протянешь, но ведь скучно-то, унизительно как! Ну, можно ли испытать настоящую радость хотя бы и от ста тысяч рублей? А о тысячах, о сотнях что говорить? Нечего о них говорить. Ну, есть вот они у меня, ну, съел я бифштекс, а дальше-то что? Ведь и любая свинья в хлеву тоже жёлуди жрёт, как и мы, кому не обидно! И вот один чинов больших добивается, другой набивает карман миллионами, а как-то холодно всё, со скукой, чуть не с презрением, чего-то им надо ещё. А третьи, видя, как всё это мерзко, вовсе не делают ничего. Среди этих третьих опять есть одни и другие. Первые просто так, дилетантствуют, одного, другого попробуют, ничем не займутся со страстью, с истинным жаром души, а вторые уж так норовят, чтобы одним махом перевернуть и переделать весь мир, а так, по разным там мелочам, уж ничего не касаться. Один не то лентяй, не то неудачник, другой не то бунтарь, не то негодяй. Где уж им друг с другом братьями быть!
Вот оно, тут во многом, во многом была его мысль, со многим он готов был хоть сейчас согласиться, но всё это было совершенно не то, ни росинки, и он продолжал со страстью выпытывать:
– Но в себе-то, в себе?
Перебирая пухлые пальцы, потирая, точно лаская малых детей, Иван Александрович ответил небрежно, как тысячу раз известную истину:
– Откуда в себе-то, а, братьями быть? Ведь нынче вся жизнь человека – это стремление к идеалу, к нравственной норме, навечно высказанной Христом: будь добр, не солги, не укради и так далее, и падение на самое дно этой грязи, которая именуется нашей прелестной действительностью, в которой правды нет ни на грош, это желание верить и сомнение в том, во что надо верить. Отнимите, отбросьте что-то одно, и жизни не станет ни в чём.
И эта чёрная мысль не раз приходила к нему, но она была ему ненавистна, и он возмущённо воскликнул, не желая принимать её за неизменный закон бытия:
– Но должен же, должен цельным быть человек, только чистая вера, только не укради и не солги, чтобы добрая душа, великое сердце, незлобивость, и всё бы, всё бы простил, поправ эгоизм!
Иван Александрович тепло улыбнулся, прижав к ладони ладонь, но продолжал с необидной, мягкой иронией спорить:
– Счастливый вы, я смотрю, человек, если можете так думать и верить. Мне вот тоже хочется думать и верить, что наше зло не окончательно нас одолело, что настанут лучшие времена. Но, позвольте, как же вы хотите, чтобы человек попрал эгоизм? Ведь это был бы какой-то ненормальный, больной человек, ведь этак в нём идеал вырабатывается в прямое уродство!
Он стремительно взглянул на него, перебив:
– С эгоизмом тоже больной, ещё больше.
Поймав его обжигающий взгляд, Иван Александрович опустил ниже голову, но упрямо твердил:
– Положим, что так, но вы всё-таки требуете от него невозможного. Без эгоизма, в его натуральных, в его разумных то есть пределах, нет никаких умных дел, никаких подвигов мысли и сердца, никаких прекрасных движений души, деятельности нет никакой, больше того, нет самой жизни. Ведь это крепостное право было у нас, которое диктовало: ты работал на нас, отринув свой эгоизм, а мы займёмся высокими мыслями, да без палки и не росло ничего, да и с палкой-то росло кое-как, а высокие мысли, кажется, бывали только в сне. Нет, что ни говорите, жизнь без эгоизма – это абстракт, она и длиться не может, зачем же ей тогда длиться, как не может же человек делать ближних счастливыми, не испытав, хотя бы по временам, того, другого* и третьего счастья, а иногда и всех трёх, то есть, согласитесь, удовлетворения своего эгоизма, иначе он и чужому счастью не знал бы цены и не мог бы, не был бы способен что-нибудь дать другим.
Признавая, что это было выстроено логично, не в состоянии принять эту логику, как свою, он вскипел и ответил язвительно:
– Право, простительно помечтать, мечтал же Поприщин об испанских делах!
Вдруг опустившись, увянув, Иван Александрович заметил устало, с застывшим лицом, с остановившимися глазами, устремлёнными прямо перед собой, неизвестно на что:
– Я и говорю, что счастливый вы человек. Мало того что сами мечтаете, ещё мечтаете, что по вашему примеру и остальные станут мечтать. А я вот этого не могу, и нет от моей немочи средств. Думать таким образом не могу, не то что мечтать. А всё отчего? Да оттого, поймите меня, что за мной здесь следят, куда ни поеду, где ни остановлюсь, посылают по следу этаких хватов, что могут зарезать за последний пятак. Морально, чуть не физически душат меня, лишь бы, понимаете, над тем хохотать, как мне больно, чтобы только никогда не играл я ни пером, ни фантазией в свою писательскую игру, а ведь это, вы испытали, я знаю, это не просто игра, не простая игра, потому что писать – это ведь значит верить в добро. И не в кого мне стало поверить, минуты отчаяния невыразимы, я впадаю в апатию, сижу и хожу, как полумёртвый, и не делаю ничего. Мне невыносимо, мне скучно и гадко, и не делаю ничего. Да, невыносимо и гадко. Как тут сесть, подобно музыканту, который садится за фортепьяно, и легко, свободно играть, что я думаю, что у меня на душе: из-под пера поневоле выйдет скука и гадость. Скромнее меня нет, может быть, человека, не смейтесь, это не гордыня во мне говорит. Я совсем забился от всех. Я ничего не ищу, ничего не прошу. Мне бы только свободно дышать, чтобы мне дали покой, не делали мне, если возможно, зла и вреда, которого так много наделано, что недостанет ни силы, ни умения и ни охоты, конечно, исправить его, это уж пусть, за прошлое я им прощаю. Вот если бы поставить три ставки, пусть проиграть, но рассеять апатию и засесть за перо!
В нём опять забились отчаяние и глухая тоска.
Солнце передвинулось и повалило за полдень. Оно подобралось к самым ногам и лежало ослепительной лужей. Тени повернулись в сторону от него и стали длиннее.
Он просидел драгоценное время и ровным счётом ничего не узнал из того, что хотел и что нужно было непременно узнать. Только зарождалась какая-то смутная полумысль, но в эту минуту и она была бесполезна ему. Он должен был выиграть и наконец написать о Белинском!
Он вскочил, волнуясь, одёргивая сюртук, и громко сказал:
– В самом деле: пора!
Иван Александрович подал мягкую ослабевшую руку:
– Вы идите, а я ещё посижу.
Он поклонился ему с облегчением, но и с досадой, тут же стыдясь своего облегчения. Чувство сострадания в нём возмутилось. Этому усталому, болезненно впечатлительному человеку, художнику, мудрецу надо было что-то сказать на прощание, одним словом поддержать и ободрить его, но чем поддержать, каким таким словом ободрить? Это было невыносимое чувство стыда и тоски, но он уже быстро шёл просторной, прогретой солнцем аллеей и вернуться, ободрить, если бы даже нашлось подходящее, задушевное слово, было уже невозможно. Неловкая пустая улыбка застыла у него на лице. Фёдор Михайлович шагал неуверенно, ощущая тяжесть в ногах.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В молчании старых каштанов были сосредоточенность и ленивый покой. Они будто неторопливо размышляли о чём-то своём, разморённые полуденным зноем.
Впереди по гранитным ступеням поднимался высокий плотный мужчина, одетый в чёрное, похожий на строгого протестантского пастора.
Фёдор Михайлович, понукая себя, старался прибавить хоть чуточку шагу, чтобы догнать его, страшно боясь опоздать, внутри его уже всё дрожало, но разговор с Гончаровым в самом деле несколько успокоил его, и он, как никогда, твёрдо верил в удачу.
Не догнав самоуверенного бодрого пастора, замешкавшись на верхней ступени, он оглянулся, нерешительно и смущённо.
Иван Александрович, одинокий, печальный, склонив голову в белой шляпе, тонкой бамбуковой тростью что-то чертил на красноватом песке.
Фёдор Михайлович отвернулся с сожалением, но сердито и сильно толкнул стеклянную дверь.
Она скользнула бесшумно и равнодушно впустила его.
Аккуратный швейцар со сморщенным беззубым лицом принял шляпу и подал ему номерок.
Он встал перед зеркалом и поспешно пригладил ладонью пушистые тонкие волосы. Из тёмных впадин угрюмо и неподвижно глядели глаза. Плоский рот был крепко, решительно сжат.
Сначала он только прошёлся по переполненным залам, пытливо оглядывая столы.
Всё кругом было аккуратно, как старый швейцар, прибрано, мыто по три раза на дню и всё-таки грязно. На всех предметах и стенах был какой-то тайный налёт, паркет вытерт до лысин сотнями ног, серые обои лоснились в рост человека, там, где их касались тела, зелёное сукно было потёрто и выложено потоком монет.
Во всех залах уже набралась обычная публика. Пришедшие первыми прочно укрепились на захваченных стульях. Опоздавшие неплотным кольцом окружали столы. Одинаково сутулились разные спины в женских платьях и в мужских сюртуках, одинаково клонились головы в пышных причёсках или совсем без волос, одинаково дрожали молодые – гладкие и старые – со вздутыми венами руки, все лица одинаково стёрлись в одно нетерпеливое хищное выражение.
Он подумал, что через минуту станет таким же, и выбрал стол в глубине, где шла большая игра: этот стол обступили плотнее и гуще.
Он было замялся стеснительно, отыскивая хотя бы узкую щель между застывшими в азарте людьми, но вдруг властно шагнул, и они сами расступились, раздались перед ним.
Скрестив руки, он твёрдо, уверенно ждал.
Невысокий чернявый крупье с влажным нахмуренным лбом сухо, устало, невыразительно возгласил:
– Делайте ставки, мадам и мсье!
Тотчас рука его напряглась, потянулась в карман, но было рано, пока ещё было нельзя, и Фёдор Михайлович ещё крепче вцепился пальцами в плечи, внутренне весь подобравшись, угрюмо твердя, что его время ещё не настало.
Закусив губы, нахмурясь, утратив все ощущения, он мгновенно схватывал и взвешивал всё.
Вокруг него стыла и корчилась обнажённая алчность, со всех сторон неумело, решительно или робко протискивались случайные ставки, но по-настоящему играли три седеньких старичка и лохматый француз в открытом искристом модном жилете, с красной ленточкой Почётного легиона в петлице строгого синего полувоенного сюртука, а также один англичанин с бледным здоровым лицом и почтенными седыми висками, которого он окрестил язвительно лордом.
Кроме внешности внушительно-строгой, этот англичанин не отличался ничем, но одного взгляда было довольно, чтобы понять, что именно лорд играл за этим столом какую-то особенную, соблазнительную и всех распалявшую роль, вероятно, холодной медлительностью и, уж конечно, невероятным везением, что нетрудно было определить по нескольким свёрткам и ровным оклеенным пачкам банкнот, которые так и сгрудились в явном излишестве перед ним.
Ни малейшей чертой не изменившись в лице, почти не взглянув, лорд невозмутимо двинул на красное столбик монет, которые покачнулись и рассыпались с мягким стуком, маслянисто блестя, и, вовсе не глядя на них, брезгливо вытер сухие холёные руки белоснежным платком.
Фёдор Михайлович было рванулся тотчас поставить на красную, видя, что лорду крупно везло и что выигрыш был бы большой, но тут же властно одёрнул себя. Он убедился давно, что каждый выигрыш сам по себе абсолютно случаен и что поймать этот случай возможно лишь долгим, мучительным, но упорным терпением, и продолжал неподвижно стоять с окаменевшим лицом, на котором жили, сосредоточенно, хищно, только глаза.
Он с трудом, не делая ставки, дождался сухого негромкого вскрика крупье:
– Ставка сделана! Нет игры!
Колесо завертелось бесшумно, шарик помчался, слабо стуча. Все глаза вонзились в одну эту светлую, часто мелькавшую точку. Он увидел, безразличный к исходу этого круга, что ни для кого здесь больше не было нравственных норм и запретов, что жажда денег, сотен и тысяч, опьянила, опустошив, одинаково всех и что они могли бы в эту минуту позволить себе решительно всё.
Противно и гадко стало ему, но он хорошо понимал, что иные чувства здесь невозможны, и больше не позволял себе думать о нравственности или безнравственности того, что сжигало его и других.
Он должен был выиграть, несмотря ни на что, и от этого было противно до ужаса, порывалось бежать без оглядки, а суженные глаза не отрывались от юркого шарика, точно толкая его.
Выигрыш выпал на красное.
Невозмутимый крупье одним привычным ловким движением двинул к лорду новый столбик монет, и тот принял их, не изменившись в лице.
Костяная лопатка неторопливо собрала проигравшие ставки, снова очистив поле для битвы страстей, и сухой голос негромко, но ясно сказал:
– Делайте ставки, мадам и мсье!
Приподнимая монету, тут же опуская их одну за другой, одним движением пройдясь от низа до самого верха, так что они перелились упруго и мягко, лорд снова равнодушно поставил на красное, и тут же лысенький старичок с толстеньким розовым личиком, с завистью проводив этот столбик монет, каким-то мышиным движением поставил на красное несколько гульденов, рискуя ими, может быть, для того, чтобы выиграть себе на обед.
Одна ставка лорда кормила бы десяток таких старичков, которые жили рулеткой, всю неделю, если не две, и они завидовали этому богачу, но завидовали не столько деньгам, хотя бы большим, сколько привалившей удаче. Всю свою долгую однообразную жизнь они угрюмо, с фанатической верой ждали её, не отходя от стола, не в состоянии крупно рискнуть, расчётливо пробуя мелкие ставки, и остальные два старичка тоже бросили по три монетки на красное.
Француз важно задумался и пропустил.
Какой-то толстяк с потным лицом и окладистой бородой дрожащими красными пальцами сунул свою ставку на чёрное.
Но – вышел ноль.
Лопатка неторопливо очистила поле.
Фёдор Михайлович стоял неподвижно, часто вздрагивая всем напрягшимся телом, словно от сильного холода, с неудержимой страстью и зоркостью следя за игрой. Все посторонние мысли вылетели из головы. Он больше не помнил ни статей, ни романов. Ему больше не было жаль одинокого, усталого Гончарова. Даже светлое имя Белинского стёрлось из памяти. Он больше не собирался кричать, что гниём, что не хлебом единым жив человек, и веры не осталось в нём самом ни во что, кроме, наверное, измученной веры в удачу.
Напряжение всё нарастало. Каждую минуту он готов был решиться на ставку, но выигрыши по-прежнему, по его мнению, падали хаотично, и нельзя было хоть за что-нибудь зацепиться, чтобы хоть чем-нибудь оправдать свой отчаянный риск, а пробовать он не умел и уже не имел на то денег, и он последним усилием воли подавлял в себе эту слишком небезобидную страсть игрока, так что невольно скрипели сжатые зубы и тревожно звенело в ушах, но он всё-таки ждал, всё-таки ждал, чуть не безумно надеясь поймать этот свой единственный шанс.
Старичок с толстеньким розовым личиком уже выиграл свой не очень сытный обед и тихо исчез. Француз, заложив одну руку за борт сюртука, проставлял последние деньги. Какая-то полная мать, с короткой вуалькой и в кринолине, подвела невинную дочь, в розовом платьице с бантом, которой едва ли было тринадцать, и тонкие детские пальчики несмело уронили монетку. Игра английского лорда шла переменно, чередуя проигрыш с выигрышем, и английские жирные деньги не убывали, точно были неисчерпаемы или неприкосновенны. Толпа зевак становилась всё гуще.
Вдруг он уловил перемену в игре. В ударах наметилась странная очерёдность, а он по долгому опыту знал, что подобная очерёдность случается слишком нечасто, что продлится она много-много какой-нибудь час, даже скорее всего меньше, сорок, тридцать, двадцать минут и, вероятно, не повторится уже никогда, но вот она проявилась, и надо решительно ставить, больше не рассчитывая, не думая ни о чём, не страшась спустить всё до нитки.
Он тотчас весь изменился. Неподвижность исчезла с лица, оно ожило, разгорелось, задвигалось, глаза вспыхнули ярким лихорадочным блеском, руки задрожали от нетерпения, как у всех, кто играл. Он швырнул половину того, что имел, на первые числа.
Время застыло, не двигаясь с места. Металл скрежетал о металл, а юркий шарик всё медлил и медлил.
Но наконец!
Он выиграл, тут же передвинул все деньги на средние числа и выиграл два раза подряд.
Что-то неясное властно подсказало ему, он остановился, пропустил и, уловив опять властный зов, сунул всю кучу на последние числа и ещё четыре раза удваивал свой капитал.
Перед ним выросла горка монет и банкнот, и он должен, должен был уходить, но при виде этих несчитанных денег его охватил безумный азарт игрока, а он знал, как ничтожно мала вероятность повторения случайно выпавшей комбинации, знал, что настоящий игрок всегда уходит после первого хорошего выигрыша, чтобы не сглазить ревнивой удачи, он знал, что проигрывают именно те, у которых не хватает силы духа остановиться в нужный момент, он знал, что за эту роковую черту переходят одни дураки, но ему было слишком мало обыкновенного выигрыша, ему не терпелось при этом ещё испытать неласковую судьбу, властно одержать наконец победу над ней, зажать её в кулаке, и он снова поставил без счета на первые числа.
Первые числа не вышли пять раз, видимо разоряя его. Столбики рассыпались один за другим, уплывая от него, маслянисто блестя, и костяная лопатка, точно рука, отгребала их к банкомёту.
В нём смутно вспыхнуло ощущение непоправимой, чудовищной катастрофы, и он всё порывался уйти и снова упрямо ставил на первые числа, переложив часть выигрыша на всякий случай в карман, застегнувшись, переступая, отгоняя растущее чувство тревоги, и упрямо ставил опять.
Этот шарик явно глумился над ним. Лорд хладнокровно ставил на красное, и красное выходило без перерыва несколько раз. Растрёпанный, красный француз ставил угодливо рядом, каждый раз урывая по крохам чужую удачу. Старички, взяв по две ставки подряд, исчезли вслед за своим постоянным партнёром. Рыжая борода угрюмо бросала деньги на чёрное. Над столом сновали бледные липкие руки.
А у него дрожало лицо, и всё заслонилось страхом и злостью, он давал себе слово уйти и снова ставил на первые числа.
И вот, вдруг бросив красное, шарик застыл на семёрке.
Он страшно вспотел, подбирая своё долгожданное золото, совершенно забылся от счастья, торжествуя одержанную победу над хитроумной судьбой, замешкался было и успел перевести свою новую ставку перед самым криком крупье, обрывающим их, и успел повторить всю счастливую комбинацию. Да, она вышла опять! Он снова взял два раза на средних, пропустил и четырежды выиграл на последних.
Его охватило безумное ликование. Оно-то, должно быть, его и спасло. Он вдруг схватил все свои деньги, поспешно рассовал их по карманам и, ничего не видя по сторонам, не слыша шума толпы, расталкивая толпившихся игроков, почти испуганно выскочил вон.
Швейцар пустился за ним.
Он понял не сразу, остановился, принял шляпу, сунул ему номерок и одну из банкнот, не взглянув на неё.
Он пошёл размашистым шагом, взмахивая сильно руками. Какие-то праздные люди то и дело попадались ему. Широкая улыбка не сходила с его приветливого лица. Огромный лоб разгладился от напряжённых морщин. Открылись добрые светлые смеющиеся глаза. В душе ликовало только чувство победы, подхватив его и неся неизвестно куда. Он не ощущал земли под ногами и не различал ни улиц, ни домов, ни людей.
Так проскочил он каштановую аллею и свернул без разбора, лишь бы всё время идти, наткнулся на столик кафе, выдвинутый чересчур далеко, вспомнил о чём-то и механически сел.
Молодой круглый лоснящийся кельнер в белой отглаженной куртке, с белой салфеткой на сгибе руки о чём-то спросил, почтительно склонившись над ним, но он в своём забытьи ждал русского языка и не понял его. Кельнер, уверенно улыбнувшись, вальяжно ушёл, а он опять провалился в своё ликование, спасённый, спасённый теперь, обезумевший от чувства спасения. Кельнер поставил перед ним на мраморный столик рюмку с чем-то, кажется с коньяком, и чёрный пахнущий кофе. С недоумением взглянув на него, он вспомнил, что до сих пор не ел ничего, брезгливо отодвинул, должно быть, коньяк и с наслаждением, поспешно и обжигаясь, выпил несколькими большими глотками весь кофе и спросил жестом ещё, но вдруг тут же решил, что должен куда-то спешить, бросил деньги без счета на стол и быстро ушёл, по-прежнему плохо разбирая дорогу, замечая отрывочно, что в павильоне собирался в чёрных фраках оркестр, что под русским деревом сидела, стояла, ходила густая толпа и что чернели уже довольно длинные тени.
Потом он вдруг вспомнил, что выиграл деньги, огляделся, и, к его удивлению, оказалось, что он был далеко, почти на окраине Бадена. Совсем близко к нему подступали зелёные горы. Из высоких садов выглядывали двухэтажные красноверхие домики. Безлюдье было кругом.
Он рассмеялся глухим неожиданным смехом. Всё было легко и весело в нём. Его поразило, что именно о долгожданных деньгах он не думал так долго. Господи, ведь они же спасали, спасали его!
Он задрожал от нервного возбуждения, ему не терпелось узнать, сколько досталось на долю, и он жадно озирался по сторонам, ища укромного уголка, а сам всё трогал туго набитый карман, спеша на ощупь определить, много ли там монет или больше кредитных билетов, но нигде не подворачивалось ничего подходящего, и он ускорил шаги, уверенный в том, что где-то поблизости ждёт его надёжный, спрятанный от всех глаз закуток.
В голову не приходило, что вернее было бы вернуться домой.
Его занимали взбудораженные расчёты. Он вспоминал, что должен, что обязан куда-то спешить, но тотчас и забывал, к кому спешить и зачем. Он пытался припомнить долги. Припоминалось долгов очень много, но его не оставляла беспокойная мысль, что в таком взбудораженном состоянии он припомнил не все и на самом деле долгов у него много больше. Это омрачало его, но в эти минуты счастливого возбуждения всякий мрак был противен ему, и он старался не думать, что долги его почти беспредельны, и они припоминались как-то рывками, а главное, были предположения, сколько же вырвал он наконец у прижимистой неторопливой судьбы и останется ли ему после самых неотложных расплат на три или четыре спокойных месяца.
Наконец он приметил небольшую беседку, которую почти сплошь обвивал виноград. Она показалась ему подходящей, хотя стояла совсем на виду. Боясь закружиться от нетерпения, он, стремительно и воровски оглянувшись, скользнул в невысокий и узкий проход, почти упал на скамейку, скинул шляпу, уставя её вниз дном на колени, сложил в неё, едва не вырывая карманы, все наличные деньги и принялся, спеша и всё воровски озираясь, пересчитывать их.
В золоте и купюрах оказались гульдены, фридрихсдоры и талеры, но он переводил их нарочно на франки, ходившие по более низкой цене.
Десять тысяч насчитал он без нескольких франков.
Он замер, ошеломлённо уставившись на такое богатство, и вдруг поспешно, испугавшись воров, спрятал его.
В голове зазвенело тревожно и громко. Он испытывал необыкновенный подъём всех своих сил до того, что сознание готово было исчезнуть. Ему неожиданно показалось, что он выиграл целое счастье. Он тупо озирался вокруг.
В тесной беседке мертво молчал полумрак. Жарко плавясь возле расставленных ног, глаза слепила лужа огня, упавшего из проёма дверей, а там гладко серели под солнцем старые торцы мостовой.
Он не понимал, что он здесь и к чему, и тут же трезво сказал, что деньги – это не счастье, и сразу явилось сомнение, что он действительно выиграл несколько тысяч. Ему вдруг показалось, а через минуту он поверил почти, что он слишком уж обсчитался, но пересчитать в случайном сомнительном месте второй раз не решался.
Господи, ведь в карманах его сюртука было двадцать месяцев жизни! Он сможет работать, нормально работать, работать, как все, без этой безумной горячечной спешки. Он будет работать! Пусть три дня на статью, а там за роман, за роман, настоящий, сильный роман. Ведь если спокойно, без суеты, это должно получиться! Ему необходимо девяносто листов, чтобы полностью выразить всё, что в нём накопилось. Двадцать месяцев без трёх дней, или пусть без пяти, на девяносто листов, то есть эти девяносто листов на шестьсот с чем-то дней, пусть хоть всего на шестьсот, это три или четыре печатных страницы на один день, положим, надо ещё просмотреть и обделать, ещё бы месяца три, могла бы наконец получиться безупречная вещь, не хуже, может быть, чем у других, даже, конечно, и лучше!
Он выхватил папиросы. Пальцы, зажигавшие спичку, сильно дрожали. Он подумал после третьей затяжки, что в три дня придётся раздать по крайней мере самых неотложных пять тысяч. Останется десять месяцев жизни. Стало быть, опять получится куцый роман, едва намёком, в хаосе и сплеча. Десять месяцев, всего только десять. А ещё надо придумать, какой это будет роман, выжать поэму из целого скопища непрерывных идей. Вот Иван Александрович, этот с романом, с деньгами, пусть с небольшими, но верными, а тут выкраивай и латай, вытягивай жилы. Тоже можно бы сделать роман. Наши умники не свели бы с ума. Из всего можно сделать роман. Только десять месяцев жизни.








