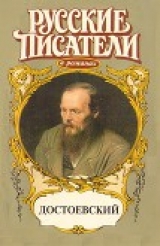
Текст книги "Игра. Достоевский"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Вы давно из России?
Продолжая неловко стоять, вдруг ощутив, что Тургенев с ним зачем-то и во что-то играет, так круто и без предлога переменив разговор, так изучающе поглядев на него, он стал медленно объяснять, согнув шею, точно оправдываясь:
– Четыре месяца скоро...
Тургенев взглянул выразительно и почему-то до невероятности удивился:
– Уже так давно?
Этот внезапный, неопределённый вопрос, вспугнув его тайным смыслом своим, заставив поспешно искать, в чём тут крылась пружина, больно ударил по натянутым нервам. Нервы болезненно задрожали, мысли, спеша, хаотически путались. Ещё сосредоточенные на прежнем, они летели в том направлении, отыскивая, почему же работа Тургенева, на его памяти выпускавшего книгу за книгой, вдруг сделалась невозможной, растерянно думая тут же, что всё это вдруг сошлось неспроста, он так углубился и в эти причины, и в этот тревожный вопрос, что прямой смысл тургеневских слов лишь слегка задевал растревоженное сознание, и он отвечал на них почти машинально, не успевая обдумать, а дрожавшие нервы, в свою очередь, пугали его, что он говорит невпопад, он сжался весь, как пружина, хмуря брови, ещё круче сгибая отяжелевшую шею, и всё пытался поскорее перескочить на новую тему, бог с ним, в конце-то концов, отчего Тургенев не намерен писать, но говорил отрывисто и слишком спеша:
– Это жена у меня, молодая, нигде не была. Хотелось ей всё, именно всё показать, так мы в Дрездене зажились.
Глядя как-то мимо него, Тургенев опять удивился, но словно бы с радостью, как бывает, когда один другого на чём-то поймал:
– Вы женаты?
Этот скользящий и потому загадочный взгляд ещё больше сбивал его с толку, а радостный тон казался ненатуральным, наигранным, и он не отыскал ничего резоннее предположения, что старый холостяк исподтишка смеётся над ним, тоже немолодым человеком, (хотя какая же это старость – сорок шесть лет), женившимся вдруг на девчонке, не сообразив впопыхах, что Тургеневу ничего не известно о возрасте Ани[20]20
Аня – Достоевская (урождённая Сниткина) Анна Григорьевна, жена Ф. М. Достоевского с 1867 г. Как стенографистка-переписчица участвовала с 1866 г. в подготовке к печати произведений Достоевского, сама издавала его сочинения. Ей посвящён роман «Братья Карамазовы». Составила и издала в 1906 г. «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Достоевского». Её книги «Дневник А. Г. Достоевской 1867 г.» и «Воспоминания А. Г. Достоевской» (1923) являются важным источником для биографов писателя.
[Закрыть], что «молодая» может означать и «недавняя», но самая мысль об этой милой девчонке вызвала робкую радость, и он, набычась совсем, улыбнулся несмело и почти сердито сказал:
– Свадьба была в феврале, и уже, наверно, будет ребёнок, тоже, может быть, в феврале, я думаю, мальчик, очень хочу.
Блестя оживлённо глазами, вспушив мягкие волосы правой рукой, Тургенев откликнулся чистосердечно и весело:
– От души поздравляю, это настоящее счастье, только остерегаю: не будите кота неудачливости, ведь этот кот, даже ежели спит, одним глазком всё-таки смотрит, вдруг да девочка, прежде времени лучше не строить предположений.
Но это предположение о возможности девочки уже испугало его, тайные тревоги разом ожили в нём, и он, пропустив окончание фразы, ответил в смятении о другом:
– Да, да, вы правы, тяжело оставлять детей без воспитания и без денег, ужасно!
Тургенев, тотчас пряча улыбку в усы, ещё раз окинув его испытующим взглядом, с каким-то неестественным волнением успокоил его, точно сам испугался чего-то:
– Пусть они сначала родятся.
Он заметил и то, что Тургенев словно испугался чего-то, и то, что, волнуясь, тот шепелявит сильней, почти забыл, о чём они только что говорили, и, потирая наморщенный лоб, внезапно перескочил:
– Это ничего, совсем ничего, вы извините, что я до сей поры не пришёл, всё, знаете ли, боялся вам помешать и вот сейчас, я думаю, помешал.
Открыто, ласково улыбаясь, Тургенев протестовал, точно и не было никакого испуга:
– Какие дела! Точно, были когда-то, да, верно, все вышли, никаких обязательных дел, одни пустяки. Вот хотел порасспросить вас о России, да вам, опасаюсь, не до того, молодая жена, небось хватает забот.
Он вскипел, приказал себе успокоиться и возразил возмущённо:
– Как это не до того? Сколько времени без неё! Да она отсюда нашему брату писателю кажется выпуклей, ярче!
Опустив в унынии огромную голову, Тургенев ответил не сразу:
– А я вот почти три года не был в России...
Ах вот оно что, о долгом отсутствии Тургенева он думал и всё передумал давно. Оно, это долгое, непростительное отсутствие вызывало недоумение, оскорбляло и как-то язвительно-больно задевало его. В самом деле, позволительно ли так поступать?
Он вскинул голову и пристально, негодующе посмотрел Тургеневу прямо в глаза.
Тургенев уже опять казался оживлённым, даже весёлым, точно и не было никакого уныния минуту назад, но в тот момент, когда они встретились взглядами, того будто всего передёрнуло, по розовому лицу тёмным облаком скользнула какая-то тень, неожиданно, точно без всякого повода, то ли Тургенев прекрасно собою владел, то ли нарочно устроил эту мимолётную тень, чтобы обмануть его таким нежным, таким, смотрите же, смотрите, сентиментальным чувством к России, в которой не был целых три года, а ведь, кажется, никаких не имелось преград, взял билет – и домой, заодно бы с дядей получше уладил, и только он подумал об этом, мимоходом удивившись, что даже и дядя вставился в строку, Тургенев весь омрачился, точно бы прочитал его мысли и поддал ещё, но через мгновение, то ли сил не хватило играть, то ли что-то пересилил, отмахнув от себя, сделался прежним у него на глазах.
Он спрашивал, настойчиво, почти зло, зачем тому играть с ним в такую предосудительную, кощунственную игру, не находил второпях удовлетворительного ответа, и по этой причине улавливал в тургеневской омрачённости скорей боль и тоску, чем притворство, и Тургенев опять становился понятней и ближе ему, и он, растроганный чуть не до слёз, сказал особенно выразительно, мягко, с чуть заметным упрёком:
– Вам нужно в России быть, непременно, надобно видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно. Как же так?
Глаза Тургенева вдруг точно выцвели и голос осел:
– Где уж мне участвовать непосредственно, полиция, сами знаете, не больно пускает, а молодёжь считает едва ли не самым отсталым из нашего поколения. А так – хоть бы вдоволь послушать да посмотреть. Вот был ненадолго зимой, кое-что действительно видел, услышать тоже кое-что привелось, да срок невелик. И всё она, матушка, представляется мне чем-то новым и почти незнакомым, чуть не чужим. Надо быть великим философом, чтобы в калейдоскопе, который в течение пяти недель вертелся перед глазами, найти одну ведущую нить, а какой я философ, помилуйте. Ясно только одно: от литературно-эстетического берега наше общество как будто отстало, а к политическому ещё не пристало, вот и плыви посерёдке. А в нынешнем году, как нарочно, все издатели, как сговорились, остановили высылку ко мне всех журналов, даже добросовестный Корш, и я сижу в темноте. Позакрывали их, что ли, все?
Рассердившись на это, он вдруг заметил, что продолжает неловко стоять перед сидевшим Тургеневым, будто о чём-то просил, будто бессмысленно унижался, и, мимолётно подумав, не этому ли так дивился Тургенев минуту назад, стиснул зубы до скрипа, а лицо словно сжалось в кулак, и недобрые чувства шевельнулись в душе.
Круто повернувшись на каблуках, едва не застряв в ворсистом ковре, он бросился в кресло, уселся привольно, закидывая ногу на ногу, сквозь зубы цедя:
– Не всё ещё, но, должно быть, закроют.
Опять испытующе взглянув на него, точно опасаясь чего-то, Тургенев проговорил облегчённо, раздумчиво, иронично:
– Слава Богу, что хоть не всё. При теперешнем состоянии Европы необходимо нужно знать всё, что происходит у нас, во всех наималейших подробностях, до пустяка. Впрочем, из наших бесподобных газет никогда ничего не узнаешь.
Он улыбнулся ядовито и тонко:
– При теперешнем состоянии Европы?
Сложив руки перед собой, Тургенев спокойно, сосредоточенно стал объяснять, словно не замечая этой отточенной шпильки:
– Теперешнее состояние Европы пахнет новой войной Вчерашнее столкновение с Австрией – только начало, в этом сомневаться нельзя. Сегодня во Франции ясно обозначается начало конца. Всемирная выставка несколько всё приглушила[21]21
Всемирная выставка несколько всё приглушила... – Речь идёт о Международной промышленной выставке в Париже в 1867 г.
[Закрыть], но лишь только с выставкой более или менее будет покончено, повелитель её попытается выйти из своего трудного положения с помощью какой-нибудь отчаянной авантюры, где восточный вопрос, то есть, в частности, мы, сыграет большую, если не главную роль, а мы всё ещё без дорог, последняя война нам впрок не пошла.
Он опять иронически улыбнулся, не умея решить, кто же больше беспокоит его: Россия или Европа:
– В самом деле, они все сошлись на восточном вопросе против России, и это очень опасно для нас, пока между ними есть равновесие сил. Но между ними тотчас появятся разногласия, лишь только кто-нибудь из них, Англия или Франция, приобретёт слишком уж большой перевес над другой, и тогда нарушится равновесие сил. Нам бы этого должно желать. Если нарушится равновесие сил, Россия может ввязаться. Это может окончиться разделом Турции между Англией, Францией и Россией. Конечно, такой раздел поставил бы нас во враждебные отношения с Австрией, но это отдалённое будущее, лет через каких-нибудь сорок, мало ли что может произойти.
Внимательно выслушав, сосредоточенно глядя перед собой, помолчав, точно взвесив каждое слово, Тургенев не торопясь возразил:
– В таких делах наши желания мало что значат. Сколько ни желай, на деле совершается одно непредвиденное. История, как и холера, подчиняется одному закону собственного существования, и нам остаётся лишь более или менее точно угадывать этот закон. Ужасное падение курсов на бирже заставляет призадуматься даже самых беспечных. Французы и пруссаки вполне могут дойти до драмы и где-нибудь именно здесь, поблизости от Рейна, их извечного рубежа. Если же это случится, а это непременно случится, потому что договор восьми держав положил конец сегодняшнему кризису только месяца на четыре, тогда Россия вполне может выступить на стороне немцев, как в тысяча восемьсот пятнадцатом году: у нас общественное мнение, насколько я знаю, очень настроено против нынешней Франции.
Перестав строить тонкие предположения, каков Тургенев, от души удивляется или с каким-то подвохом, для тепла носит кофту или нарочно придумал для генеральства, он с увлечением подхватил:
– На Рейне? Может быть, и на Рейне, но причина этого столкновения сходится в Риме. Старая Франция издавна, с глубины веков, жила католической идеей и провозглашала её, держала высоко её знамя, стояла за Рим, в противоположность германской идее, ставшей за реформацию, приняв её со всеми последствиями. Это до того неотъемлемо от истории французской идеи, что, несмотря на 89-й год, Франция всё продолжение даже нашего девятнадцатого столетия постоянно стояла за Рим, за светское владычество Папы, и в эту минуту именно можно предчувствовать, что столкновение с Германией Франции во главе других католических держав, если только подобный союз католических держав состоится, произойдёт именно из-за Рима, из-за воскресения римского католичества во всей его древней идее. Успеет ли к тому времени Пруссия собрать всю Германию? Кажется, должна бы успеть. Католическая Австрия уже поступила под покровительство Пруссии, и это, уж разумеется, даром не кончится, со временем, пожалуй, и вся она войдёт в состав прусской территории, как Шлезвиг-Гольштейн. Западная Германия частью примкнёт к Франции, частью к Пруссии, и это изменит карту Европы. Да, Пруссия разыгралась, и у неё нет чувства меры. Бредят войной, маршируют в ряд, как бараны.
Терпеливо выслушав, нагнув несколько набок свою громадную голову, чем-то неуловимо похожий на грустного льва, Тургенев, вытянув крупные руки вперёд, бездумно теребя длинными музыкальными пальцами брошенную салфетку, которая шевелилась, словно живая, медленно говорил, то ли не желая принять всерьёз его мысль, то ли размышляя сосредоточенно вслух:
– Не думаю, чтобы это произошло из-за Рима. Католическая идея бессильна сдвинуть с места народы, и правительства нынче подчиняются бирже. Наполеону Третьему необходима победа в войне, чтобы сохранить свою прогнившую власть. Пруссии необходимо войной подчинить себе всю Германию. Это давление времени, от этого никуда не уйдёшь. И заметьте, Фёдор Михайлыч, что в этом самое странное: в этой драке отсталая, замшелая Пруссия представляет прогресс, как это ни дико звучит, а француз, сын тридцатого года, внук девяносто третьего и «Марсельезы», наследник, таким образом, двух революций, даже трёх, представляет рутину. Но мы, если мы встанем в этой драке на сторону немцев, будет ли это прогрессом для нас?
Понимая, к досаде своей, что Тургенев его идею не принял, он всё-таки оживился:
– Как писали недавно «Московские ведомости», они бы на месте России не дарили бы никого своим союзом, а если бы дошло до дела, вдруг связались бы в союз там, где и не ожидали и где по их расчётам было бы всего выгоднее.
Тургенев обстоятельно, неторопливо связывал салфетку узлом:
– Бог с ними, с «Московскими ведомостями», а вы вот скажите мне в немногих словах, в чём сейчас наша главная слабость, чего нам больше всего не хватает сейчас?
Вдруг заметив, что так недавно, только нынешним утром, он Ивана Александровича выпытывал почти о том же, он полушутя-полусерьёзно ответил:
– Нет у нас людей ни на что. Главное, нет в учителях, нет в адвокатах и в судьях тем паче, про администраторов даже не говорю, эти уже совершенно потеряли человеческий облик, изоврались все и делать ничего не умеют.
Тургенев спокойно кивнул, точно именно этого ждал от него:
– Да, извечно нет у нас людей да дорог.
Но он уже помрачнел, поглубже вникая в проблему:
– А если серьёзно, то есть если серьёзно совсем, то это всё ещё ничего, это от болтовни, которая растлевает, всё оттого, что мы все готовимся к настоящему делу, вместо того чтобы прямо к нему приступить, прямо начать это дело, а дело, только оно, очищает человеческий разум, формирует самого человека, то есть начнётся дело и будут люди и настроят дорог. А вот от чего есть сойти-то с ума: нравственность народа ужасна. Всё это законные плоды подневольности, которая лишает народ самостоятельного развития, это же против подневольности ужасный протест. И не дороги теперь нужны позарез, бог с ними пока. Сейчас надо иметь что-нибудь, что бы народ сам мог любить, сам решил уважать, а не то, что ему навязано уважать и любить. А что любить, кого уважать? Чтобы выжить из прежних идей и усвоить, нажить себе новые, нужно действительно жить, жить настоящей, подлинной жизнью, а не из бумажки, не одним только мозгом, одним холодным мышлением. А чтобы настоящим-то образом, то есть взаправду, не по бумажке-то жить, надо всем нам быть у себя, быть своим, почвенным быть и выжить на практике, всем народом нажить и усвоить. И тогда уж никому не надо будет доказывать, что нам, собственно нам, русский почвенный идеал несравненно выше европейского, что он только сильнее разовьётся от соприкосновения с европейским и что он-то и возродит, может быть, всё человечество, а не наоборот, не как там у вас, будто Россию возродит европейская цивилизация. Да она её совсем доконает, всех окончательно врознь разобьёт, своими деньгами все духовные связи порушит. Там у них личность выходит на первое место, а у нас испокон веку общность была или хотя бы, не спорю, большей частью стремление к ней, но ведь это и всё равно в таком случае. Деньги же разрушают всякую общность, вот её бы не потерять под ударами-то европейской цивилизации, а раз потеряем, разобьёмся на личности, худо нам будет, ох как и худо, да и будем ли после этого мы?
Пожевав губами, в самом деле словно бы бессильно, по-стариковски, Тургенев невесело улыбнулся:
– Вот вы как против денег заговорили, а ведь советовали же мне роман из денег писать, чтобы выпутаться от дяди.
Ожидая ответа с мучительным, почти истерическим нетерпением, точно вот в этот миг и решалась бесповоротно вся судьба русского племени, и его тоже, разумеется, как же иначе, ощущение было именно таково, он рассердился от неожиданности такого ответа, так наивно уводившего в сторону, схватился за голову и отчаянным голосом повторил:
– Да это не то же, не то!
Помедлив, надеясь, что Тургенев всё-таки даст серьёзный ответ, чувствуя себя уничтоженным, оскорблённым в самом сокровенном и дорогом, чем дорожил больше жизни, что берег, как самую высокую честь, не дождавшись от нетерпения, он запротестовал, негодуя и злясь:
– Это выходит, таким образом, что вы обвиняете меня в том, что я бы тоже мог из денег писать?
И ему теперь только припомнился кошелёк, которым он недавно так горделиво размахивал, и вот это всё, разумеется, перевёрнуто было, перетолковано, вывернуто совсем наизнанку и абсолютно, голову наотрез, что не так. И эта игра, о которой он говорил всем открыто именно потому, что не видел ничего предосудительного в том, чтобы добровольно рискнуть своим достоянием ради возможности выиграть на жизнь, ведь только на жизнь необходимые деньги, как раз для того, это же в первую очередь, как не понять, что именно для того, чтобы не осквернять своё творчество хотя бы тенью невозможного денежного расчёта, от которого, как он ни рвал и метал, оно не было в самом деле свободно, по необходимости, из горькой нужды, потому что никто не оставил ему состояния, а семья его была чересчур велика, чтобы в одиночку, напрягая все свои силы, хотя бы скудно обеспечить её, и это было его вечной мукой, которая никогда, никогда не оставляла его, язвя душу стыдом и позором.
Разве было бы честно так всё и оставить? Нет, он должен был всё разъяснить, он должен был открыть полную истину, чтобы смыть и самую слабую тень подозрения со своего честного имени, честного, за это он мог постоять, но он был убеждён, что о своей честной честности громко вопят только те, кто бесчестно бесчестен, и ему тут же приходило на ум, что все его оправдания могут только сгустить эту тень покорного подозрения, что Тургенев, в этой вязаной кофте, с этой странной манерой как-то некстати переводить разговор, стоит ему только разгорячиться о чём-нибудь неотложном и важном, именно тут-то и непременно подумает, что недаром же он кипятится, что, стало быть, тут что-то и есть, и ту туманную видимость тайного искушения на своих книгах заработать поскорей да побольше, которая и в самом деле беспрерывно терзает его, примет уже за свершённое грехопадение и перестанет видеть в нём достойного человека, да и без того уж не больно-то ласков и рад, щёку-то подставил для поцелуя, экий, чёрт возьми, генерал, и ежели он всё-таки должен оправдываться, тут нужны доказательства неопровержимые и чрезвычайные, и тотчас разум его напрягся в поспешном усилии, ища таких доказательств, он весь побледнел, и синие вены вздулись на пожелтелых висках.
И не было ещё таких доказательств, но возмущение душило его, и он, снова хватаясь за голову, крикнул:
– Этого нет!
Тургенев вздохнул прерывисто, сдержанно, как-то искоса, вскользь посмотрел на него, то ли не уважая его, то ли чего-то боясь, и негромко заметил:
– Этого не может и быть, я пошутил...
Эта осторожность, этот искоса брошенный взгляд окончательно сбили и добили его, не позволяя сомневаться уже хотя бы на кончик мизинца, что Тургенев в чём-то очень неискренен с ним, но невозможно было понять, чем же вызвана эта неискренность, что он плохого сделал ему, и он гневно решил, что тот всё-таки подозревает его, что всё-таки честность его не представляется тому безупречной, если над ней позволяют шутить.
И он забился в словах, со свистом дыша и брызжа слюной:
– Нет, Иван Сергеевич, позвольте вам доложить, но этим не шутят! У вас нет, и ни у кого нет во всём свете, ни одного факта нет про меня, про меня лично, про Фёдора Достоевского, чтобы я из выгод, из почестей, из самолюбия, из видов каких поступил как посредственность, как подлец, что одно. Да я сдохну скорей, чем стану с чужого голоса петь или, например, проповедовать честность, будучи вором. Лучше я руки на себя наложу, а совестью не поступлюсь. Здесь, заметьте, черта, основная черта! И я вам не говорил, извините, чтобы вы этим романом угождали кому, убеждением поступились своим, покривили душой, лишь бы деньги сорвать. Нет, вы самый честный роман напишите, вы со своего, а не с европейского голоса пойте и возьмите за это честные деньги, как вознагражденье, без этого, разумеется, и нельзя, плату за свой честный труд, иначе не стоит и петь, то есть в наше время не запоёшь, не на что станет в другой раз запеть.
Тургенев сокрушённо покачал головой, не взглянув на него:
– Теперь, я полагаю, не запоёшь...
Этот пошлый намёк, и это нежелание смотреть на него, и ещё это генеральское слово «я полагаю» ужасно рассердили его. Он, разумеется, принял всё на себя. В его разгорячённом мозгу вдруг ослепительно вспыхнул фантастический домысел, что Тургенев, такой неоткрытый, такой непрямой, всё-таки держит в уме какую-то грязную сплетню о нём, которую, по незнанию дела, принимает за самый бесспорный, за очевиднейший факт, который как-то там несомненно свидетельствовал против него, хотя такого факта доподлинно не было и быть не могло, и этим будто бы кем-то или самим же придуманным фактом намерен очернить и напрочь уничтожить его репутацию.
Он растерялся, как всегда терялся от клеветы, не представляя себе, как же ему поступить, полез зачем-то в карман, наткнулся на кошелёк и выдернул руку, будто обжёгся. Для него самого в этом туго набитом кожаном кошельке был теперь несомненный и омерзительный факт, который и бесчестным признать он не мог, что за дурь, но которого и не мог не стыдиться.
Он весь покраснел и взмахнул обожжённой рукой. Ему представилось тотчас, что даже самая явная клевета, если её умело, с умом наложить на что-то двусмысленное, доступное двум толкованиям, одно из которых может быть в самом деле нелестным, может очернить даже праведника в глазах тех, кто не ведает всех подробностей дела, тем более может наверняка разрушить его репутацию, над которой и без того тяготеет грязное имя отступника, будто бы предавшего чистейшие идеалы, под которыми все разумели идеалы Белинского, словно бы идеалы Белинского и были последнее слово, и тогда, опозоренный, очернённый, он в самом деле не сможет запеть, потеряет право в глазах всех честных людей возвысить свой собственный голос, и в сознании этих людей, нечего тогда и говорить о других, каждое его вырванное из сердца, выжитое в муках, в терзаниях слово обернётся расчётливым, хитрым и подлым обманом.
А может быть, всё это не то и не то? Что-то выходило слишком хитроумно и сложно, и не было ли тут чего-то другого? В этих заминках, в этих убегавших глазах?
Да уж не боится ли тот, что он, раздражённый донельзя, вдруг повалится и забьётся в своих страшных конвульсиях? Господи, да что же это такое!
Он разгорячался всё больше и жаждал мгновенного разъяснения всей этой убийственной, этой ужасной нелепости, тут же туманно, отрывочно припоминая, что Тургенев словно бы уже намекал на что-то подобное, то есть, может быть, не на припадок болезни, потому что это «что-то», кажется, относил к себе самому, а от этого всё дело, конечно, менялось, в то же время придавая всему какой-то странный, загадочный, непредвиденный смысл, от чего всё сложиться могло по-другому, то есть весь разговор, и тогда весь его ужас был ни к чему, и он понапрасну терзает себя, снова поддавшись своей неукротимой, неуёмной фантазии.
Обессиленный, в свою очередь пряча глаза, он хрипло, расстроенно попросил:
– Да растолкуйте же, наконец, отчего!
Отбросив в сторону узел салфетки, улыбаясь тоскливо, Тургенев громко спросил:
– Разве вы не читали?
В газетах и журналах он ежедневно просматривал каждую строчку и давно ничего не находил о себе, ни плохого, ни тем паче хорошего, и тогда роковым образом выходило, или то, что он смешно ошибался, или именно то, что Тургенев с ним снова бесчестно лукавил.
Он поднял глаза и поспешно спросил:
– Что читал?
Тургенев искренне удивился:
– Вы в самом дело ничего не читали о «Дыме»[22]22
...не читали о «Дыме»? – Роман «Дым» был закончен Тургеневым в начале 1867 г. и получил резкие отзывы критики.
[Закрыть]?
Вот оно что! Как грубо и безобразно он промахнулся! И для этого глупого промаха не было ни малейшего оправдания. Могло, разумеется, оказаться, если повнимательней всё рассмотреть, то есть кое-что и из дальних причин, что такие промахи были не так уж случайны, не без злонамеренности даже, если правду сказать, ведь в глубине-то души он Тургенева не любил и потому заранее был подготовлен к тому, чтобы в каждом слове того видеть прежде всего злокозненный умысел против него, ну там гаденько подозревать его честность и искренность, превратно перетолковывать то, что ясно как день, искать и находить во всём другой смысл, и если это оказывалось теперь заблуждением, то это было заблуждение почти добровольное, а потому и преступное, в известном смысле конечно, и было бы совсем неприглядно с его стороны оправдывать своё заблуждение или прощать, уж это гаже всего.
Не умея и совестясь обелять в себе, как сплошь и рядом случается у себялюбивых людей, именно то, что было отступлением в его же глазах и от обычной, и от самой строгой порядочности, он корил себя за это коварное, как оно тотчас осмыслялось им, заблуждение, он испытывал неудержимую потребность немедленно покаяться в нём, но колебался, страшась не признания, но боясь обидеть Тургенева своим признанием в том, что с давних пор недолюбливал его как человека, хотя, редактируя с братом журнал, домогался его повестей, высоко ставя его как писателя и хорошо представляя расхожую цену его популярного имени.
Всё это тотчас пришло ему в голову, и он, тут же найдя, что запутался бы самым бессмысленным образом во всех этих своих объяснениях, промолчал, уверенный в том, что, если бы Тургенев спросил его сам, в каких именно он к нему отношениях, он высказал бы всё без утайки, и, наклонившись вперёд, сцепив пальцы рук, сбивчиво стал объяснять:
– Постойте, в самом деле что-то слыхал. По крайней мере, Майков мне что-то писал, будто в статье Страхова и будто в «Отечественных записках», но сам я этой статьи не читал и никаких подробностей мне неизвестно.
Лицо Тургенева вдруг обмякло и действительно постарело, а слабый голос совсем потускнел и будто скис:
– Ругают все наповал.
Ему снова стало неловко, что вот он в самом деле никаких статей не читал, но он был писатель и журналист, не выпускавший газеты из рук, и могло опять показаться, что он немного прилгнул, из деликатности или другого похвального чувства, но всё же прилгнул, слишком уж неестественно, чтобы он о Тургеневе не читал, о котором наверняка трубили чуть ли не в каждой строке, а тут ещё припомнился бедный Иван Александрович с его странными рассуждениями о черкесе, да и сам он считал этот тургеневский последний роман большой, огорчительной неудачей, но у Тургенева до сих пор было самое громкое имя, окружённое, как он думал, даже чрезмерным, преувеличенным преклонением, доходившим не только до самых неумеренных, самых сладких похвал, которые, кружа голову, могли не только понапрасну испортить это в самом деле необычное дарование, но и до прижизненного зачисления в бессмертные гении, что было уже совсем неуместно или, вернее, очевидно безнравственно, и он частенько пропускал это имя в газетах, не желая участвовать в этой безнравственности, и теперь ему невозможно было поверить, чтобы всеобщее поклонение и всеобщий восторг тотчас сменились всеобщим поношением или презрением.
Он знал Тургенева болезненно мнительным человеком и было подумал, что тот из кокетства или, чего не бывает, без умысла преувеличил чрезмерно те несколько неодобрительных слов, которые, вероятно, проскользнули в печати, и отрывисто переспросил:
– Так уж и все?
Тургенев жалобно усмехнулся, подняв на него тоскующий взгляд:
– Именно – все! Бьют и красные, бьют и белые, бьют и сверху, бьют и снизу, бьют и сбоку, и, разумеется, сбоку-то прежде всего. В большинстве «Дым» вызывает ко мне чуть не ненависть, чуть не презрение, вот оно как.
Тем же изящным жестом откинув клетчатый плед, Тургенев величественно поднялся и, сильно хромая, прошёл к письменному столу, поднял обеими руками груду писем и вырезок, точно взвесил её, и с горечью произнёс:
– Точно не письма, но камни летят.
Его так и ударили эти слова, ведь с ним-то тоже, тоже всё это было, и какие камни ещё, порой целые скалы. Он помнил, сколько ни старался забыть, как ещё сам Белинский, вознеся его до небес за «Бедных людей», решительно не принял его «Двойника», который и тогда и теперь он ставил несравнимо выше «Бедных людей», уверенный в том, что только и именно с «Двойника» началась его настоящая дорога в русской литературе, а вот Белинский увидел в этом романе падение таланта. Этого мало, Белинскому начинало даже казаться, что и прежняя собственная высокая оценка «Бедных людей» была преувеличенной и незаслуженной явно. Белинский, браня сам себя за неумеренные восторги, обращался с неизменной фразой к приятелям, которые любезно переносили эту фразу ему: «Ну и надулись же мы с гением Достоевским!» И, поощрённые искренней этой ошибкой Белинского, приятели обрушились на него чуть не с визгом, меньше всего на роман, а больше на беззащитного автора, и Тургенев тогда, говорят, сочинял на него эпиграммы.
Эти прежние обиды вспыхнули в нём с незабытой, даже с преувеличенной силой. Да, все тогда безжалостно, беспрерывно издевались над ним, терзали его идиотскими сплетнями, кололи злыми булавками эпиграмм, поднимали на смех его неосторожные слова и привычки, уничтожали каждую новую повесть и с презрением смотрели на то, что он в себе вырабатывал ценой тяжких неустанных трудов, ценой голода и бессонных ночей, и все эти издевательства и насмешки, и в особенности сама неожиданность перехода от возвышения и поклонения к безнадёжному отрицанию в нём всякого литературного дарования тогда надломили его, он снова замкнулся в себе, издерганные слабые нервы не выдержали такого дикого напряжения, и жизнь его превратилась в тот ад, о котором часа три назад рассказывал Ивану Александровичу легко и даже шутя. Главное, он тогда был один, совершенно один, а их было много... чуть ли не все...
В нём вспыхнуло злорадное чувство. Казалось, он был наконец отомщён, каково в его-то шкуре побыть, хорошо ли? Самый злой, самый насмешливый, самый удачливый из его тогдашних гонителей попал почти в то же невыносимое положение и должен, должен теперь испытать, каково жить в аду всеобщего негодования, поношения и даже позора. Его так и подмывало задать жёсткий, колючий вопрос, помнит ли тот, какие камни сам в него, бывало, швырял, тогда ещё совсем слабого, только ещё начинавшего и потому вдвойне и втройне уязвимого? Он готов был рассмеяться холодным смехом в лицо. На языке так и вертелось ядовитое слово.








