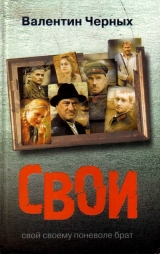
Текст книги "Свои"
Автор книги: Валентин Черных
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
О ТАКТИКЕ И СТРАТЕГИИ
Я не понял, скорее, почувствовал, что если и не выиграл, то и не проиграл. Я тогда еще мало знал, мог только догадываться. Теперь, спустя много лет, когда я приезжаю к матери, я всегда захожу к Бурцеву, генерал-майору, начальнику Областного управления внутренних дел. Со стороны может показаться, что мы дружим. Мне, депутату Думы и возможному кандидату в Президенты, необходима информация, что думают в провинции, как относится провинция к указам Президента, часто не предусматривающего последствий своих указов. Поэтому мои выступления в Думе всегда точные по фактам, ироничные и часто вызывают смех. Я много играл в комедиях – не главные роли, но эпизоды я всегда делал блестяще, а короткая речь в Думе, обычно от микрофона в зале, – это как продуманный эпизод на киносъемке. Надо подхватить реплику партнера, вывернуть ее, иногда повторив, довести до абсурда и сказать свою. Депутаты всегда ждут моих выступлений для разрядки, чтобы посмеяться. Как режиссер и актер, я понимаю, что политика, как фильм, строится по точным законам драматургии. Когда есть характер, поставленный в определенные обстоятельства, он действует согласно обстоятельствам, а зная характер Президента и обстоятельства, я почти всегда могу предугадать каждое его действие. В чрезвычайных ситуациях я почти всегда даю точный прогноз действий Президента в своих выступлениях в Думе. Я знаю, что мои выступления раздражают Президента, но я никогда не перехожу грани. Я знаю, что он, которого сейчас уже не любят, да никогда особенно и не любили, скорее надеялись, а сейчас и не надеются, а многие уже и посмеиваются, как посмеиваются над старыми маразматиками, – он вряд ли выиграет выборы, если будет баллотироваться еще раз. Смогу ли я стать Президентом? Вероятно – да, если решит Организация. Но в том, что я снова буду избран в Думу от своего округа, я почти не сомневался. Я на это работал почти двадцать лет, приезжал в область со своими первыми картинами, еще актером, потом режиссером. Я выступал во всех районных городках, дружил с председателями колхозов и директорами заводов. Не я сам, а Организация выдвинула меня в Верховный Совет России в последние годы советской власти, в первую Думу, и во вторую тоже. Но это все еще будет через годы.
А тогда я понимал, что попал в ситуацию, на которую практически влиять не мог. До сих пор я вступал в конфликты со своими ровесниками, где существовали простейшие правила. При равных силах были равные травмы. У тебя подбитый глаз, у него разбитый нос. Если против тебя объединяются несколько, бьешь по одиночке, избегая столкновения со всеми вместе. Сопротивление изматывает противника, никому не хочется находиться в постоянном напряжении, и обычно от меня отставали. Сейчас против меня была власть, меня могли привлечь к уголовной ответственности, мое эмоциональное выступление в милиции против Воротниковых – отца и сына – это угрозы первоклассника взрослой шпане. Мне нужен был совет. Как вести себя дальше, мне нужен был мужской совет. Хорошо тем, у кого отцы, с ними можно обсудить, за них можно спрятаться, переложив на них принятие окончательного решения, все мальчишки попадали в подобные ситуации. Я мог посоветоваться с подполковником-соседом, но его жена – учительница, и неизвестно, на чьей она стороне, и если даже она сочувствует мне, она будет поддерживать Воротникова-младшего, чтобы ее запомнил Воротников-старший. К тому же формально пострадал Воротников-младший, был избит он, а не я. Подполковник не верил в справедливость, а человек, который не верит в возможность доказать, что вышестоящий по должности начальник не прав, не союзник и не советчик.
Когда у тебя нет отца, ты подражаешь другим мужчинам. Я многому научился у Энке, у Захара Захарова, кое-чему у подполковника, у Петровича – санитара из морга, который всегда только слушал. Выслушав, он не соглашался, не возражал, не выказывал ни сочувствия, ни осуждения, у него было только одно выражение:
– Все может быть.
А чаще всего он вообще не отвечал. Вставал и молча уходил. Я это перенял от него, и меня стали принимать за странного, одни считали меня очень умным, другие – дураком, но это давало мне возможность не принимать участия в проблемах других людей, ничего не обещать, потому что, выполняя обещание, я отнимал время у себя, которого у меня не хватало. У меня оставалось время только на хозяйство, приготовление уроков, чтение и кино, а когда мать купила телевизор, времени стало еще меньше. У меня не было друзей мальчишек, только приятели, с которыми я играл в футбол. Кроме того, в прошлом году в школу пришел новый физрук, сокращенный из армии капитан, и организовал секцию бокса, три раза тренировки и спарринги, а это еще шесть часов в неделю.
Мать никаких советов дать не могла, ей, конечно, уже все рассказали, вечером она будет плакать и просить, чтобы я извинился перед Воротниковым-младшим: она боялась начальника отделения связи, свою заведующую отдела посылок и бандеролей, она боялась воров, цыганок, пьяных, милиционеров, продавцов, всех, от кого она зависела.
Единственный, с кем я мог посоветоваться, был муж моей тетки, но он работал в соседнем районе лесником.
Старшую сестру моей матери в шестнадцать лет угнали на работу в Германию. Вернулась она в Красногородск только в начале 1946 года с мужем. Это было еще до моего рождения. Он до войны закончил лесной техникум, его сразу призвали в армию и отправили в Омск в военное училище. Он проучился год, когда началась война. На следующий день им присвоили звания младших лейтенантов, и он уже в июле воевал под Смоленском командиром взвода станковых пулеметов. В плен попал, раненным, под Курском. Через много лет я узнал из его личного дела, что он служил в «Смерш» – военной контрразведке. В плену он работал на заводе, который выпускал зенитные пушки в Эльзас-Лотарингии, где и встретился с моей тетей Шурой. Он бежал удачно, с первой попытки, потому что пошел не на восток, а на запад. Может быть, ему дали адреса французы, с которыми он работал на заводе, и через две недели он уже воевал в мак и , был награжден французскими орденами, после войны оказался в Париже и стал представителем нашей военной администрации, сохранились его фотографии в советском, идеально пошитом мундире с погонами капитана. Наверное, сказалось хорошее знание французского языка и то, что служил в военной контрразведке. Работая в фильтрационном лагере военнопленных, он отыскал тетку, приехал с ней в Красногородск, перебрался в соседний район и стал работать лесником. Тогда еще не было егерей, и к нему на охоту приезжало местное и областное руководство. Во всяком случае, когда в 1947 году его решили арестовать, ему об этом сообщили друзья, и через два часа он уже ехал в поезде в Москву. После приезда из Москвы его уже не тронули, и он проработал еще почти сорок лет. Я его буду хоронить. После похорон тетка достала с чердака деревянную коробку из-под сигар и вынула из нее замотанный в промасленную тряпку французский пистолет системы МАБ, модель Ц «Кавалер» с двумя запасными обоймами с патронами калибра 7,65 мм. По форме он напоминал браунинг, это потом я стал разбираться в оружии. Французы, как ни странно, выпуская пистолеты, копировали наиболее удачные разработки других стран, и французские пистолеты, в отличие от немецких и итальянских, всегда меньше ценились на оружейном рынке. Я отошел подальше в лес, сделал несколько выстрелов. «Кавалер» сработал замечательно. Я привез его в Москву, и, хотя меня вряд ли кто стал бы обыскивать, беспокойство я испытывал. За хранение и ношение оружия суд мог определить заключение до пяти лет. «Кавалер» по-прежнему у меня, недавно я попросил знакомого оружейника проверить в патроне капсюли. Он заменил несколько патронов. Теперь вероятность обыска меня, депутата Государственной Думы, уменьшилась практически до нуля, в наше неспокойное время я беру «Кавалера», когда еду на дачу и даже когда вечерами гуляю с собакой. Я никогда не был трусоватым, боксом начал заниматься в школе, потом в Москве, на занятиях по актерскому мастерству неплохо фехтовал и, хотя всегда снимался с дублерами, знал основы каратэ, отработав несколько приемов до автоматизма, и мог отмахнуться от двоих-троих, но с возрастом реакция ухудшилась, и пистолет придавал уверенности. Тогда я сказал тетке:
– Оставь себе. В лесу живешь ведь.
– Я съезжаю, – ответила она. – Договорилась с твоей матерью, будем жить вместе. К тому же у меня есть свой.
Она отодвинула заслонку – было лето, печь не топили, готовили на плите в кухне – и достала маленький венгерский пистолет.
– Его подарок, – сказала она и заплакала.
Это был миниатюрный пистолетик «Фроммер-лилипут» 6,5 мм выпуска 1923 года.
Когда тетя Шура умерла, мать передала «лилипута» мне, а я подарил его любимой женщине, которую потом бросил. Некоторое время я боялся, что она застрелит меня из моего же «Фроммер-лилипута», но когда она вышла замуж, успокоился, – теперь быть застреленным грозило ее мужу. Но до этого было еще очень далеко.
Я помог тетке перевезти вещи в материнский дом. Перед моим отъездом в Москву тетка протянула мне картину в деревянной раме, выкрашенной суриком. На картине был изображен пруд, беседка, в ней сидела женщина в белом платье, а перед ней стоял гусар в красном ментике, белых обтягивающих рейтузах и опирался на слишком короткую саблю, потому что ноги у гусара были короче туловища.
Такая картина была и в доме матери. Покупали их на рынках за красоту: белое платье, красный мундир, зеленая трава и голубая вода в пруду. На картине в доме матери в пруду еще плавали лебеди, а из-за якобы леса отливала золотом маковка церкви с золотым крестом.
Видно, я не мог скрыть иронии, тетка усмехнулась, легко отделила холст с дамой и офицером – за этой картиной была другая. Балерины в пачках в нежно-розовых и голубых тонах.
– Это Дега, – сказала тетка. – Мы привезли из Франции две картины. Одну пришлось отдать в Москве, когда его собирались арестовать сразу после войны, а эта осталась. Здесь ее у меня не купят, а если узнают о ее настоящей цене, могут и прихлопнуть. Я ее держала на черный день, но похоже, что для меня черного дня не будет.
Я не понял ее тогда. Тетка знала, что у нее рак, уже неоперабельный. Она пережила мужа только на год.
Я никогда не думал, что буду их хоронить, – такими прочными, крепкими казались они мне, великаны из сказочных времен. Тетка была только на голову ниже мужа, огромного и, как оказалось, очень тяжелого, – когда его хоронили, шесть мужиков с трудом несли гроб.
Всего этого я тогда еще не знал. Автобус в соседний райцентр ходил два раза в день – утром и вечером. Я поехал на вечернем, чтобы переночевать у них и вернуться утренним к школе. От райцентра до лесничества десять километров я дошел, вернее, добежал за час. Дядя Жора – тетка звала его Георгием, хотя по паспорту он был Егором, я об этом узнал только на его похоронах – готовил жерди, чтобы укрепить ими копны сена перед зимой. Тетка доила корову, я слышал, как били струи молока в оцинкованное ведро. Я поздоровался, спросил, не надо ли в чем помочь.
– Спасибо, управились, – ответил Жорж и спросил: – С матерью все в порядке?
– С ней все в порядке, – ответил я. – У меня не все в порядке.
– Поговорим за обедом, – сказал Жорж.
На обед были котлеты из кабана, Жорж поставил бутылку болгарского красного вина, предложил мне, я в очередной раз отказался. Врач в туберкулезной больнице, когда я спросил его, что мне надо делать, чтобы не умереть, сказал:
– Не пить, не курить и заниматься спортом.
С тех пор я выполнял это предписание. Меня всегда удивляло, как ели тетка и Жора. Утром они обычно пили кофе и ели яйца всмятку. В обед не ели, перехватывали, – когда наедаешься, трудно работать, говорила тетка, зато вечером они ели плотно, с вином, салатами из капусты, яблок, свеклы с сыром. Жорж за лето, пока хорошо доились коровы, делал до десятка больших кругов сыра, которые он подвешивал в холщовых мешках в сарае.
После обеда они закурили. Они никогда не курили папирос. Вначале им сигареты присылали из Риги, потом появились болгарские и албанские, а в те годы уже можно было в городах купить американские или западногерманские. Жорж предпочитал американские. Он вывозил в Псков на рынок сыр, свинину – они с теткой держали двух коров и до пяти свиней – и, продав свою продукцию, покупал сигареты, вино, порох, дробь он лил сам.
Они три года провели во Франции, поняли толк в хорошей еде, хорошем вине и хорошем табаке.
Обычно на обед-ужин Жорж надевал белую рубашку с галстуком, тетка – крепдешиновое платье, обедали не спеша, телевизора тогда не было, включали большой радиоприемник, слушали последние известия французского радио.
– Поговорим о твоих проблемах, – предложил Жорж. – но только правду, и ничего, кроме правды.
Я рассказал все, как было.
– Интересно, – сказал Жорж. – Почти партизанская тактика: прятать оружие на возможных этапах отступления. Но ты этот железный прут утопи в речке – то ли сосед наткнется, да и милиция может просчитать этот вариант. И в чем же теперь твои проблемы? – спросил Жорж.
– Я не знаю, как поступать дальше. Скорее всего, они будут заставлять меня извиниться. А я не хочу. Вся школа будет считать: я струсил.
– И пусть считает, – сказала тетка. – Тебе в этой школе учиться меньше года.
– Но неизвестно, сколько жить в Красногородске. И если я уеду, все равно ведь буду приезжать, и все, увидев меня, будут думать: он трус.
– О всех всегда что-нибудь думают, – возразила тетка, – что скупердяй, что глупый, что все из рук валится. Наплевать и забыть. Если можно, найди компромисс. Ты знаешь, что такое компромисс?
– Знаю. Это стараться решить дело миром. Но это не компромисс. Они ни в чем не уступают, уступаю только я.
– Но ты же своего добился. Ты их отлупил, – возразила тетка, – можешь и дальше так действовать. Отлупи и извинись. Культурный человек всегда извиняется, даже если наступит на ногу, а ты их избил.
Жорж молча курил, посматривая то на меня, то на тетку.
– Я думаю, извинишься ты или нет, дело это замнут, но тебе запомнят. Ты куда собираешься поступать? Вроде бы офицером хочешь стать.
– Раздумываю, – ответил я неопределенно.
– Так военкомат не даст тебе направления. А в школе напишут такую характеристику, что ты не только в военное, даже в фабрично-заводское училище не поступишь. А напишут обязательно, потому что в школе есть партийная организация. Секретарю этой организации позвонят и поинтересуются, какую характеристику написали этому хулигану. Даже приказывать не будут, просто спросят. Уполномоченный КГБ заведет на тебя дело. Один листок в папке пока, но если его запросят, ответит вполне объективно, что скрытен, агрессивен, в общественной жизни участия практически не принимает, избил сына секретаря райкома.
– Выходит, без хорошей характеристики я никуда не поступлю, мне всюду будут перекрывать воздух?
– Думаю, что да.
– А зачем им это надо?
– Иначе они не удержат власть. Или играй в игры, предложенные системой, или система тебя выталкивает. Я, например, не играю, потому что шансов выиграть у меня нет.
– Почему?
– Потому что я был в плену. И хотя убежал и снова воевал, имею боевые ордена – и советские, и французские, – я все равно меченый. Хотя плен на войне – явление нормальное. Иногда нет выхода. Англичане, которые воевали веками, это понимают. И когда в Лондоне был парад Победы, то парад открывали военнопленные, потому что им досталось больше, чем другим. Хотя условия в концлагерях, в которых содержались англичане, были почти нормальные для военного времени. Их наказывали, нас просто расстреливали за каждый проступок.
– Но сдаваться в плен нехорошо, – возразил я.
– Нехорошо, – согласился Жорж, – но что я мог сделать, если у меня были прострелены ноги? А последнюю пулю себе в лоб – это глупость. Я выжил и еще пару десятков бошей лично отправил на тот свет. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Бывшие пленные свое отсидели в лагерях, но они все равно меченые. Они могут работать только на черных работах. Вот я уже семнадцать лет работаю лесником и никогда не буду лесничим, потому что был в плену и потому что беспартийный. А руководить разрешается только партийным. А в партию меня не примут, потому что я был в плену.
Жорж сказал не всю правду. Он добивался восстановления в партии, из которой выбыл, естественно, за время плена. Но его не восстановили. Восстановить значило простить, а его так и не простили.
– Какой же выход? – спросил я.
– Проведи маневр. Извинись, но запомни – при первом же удобном случае с ними рассчитаешься.
Именно тогда я решил, что сведу счеты с Воротниковами: и старшим, и младшим, и первый же удобный случай я не пропустил, но на это ушли годы.
НЕНАВИСТЬ К ВЛАСТЬ ИМУЩИМ
Извинялся я после большой перемены. Старшеклассников собрали на первом этаже в самом большом классе. За столами сидели директор школы, завуч, обе классные руководительницы, секретари школьной партийной и комсомольской организаций. Директор школы коротко рассказал о случившемся. Я вышел и сказал:
– Я извиняюсь перед Виктором Воротниковым, перед Шмагой и тремя остальными, то есть перед всеми пятерыми за то, что я их избил. Я этого не хотел. Мы просто поругались. Я думал, что они будут сопротивляться, а они не стали сопротивляться и убежали, оставив Воротникова. Я перед ним извиняюсь особенно. Я честно старался ударить полегче, у него же толстые ляжки, такие трудно пробить, но так вот получилось, что задел сильно, и поэтому он не смог убежать. Я даю честное слово, что никогда не буду бить этих пятерых.
В зале уже корчились от смеха, Вера откровенно хохотала. Я понял, что перебрал, но перестроиться уже не мог.
– Тишина! – сказал директор. – Виктор, ты принимаешь извинения Петра?
Воротников молчал и медленно краснел. Вначале у него покраснели уши, потом лицо, потом даже шея.
– Не принимаю, – наконец ответил он. – Я с ним сам разберусь.
– Я этого не хочу, – сказал я. – Позавчера их было пятеро, завтра будет десять. А с десятью я не справлюсь.
Теперь уже смеялись все.
– А ведь совсем не смешно, – сказал директор. – Мы не нашли примирения, значит, будет заведено уголовное дело, и вместо того, чтобы поступать в институт, вы, Умнов, попадете в колонию.
– А почему я? Может быть, Воротников со своей компанией. Суд будет решать, – возразил я.
– Суд, конечно, решит, – продолжил директор. – Но ведь избиты не вы, Умнов, а Воротников. И если вы будете доказывать, что только оборонялись, то и в этом случае налицо превышение пределов необходимой обороны. Я советовался с прокурором. Может быть, дело не дойдет до колонии, но условно кто-то будет осужден обязательно. А с условной судимостью вас не примут ни в какой институт, да и не на всякую работу возьмут. И это пятно на всю школу. В этой ситуации, когда от одного неверно произнесенного слова зависит судьба одного или нескольких молодых людей, мне лично не до юмора.
Я понял, что директор дает мне последний шанс. Не знаю, почему он мне симпатизировал, может быть, потому что был красногородским, как все мы, держал хоть одного подсвинка, сажал картошку, ходил за грибами и клюквой, сам чинил старый «Москвич». Он мог делать все, что делали красногородские мужики, но был еще учителем и директором школы.
– Витя, – сказал я, – я перед тобой извиняюсь. Я был не прав, и подобное больше не повторится.
Я продолжал стоять. Директор смотрел на Воротникова, смотрели на него ребята из двух классов. Ни меня, ни Воротникова в школе не любили, но я был свой, и к тому же меня могли засудить.
– Виктор, – в наступившей тишине сказала Вера, – было бы честно, по-мужски, извиниться и тебе.
– Хорошо, – сказал Воротников. – Я тоже извиняюсь.
И вдруг все зааплодировали. Наверное, впервые в жизни не по официальному поводу на собрании, – когда в торжественные даты заканчивался доклад, то первыми начинали аплодировать учителя, и подхватывали все мы. Мне не хотелось думать о том, что я все-таки испугался, мне хотелось скорее забыть о милиции и допросах. Когда я шел в школу сегодня, то выбрал кружной путь, чтобы только не проходить мимо милиции. Но я рано радовался. На последнем уроке в класс заглянул директор, кивнул мне, я вышел. Директор ничего не стал мне объяснять. Он шел к своему кабинету, а я шел за ним.
В его кабинете сидел сам первый секретарь райкома партии Воротников-старший в темно-синем костюме, белой накрахмаленной сорочке с малиновым галстуком, униформе партийных и советских работников. Все они отдавали предпочтение темно-синему, реже темно-коричневому цвету – немарко, неброско и достаточно строго официально. Лицо Воротникова-старшего отличалось гладкой розовой кожей, у красногородских мужиков лица были грубые, темные – летом от солнца, зимой от ветра. И женские лица к сорока грубели. По таким лицам, как у Воротникова, я потом сразу отличал чиновников и чекистов. У чекистов лица были более бледные, они больше времени проводили в кабинетах. На лицах всегда отражалась прошлая жизнь. Я отличал синюшные лица туберкулезников, даже бывших, сердечники были бледными, те, у кого болел желудок, – серыми, у бывших заключенных кожа всегда неровная, с пупырышками, будто они постоянно мерзли, – если человек несколько лет в лагере недополучал жиров, эти отметины на коже оставались десятилетиями.
Я поздоровался.
– Мне с ним надо поговорить один на один, – сказал Воротников-старший.
Директор собрал тетради, уложил их в портфель и сказал:
– Когда будете уходить, захлопните дверь.
Трусливый, наверное, подождал бы окончания нашего разговора, выяснил если не мнение секретаря райкома, то хотя бы выслушал его впечатления.
– Он что, из красногородских? – спросил Воротников.
– Да, – ответил я.
– Тогда понятно, – произнес Воротников, и я понял, что он не любил красногородских и, наверное, вообще псковских. Их и любить было не за что. Они больше работали на своих огородах, чем в колхозах, воровали все, что можно украсть, даже не считая это воровством. Со стройки тащили кирпичи, с полей картошку. Никто не верил, что это государство их собственное. Они тащили все, что недополучили от этого государства. Много пили от тоски, потому что знали, что никогда не станут ни богатыми, ни свободными. Они браконьерствовали в лесах и на реках, не считая это браконьерством, а рыбы и зверя пока хватало всем. Красногородский район когда-то был пограничным, рядом жили латыши и эстонцы. Говорят, до революции отношения с соседями выясняли очень часто при помощи кулаков. Когда Латвия и Эстония стали буржуазными республиками, псковские занимались контрабандой, более цивилизованные эстонцы – во всяком случае, они таковыми себя считали – не рисковали, потому что цивилизованность предполагает осторожность и уважение законов. Псковские законов боялись, но не уважали, а нужда всегда была сильнее страха. Мне мать рассказывала, что и мой дед занимался контрабандой. Во время войны с немцами многие из псковских мужиков ушли в партизаны. Партизанское движение на Псковщине известно тем, что партизаны привезли несколько обозов с мукой и зерном в осажденный блокадный Ленинград. В основном же партизаны истребляли местных полицейских и захватывали продовольствие, предназначенное для отправки в Германию. То, что немцы не успевали забрать у крестьян днем, партизаны забирали ночами. Мать мне рассказывала, что было страшно, когда днем в деревню, где жила сестра деда, приходили немцы, но еще страшнее, когда ночью заявлялись партизаны. В отличие от немцев, они хорошо знали, где и что можно спрятать, и всегда находили запрятанное. Я, конечно, изучал историю и знаю, что Псков, пожалуй, самым последним из древнерусских городов сдался Московскому царству. Москва оказалась сильнее, но псковские так и не покорились. И усадьбы помещиков здесь горели чаще, чем в других областях, и на дорогах разбойничали. Я и сам не мог понять псковских. Вроде бы работящие, но в основном на себя, вроде бы тихие, но если начинались драки, то деревня шла на деревню, улица на улицу с кольями, вилами, топорами.
Мать говорила, что после войны, которая многих мужиков повыбила, стало поспокойнее, но и нищеты прибавилось.
Я молчал и рассматривал костюм Воротникова, его галстук, ботинки на толстой микропористой подошве. Я о таких мечтал, и не только потому, что они были просто удобными для осенней и весенней красногородской грязи.
Воротников, наверное, хорошо знал такое молчание и понял, что я вряд ли что скажу. Он вынул протоколы допросов из кожаной коричневой папки.
– Дело закрыто, – сказал Воротников. Он порвал протоколы на мелкие кусочки и выбросил их в плетеную корзину возле директорского стола. – Но запомни, скотина, если ты тронешь еще раз моего сына, посажу, и надолго. Выходи.
Я вышел. Воротников захлопнул дверь кабинета и пошел по коридору к выходу.
В том, как он произнес «скотина», было столько ненависти ко мне, что ничего, кроме ненависти, причем ненависти беспощадной, вызвать он у меня не мог. Запомню, решил я тогда. И запомнил. Потом у меня будет еще много встреч с семьей Воротниковых. Старший будет работать в Москве, в ЦК КПСС. Вначале он мне сильно навредит, а потом даже поможет в нескольких ситуациях. А почему не помочь известному киноартисту, ведь земляки. Но я все-таки дождусь своего и размажу его. И он не поймет даже за что. Он забудет про «скотину», но я помнил об этом все эти годы, да, наверное, для него я так и остался скотиной, только удачливой. Он оказался непредусмотрительным. Нельзя оскорблять, потому что оскорбленные могут дождаться своего часа и отомстить.
У меня будет в жизни еще несколько таких воротниковых, с которыми я сведу счеты. Иногда для этого потребуется два-три года, иногда не хватит и десяти лет. Это как в боксе: когда хорошо знаешь противника, нужно только выждать и не пропустить момента, чтобы нанести удар. Но в боксе всего три раунда по три минуты. А в жизни это ожидание может растянуться на десятилетия. У меня случалось по-разному. Одних я доставал сразу, при первой же возможности наносил мелкие, но неприятные удары, и враг уставал от непредсказуемости, от некомфортности жизни в постоянном напряжении в ожидании удара и обычно отступал, иногда искал даже дружбы. Но с такими, как Воротников, по очкам я всегда бы проигрывал, для таких нужен был только нокаут.
Я видел из окна, как Воротников сел в черную «Волгу» – пикап, единственную в районе. После посещения колхоза или совхоза председатели и директора укладывали в необъятный багажник пикапа или молодого поросенка, хорошо прожаренного, или бидон меда, или телячью ногу. Весь Красногородск об этом знал, потому что в маленьком городке скрыть ничего невозможно. То, что Воротников подъехал к школе на «Волге», хотя от райкома партии до школы можно и пешком дойти минуты за три, означало, что это был не приватный разговор, это было мероприятие, хотя мы с ним были один на один. Завтра все в Красногородске будут говорить, что Воротников заезжал в школу, провел воспитательную работу и спас сына Умновой от срока.
Для русского человека очень важно на кого-нибудь надеяться. На Брежнева не надеялись, а на Косыгина надеялись, – должен же быть хороший человек в противовес плохому. Потом надеялись на Андропова, на Горбачева, на Ельцина. И я тоже надеялся, не то чтобы всерьез, но хотелось верить, что когда-нибудь все будет по-другому. Теперь я знаю, что если такое случается, то очень не скоро.
Я вышел из школы. Занятия уже закончились, учителя и ученики разошлись. Я шел один. За день подмерзшие лужи не растаяли, холодный ветер гнал тучи, если не сегодня, то завтра, наверное, пойдет снег. Я шел, засунув руки в карманы куртки, перешитой из черной железнодорожной шинели, тогда шинели еще шили из настоящего сукна. Мать подшила к куртке простеганную на вате подкладку. Может быть, из-за туберкулеза я всегда мерз и поэтому одевался тепло и еще в июне не снимал вельветовую куртку, когда все мальчишки уже ходили в рубашках с короткими рукавами.
И вдруг я увидел Веру, которая стояла у стенда с газетой «Правда». Газету каждое утро регулярно меняли. Когда я проходил мимо, она обернулась и сказала:
– И чем закончился разговор с власть предержащими?
– Протоколы порваны, дело вроде закрыто.
– Он тебя простил?
– Наверное.
Я ничего не сказал про «скотину». Пусть об этом никто не знает. Мое время еще придет.
– Родители сегодня уезжают на семинар в Псков. Приходи ко мне вечером, – сказала Вера.
– Когда? – спросил я.
– После девяти.
Когда стемнеет, определил я. После девяти в Красногородске на улицы уже не выходили. Те, у кого были телевизоры, смотрели программу «Время» или ложились спать, в маленьких городах, как и в деревнях, ложились рано и рано вставали. Перед тем как идти на работу, надо накормить скотину, приготовить обед, обедать почти все ходили домой, в столовую днем никто, кроме иногородних шоферов и вызванных в райцентр председателей сельсоветов, не ходил. Вечером со столов снимали клеенки, стелили скатерти, и молодые парни заходили выпить пива.
– Я приду, – сказал я.
Я зашел в магазин недалеко от своего дома. Магазин оборудовали в бывшей часовне. В нем поместилась одна полка, на которой были выставлены водка, портвейн, конфеты местных фабрик, консервы, хлеб, макароны, соль. Самое необходимое. Перед прилавком больше трех покупателей не помещалось. Старая продавщица ушла на пенсию, и теперь в магазине торговала ее дочь Машка. Я пошел в первый класс, она училась в десятом и запомнилась рыжими волосами и голубыми глазами. Значит, ей года двадцать четыре, прикинул я. Старая, конечно, но до тридцати женщины молодые, утверждал мой сосед-подполковник, до сорока – средних лет, в общем, женщины, пока способны рожать, остаются женщинами, а когда теряют эту возможность, тогда перестают быть женщинами и становятся механизмами для работы.
Я осмотрел бутылки на полке. Шампанского не было, хорошо бы прийти с шампанским, портвейн «Три семерки» брали в основном мужики из-за дешевизны. Я взял портвейн «Ливадия» – крымское вино, которое было в два раза дороже «Трех семерок», и две плитки шоколада «Гвардейский».
«Ливадию» из-за дороговизны брали редко, и поэтому она стояла на самой верхней полке. Машка стала на стремянку, с трудом дотянулась до верхней полки. Платье при этом у нее задралось, выставив стройные ноги и замечательной формы попку. Машка, наверное, знала, что, когда она становится на стремянку, мужики не сводят глаз с ее задницы, она оглянулась и спросила:
– Ну что, хороша Маша?






