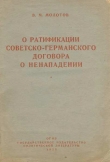Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
15.
Лежу в палате один. Никто пока не тревожит. Врач только. Ощупал поясницу, спросил «больно?». Я ответил, что немножко побаливает. Он удовлетворенно кивнул и сказал, что завтра сделает рентген.
Мучает совесть. Выпрыгнул из самолета, словно пойманный кузнечик из ладошки. «Караул, горим! Спасайся, кто может!» Паникер! Стукнулся ранцем о стабилизатор, парашют сам по себе раскрылся, потому что распоролся ранец! Повезло невероятно. Чуточку ниже, – и разрубило бы тебя, сержант Природин, пополам стабилизатором! Но откуда взялся дым?! Ведь это он меня сбил с панталыку. И тряска...
Вечером, когда уже стемнело, слышу – кто-то спрашивает меня в коридоре. Прикрыл глаза, притворился спящим. Вдруг Тоня?
– Будите, будите, чего там! – слышу знакомый голос Хатынцева.– Пока выпишут, успеет выдрыхнуться!
Сажусь в постели, разглядываю вошедших. С Хатынцевым майор Дзюба. В парадной форме, при звезде Героя. Бородка рыженькая и нос крючком, как у пирата.
– Здравия желаю,– приветствую обоих сразу.
– Здорово, милок! – говорит Дзюба.– Ты куда же драпанул из самолета? Мы его ищем по небу, а он, оказывается, в госпитале!
Оба подают руки. Посмеиваются. Хатынцев запросто говорит:
– В театр приехали, на премьеру. Вот и решили навестить.
– Спасибо, да только... Опростоволосился... Теперь на всю жизнь – пятно.
– Понять не могу, чего ты перепугался? – говорит Хатынцев. – Все шло, как по-писаному. Никаких отклонений.
– А дым откуда? – спрашиваю.
– Дым? – удивляется Хатынцев.– Что-то не заметил. А-а! – вдруг догадывается он.– Так это же из выхлопных патрубков! Когда сбавляешь газ до минимума – всегда мотор чихает, а из патрубков черный дым валит.
– И вибрация тоже? – спрашиваю.
– И вибрация в пределах нормы,– уточняет Хатынцев.– Чтобы свалить машину на крыло и войти в штопор, убирается газ до предела. Скорость создается минимальная, иначе самолет не свалится. Самолет как бы останавливается в воздухе и начинает трястись. Все правильно.
– Честное слово, товарищ лейтенант, я не знал об этом! – оправдываюсь я.
– Вижу, что не знал,– соглашается Хатынцев.– Моя вина. Надо было проинструктировать.
– Ладно, Сергей,– говорит Дзюба.– Давай пойдем, а то опоздаем. Есть хорошая поговорка: «Хорошо, когда все хорошо кончается». И на этот раз она кстати. Выздоравливай, сержант! Вижу, не очень-то ушибся, раз сидишь?
– Чуть-чуть побаливает.
– Ну, ладно, выздоравливай! Спокойной ночи! Утром сделали рентген. Врач сказал, что отделался легким ушибом. С месячишко, мол, полежите, и все, как рукой, снимет.
– С месячишко?!
– А вы как думали! Это, брат ты мой, не санчасть. Это – госпиталь.
После обеда лег вздремнуть. Вдруг в коридоре оживление, и влетают в палату Тоня, Оля и с ними Чары. Не ожидал, что сегодня нагрянут. Тоня опережает всех, опускается на колени и принимается целовать меня. Целует и приговаривает так нежно, как только умеет одна она:
– Маратка, миленький мой. Бедненький... Покажи, где болит. Тебе помочь чем-нибудь? Говори, что тебе надо?
– Ничего не надо, Тонечка, мне хорошо...
– Так уж и хорошо. И ничего не надо?
– Только тебя, – шепчу я ей. – Я соскучился страшно.
– А у меня экзамены. Головы поднять некогда. Все время сижу за учебниками.
– Разрешите хоть поздороваться,– говорит Чары и ставит чемоданчик у кровати.
Тоня садится на край кровати. Оля и Чары пожимают мне руку.
– Ну и врезался ты,– говорит Чары.– На стабилизаторе вот такая вмятина. Ранец в клочки разнесло Теперь весь полк опять спорит. Одни говорят: «Марат перепугался – выпрыгнул». Другие твердят: «Марат решил доказать, что можно с «Ил-10» прыгать!».
– По-моему, нельзя,– твердо отвечаю я.– Только в исключительных случаях. Когда уже терять нечего.
– Вот привез тебе сапоги и все остальное,
Тоня с Олей сразу, как только Чары отошел, начинают забрасывать меня самыми наивнейшими вопросами. Ни одна, ни другая не знают сути дела. Знают, что задел ранцем за хвостовое оперение,—и все. И очень хорошо, что не в курсе. Еще неизвестно, как квалифицировала бы мой прыжок Тоня. Может быть, назвала бы трусом – и баста. Так это и выглядит со стороны, если не вникнуть в суть обстоятельств. Вот и в полку уже спор: струсил или, наоборот, проявил сознательную храбрость с риском для жизни? А я сказал бы: ни то и ни другое. Просто я решил: «Довольно жертв!» и выскочил из самолета.
Девчата принесли мне виноград и яблоки. Оля тотчас берет графин, идет с фруктами к окну и моет их, высунувшись во двор. Там сидят на скамейке больные. Они сразу же – с шуточками к ней. Солдаты, что с них возьмешь? Оля откликается на их шутки, и Чары вдруг вежливо, но настойчиво одергивает ее:
– Оля, прошу тебя, веди себя солиднее.
«Ого! – думаю я.– Видно, Чары не зря каждую неделю получает от Оли по письмецу.»
Чары укладывает в тумбочку привезенные мне вещи, книги и отцовский дневник. Тоня сидит рядом. Ей очень хочется поговорить со мной наедине. Наконец Чары и Оля оставляют нас одних. Тоня радуется, что у меня ничего не болит. А она так боялась, что я сломал позвоночник или ногу. Она обещает навещать меня почаще. Вот только экзамены. Если б не экзамены, вообще бы не покидала меня. Я очень рад.
– Марат,– говорит она перед самым уходом.– Интересно, как бы ты отнесся, если б я сказала тебе, что переведусь в другой институт?
– В какой, другой? В другой город что ли?
– Ну, хотя бы и так...
– Тоня, да ты что?! – У меня перехватывает дух.– Ты шутишь? Ты испытываешь меня?
– Ну ладно, ладно... Уже начал. Я так и знала. Перестань, Марат. Никуда я не перевожусь...
Она уходит. А я остаюсь в полном недоумении: то ли пошутила, кокетства ради, то ли всерьез что-то задумала. Долго думаю о сказанном ею и не могу успокоиться. Лишь к вечеру берусь за стихотворение, но чувствую: настроение у меня отнюдь не лирическое, и открываю отцовскую тетрадь. Принимаюсь за чтение.
«Весну и лето двадцатого мы провели в Восточной Бухаре. Отряд наш под командой Федора Улыбина из Полторацка перебросили в Чарджуй, а здесь поступило распоряжение самого Фрунзе спуститься вниз по течению Амударьи и навести порядки в Керки и далее. Ну, разумеется, не только мы одни посланы были в том направлении. Отправилось в сторону Керки несколько пароходов. Наш отряд разместился на утлом суденышке под названием «Турткуль». С виду пароходишко неказист: мал и обшарпан весь, но все при нем,– и капитан есть, и боцман, и матросы. Даже четыре спасательные шлюпки на борту. Подались против течения. Ползем что называется черепашьим шагом. Проплыли верст сто – вот и первая стычка. Выскочила эмирская конница на берег и принялась палить почем зря. Вреда не принесла никакого, но переполоху наделала. Пришлось капитану держаться противоположного берега, куда и пули-то не долетали. А сами мы даже отстреливаться не стали. Что без толку палить? Федор так и сказал:
– Пущай эмир потешится, отведет душу. Пущай похорохорится!
Вскоре прибыли в Керки. Тут, так сказать, иду г бои местного значения. Эмирские сарбазы в крепости заперлись. Красноармейцы выкуривают их не спеша. Оцепили крепость и ждут, когда у эмирских солдат провиант кончится. Федор прямо с пристани пошел к командиру здешнего отряда, доложился: так мол и так, что прикажете делать?
А тот говорит:
– А делать, дорогой Улыбин, здесь вам нечего. Тут мы и без вас управимся. Вам следует плыть в Чаршангу и дальше, в Термез. Там, по слухам, свирепствуют банды.
– Ну что ж, плыть – так плыть. Поплыли дальше.
На чаршангинском берегу столкнулись опять с конницей. На этот раз нажали на пулеметные гашетки. Перестреляли половину вражеской конницы. В кишлак какой-то ворвались. Федор отдал приказ: мужчин всех брать в плен, а женщин не трогать. Заскакиваем в одну кибитку, в другую – кругом одни женщины. Сидят в углу, закрывшись черной сеткой, так называемой паранджой, и стонут, вроде бы пощады просят. Не трогаем их, спешим в другой двор, в другие кибитки. И тут женщины да дети. Вот те и на. И только это мы на пристань подались, чтобы плыть дальше, тут опять стрельба. Откуда-то мужчины появились. Тут Федор догадался, в чем дело.
– Ну,– говорит,– стаскивайте с них черные сетки и смотрите, мужик или баба. Если с бородой и с оружием – решайте на месте.
Вот тогда-то и началась потасовка. И их мы побили немало, и наших человек пятнадцать полегло. Схоронили прямо на берегу.
Термез заняли наши. Тут мы отряд свой пополнили ребятами из интернационального батальона. Человек десять венгерцев, столько же чехословаков. По-русски бают. Понятливый народ. Да и вояки лихие. Все – за мировую революцию.
Спустились ниже Термеза. Тут нам жарко пришлось. И от солнца некуда деться, и стычки на каждой версте. Действуют, главное, сообразительно, канальи! Небольшими группами. Налетят внезапно и – назад.
А за Термезом, теперь уж точное место и не назову, вот что произошло. Плывем, видим – верстах в пяти от берега крепостица маячит. Беру я бинокль, начинаю рассматривать, нет ли там неприятеля? Гляжу, а это не крепость, а большой мазар. Вроде бы могила святого какого-то. Возле нее лошади. Товарищи мои тоже пригляделись, и пошли догадки, будто .бы у того мазара затаился вражеский отряд. Федор Улыбин такого же мнения.
– Они, шельмы, в тени прячутся, пока солнце печет. А как ночь настанет, так и нападут на наш корабль. Вдарим-ка, братцы, не станем ждать, пока враг революции сам нападет!
Снаряжаем пол-отряда. Командование им беру на себя я, а Федор с остальными остается на пароходе. Часа за два – то перебежками, а то и ползком, – подкрались к этому мазару. Огромное оказалось сооружение. Правда, не очень отделанное. Стены рушатся, подтеки кругом, да и в куполе дыра. Но внушительное сооружение. Когда оцепили, тут я приказал выстрелить пару раз вверх и скомандовал, чтобы выходили с поднятыми руками все, кто есть. Мои бойцы открыли стрельбу. А те – ответный огонь. Стреляют и – к лошадям. Их всего человек десять, потому мы и хотели их взять без боя. А они, стало быть, оказали сопротивление. К лошадям кинулись. И в нас на бегу из винтовок палят. Ну, разумеется, завязался бой. Шестерых уложили на месте, прямо у коновязи, четверо было кинулись к горам, но и их достали наши меткие пули. Врываемся внутрь мазара, а там три женщины возле стены сидят и в голос плачут.
– Кто такие? – спрашиваю, а сам думаю: не иначе, как мужики под бабские черные сетки спрятались.
Подхожу, держу наготове револьвер, если что – влеплю прямо в упор. Срываю с одной паранджу, заглядываю в лицо. Девчонка! Плачет и слезы кулаками растирает по всему лицу. Жалко даже стало. Отвел ее в сторону. Бойцы мои осмотрели двух других: тоже оказались женщинами. Обе старухи. Татарин был один среди нас. Стал их допрашивать. Откуда, мол, и так далее. А эти бабы до того темные, что и кишлака назвать не могут – откуда они родом. Хотел я отпустить их на все четыре стороны, но подумал и пожалел: пропадут ведь. Тут на сотню верст жилья нет. Веду их на пароход. Сдадим властям, там выяснят, кто они и откуда.
– Кто такие? – спрашивает Улыбин.
– А откуда мне знать.
– Зачем же приволок? Думаешь, я лучше твоего знаю, куда их девать?
Татарин наш стал улыбаться им и опять к расспросам приступил. Тут самая старшая разомкнула губы. Долго что-то рассказывала, но поскольку говорила на таджикском языке, а татарин понимал его плохо, то он сделал такой перевод. Тех, кого мы постреляли, люди какого-то бека Исхака. Бека самого пришлепнули, а она, эта женщина, женой ему доводится. И вторая вроде жены или наложницы. А на девчонке он должен был вот-вот жениться, потому что ее привезли ему только вчера из какого-то дальнего кишлака. Татарин спросил, смогут ли они найти свой дом. Нет, говорят, и просят, чтобы не бросали их. Ну, что тут делать? Федор аж побелел весь, с кулаками на меня.
– Ты их отыскал – тебе их и везти властям. Бросить их на произвол судьбы мы не можем. Повезешь в Чарджуй или в Бухару, сдашь командованию.
– Ладно,– отвечаю ему.– Отвезу. Подумаешь делов-то. Им тоже пока спешить некуда. Так что поплавают пока с нами. Вернемся в Чарджуй – пойду в штаб и сдам всех трех.
– Поплавают, говоришь?! – еще пуще обозлился Улыбин.– А ты подумал, чем кормить их будем? У нас на них довольствия нет!
– Но не убивать же их! – кричу.
– Корми, чем хочешь! – выносит он свое последнее слово и отворачивается, вроде и знать меня больше не хочет.
Отвел я им каюту внизу, рядом с трюмом. Поделился своим сухим пайком. Спустились мы вновь к Чаршанге. Тут пересел я со своими спутницами на другой пароход, взял с собой еще одного бойца и отправился в Чарджуй, чтобы сдать женщин командованию. Доплыли без всяких приключений, если не считать, что всю провизию я пустил на женщин. Голодными в Чарджуе высадились. Сутки целые не ели. Повел я пленниц в штаб гарнизона, там какой-то наш, рязанский, недотепа не принимает их.
– А где,– говорит,– документация на баб? Чем ты докажешь, что они в плен взятые?
– Нет,– отвечаю,– у меня никакой документации, кроме моей революционной совести. А ежели мне не верите, что этих женщин мы в плен взяли, то спросите у них самих. Они-то не соврут!
– Нет,– говорит рязанец. – Вы, москвичи, люди ушлые, но меня не обманешь. Где взял этих, туда и веди. Думаешь не знаю – зачем привез их сюда? Знаю, голубчик. Ты их специально приволок, чтобы лишний паек получить. Паек получишь, слопаешь сам, а женщин в сторону.
– Ладно, дрянь ушастая! – кричу на рязанца.– Дай хоть на меня одного продовольствия! Поделюсь с ними.
А этот дьявол осмотрел мои документы и говорит:
– А ваш штаб находится в Бухаре. Поезжай туда, там и получишь продовольствие.
На этом и закончился разговор. Остались мы голодными. Тут смекнул я, что дальше предпринять. В ранце у меня было четыре пачки махорки, пара стиранного белья и две печатки мыла. Решил я загнать все это на базаре да и накормить всю свою компанию. Остановился, думаю, как это дело лучше обтяпать. Подумал, подумал и решил: тащиться на базар всем скопом ни к чему. Говорю татарину:
– Садык, ты со старухами посиди в холодке, а я с девчонкой схожу на базар. Может, что-нибудь принесем...
Но и с этой, с одной, неловко мне идти: при парандже ведь. Отсталый элемент. И вообще все обращают внимание. Стал я стаскивать с девчонки паранджу, она рукавом закрывается, а я ей говорю:
– Хватит дурака-то валять! Ты что – старуха что ли? Да ты еще дитя, а уже от мира прячешься. Разве тебе такая жизнь теперь нужна, когда идет повсюду революция? Ты мне брось это, Сиба. Так ее звали обе старухи, и я обращался к ней так же.
Сиба, конечно, понять не может, что я ей говорю. Только плачет. А я выбросил сетку молчания в арык и повел ее плачущую на базар, чтобы провиант помогла нести.
Приходим на базар. Тут еще «керенки» в ходу и эмирские знаки. Ну, думаю, я не дурак, чтобы вещи на бумажки менять. Тут и опростоволоситься можно. Веду девушку к лепешечной. Аромат тут такой, аж под ложечкой скребет. И Сиба слюнки глотает и голодными глазками по сторонам посматривает. Вынимаю я свое белье и показываю пекарю.
– Сколько дашь за подштанники и рубаху?
Тот взял белье, повертел и выносит две лепешки. Я хотел было потребовать еще, но пекарь отвернулся. Ай, ладно, думаю, черт с ним с бельем. Отломил кусочек и дал Сибе. Она начинает отщипывать и – в рот. Да быстро так, словно курица зерно клюет. А я думаю: нет, погоди, это еще не все. Тяну ее к лавке, где белую мешалду в чашах продают. В жизни ни разу не пробовал, что это такое. Слышал только – сладкая вещь. Подходим. Показываю большую пачку махорки. Он взял, повертел ее и наполнил большую пиалу патокой. Сели мы с Сибой на лавке рядышком и принялись макать лепешки в пиалу, да в рот отправлять. Насытились, веселей стало. Теперь, думаю, надо мыло променять да и топать можно с базара. Тут вдруг торговец сластей подзывает меня, шепчет на ухо по-русски.
– Аскер, продай мне девку. Зачем она тебе? Сколько скажешь, столько и заплачу...
– Ты что, гад! – закричал я на него.– Ах ты, контра проклятая! Людей покупать вздумал! – схватил девушку за руку и ходу от лавочника.
В другом конце базара променял я мыло. Тоже на лепешки. За каждый кусок – лепешку. Теперь всех можно накормить. Возвращаемся на то место, где татарин с двумя старухами остался, а их тут нет. Ни женщин, ни татарина. Неужели сбежал вместе с бабами? Начали мы с Сибой искать их, да где там. Татарин, небось, бросил и сбежал назад в отряд, а женщины тоже пустились в бега. Трусливые ведь. Тем более обе являлись женами какого-то бека Исхака...
Вечером мы с Сибой сели в поезд. Часиков через шесть высадились в Новой Бухаре, а потом и до Старой Бухары добрались. Тут всеобщее ликование, потому что эмира сбросили. Сбежал куда-то эмир Сайд. То ли в Афганистан, то ли еще дальше. Разыскал я штаб командования, доложил комиссару: так, мол, и так, захватил трех женщин. Две у татарина. Одна – вот она стоит. Куда прикажете сдать. Комиссар начинает расспрашивать: есть ли у нее мать и отец, а, может, брат есть? Может, знакомые какие сельские?
– Да нет у нее никого,– возмущаюсь я.– Одного меня и признает. А других знакомых вовсе нет.
– Тогда вот что, товарищ,—говорит комиссар.—Самого Фрунзе по поводу твоей пленницы мы беспокоить не станем. А дам я тебе записку. Ты поедешь и сдашь девчонку в детский приют.
Написал он тут же бумажку, печать пришлепнул. Приказал выдать мне и ей трехдневный сухой паек. Получили мы почти по фунту хлеба, по пачке махры, по три рыбки вяленой и отправились поездом в Ташкент.
Едем молча. Сиба, кроме имени моего, ничего сказать не может. Да и зовет-то попросту, как все меня кличут – Санька Природа. Так два слова все время и произносит. Утром достает лепешку, подает мне, говорит:
– Санька Природа, на! – А глаза у нее словно у маленькой лани. Смотрю на нее и думаю: горе ты мое, да какая же у тебя судьба тяжкая. И жалко становится.
– Вот сдам тебя в интернат, там найдешь себе друзей,– говорю ей.
Она слушает и улыбается, словно понимает, о чем говорю.
Рано утречком прибыли в Ташкент. Тут с хлебом лучше. И вообще с пропитанием хорошо, не то, что в Чарджуе. Позавтракали с Сибой в столовой около вокзала, повеселели оба.
– Ну теперь пойдем в приют.
Наняли извозчика и покатили в сторону Алайского базара. Отыскал я двор детприюта. Вошли. Хорошо тут у них. Аллейки, клумбы с цветами. Видно, еще до революции позаботились. Вошли в дом. Отыскали попечителя. Подаю ему бумагу.
– Ну что ж, спасибо вам,– говорит он.– Много теперь к нам таких, как она, безродных да бездомных поступает.– И опять повторяет: —Спасибо... Будем кормить, будем учить...
– Ну прощай, Сиба,– говорю я и подаю ей руку. Поняла она, что ухожу я навсегда и, может быть, никогда больше не увидимся. За руку схватила и– в слезы. Не хочет оставаться. Принялись мы вместе с попечителем уговаривать ее, чтобы успокоилась. Попечитель-то свободно по-таджикски объяснялся, вмиг ей растолковал: товарищ, мол, ваш – красноармеец. Ему еще воевать надо. Вот когда закончится война, тогда он приедет сюда в гости. А Сиба будет жить тут, как в родном доме, и грамоте учиться.
Успокоилась она. Сняла с воротника своего таджикского платьица какую-то брошку и подала мне.
– Возьмите, чего уж там,– говорит мне попечитель.– Привязалась, видно, к вам. Хочет на память о себе хоть что-то оставить...
Взял я брошь, хоть и за ненадобностью она мне. Поцеловал Сибу, как родную сестренку, в щеки и в лоб, и пошел. Окрикнула она меня:
– Санька Природа! Санька Природа! – И рукой помахала.
Не стану вспоминать о незначительных частностях. Потрепало меня и покидало из стороны в сторону изрядно. С Федором в Азии я больше уже не встретился. Сразу после окончания гражданской послали меня в Мерв. Принял комсомольскую волостную организацию. На первых порах не хотел оставаться тут. Все стремился уговорить высшее руководство, чтобы отпустили в родное Подмосковье, но не тут-то было. Так и остался в Мерве.
Трудно было на первых порах. Заводы хлопкоочистительные восстанавливали. С Бодряшкиным тут встретились: он мне помогал. В села ездил, поднимал бедноту на борьбу с баями.
В конце двадцать четвертого пошел разговор о размежевании народов Средней Азии, о создании республик. Тут как раз седьмая годовщина Октябрьской революции. Дел по самое горло. Ну, как и положено: я – то тут, то там. То в Иолотани, то в Байрам-Али. И вот как-то раз приезжаю в Мерв, а мне телеграмма правительственная: «Срочно быть в Ташкенте, Совнаркоме». И подпись самого председателя. Сообразил я, конечно: видимо, в связи с размежеванием на другую работу решили меня перебросить. Только непонятно, зачем для этого ехать в Ташкент? С этим нерешенным вопросом и прибыл в Ташкент.
Вечером собрались у Предсовнаркома человек сорок, а то и больше, таких, как я,– все бывшие командиры и комиссары гражданской войны. Выкликают одного за другим по фамилии и вручают каждому орден Красного Знамени...
После торжественного вручения наград предсовнаркома велел мне остаться и, когда все вышли, показал на человека, сидящего с краю стола:
– Знаете его?
– Как не знать! – говорю.– Это же товарищ Атабаев. Я его поручение исполнял по возвращению туркменского племени из Персии.
– Так это вы?! – удивился Атабаев.– А я не узнал вас. Были вы тогда подростком, а теперь – богатырь, настоящий комиссар!
И начинает тут Предсовнаркома такой разговор.
Просились, дескать, вы, товарищ Природин, назад в свое Подмосковье. Вот и учли мы вашу просьбу и пожелание. Организует наше советское правительство на базе Реутовской прядильной фабрики школу производственного обучения для бедняков-туркмен... В основном, для туркменок. Поедут туда туркменские девушки и парни учиться прядильному мастерству. Лет этак на пять. Дом построим для них, школу общеобразовательную откроем... А вам предстоит, как коренному москвичу-реутовцу, командовать парадом по устройству туркменской молодежи. Как на такое поручение смотрите?
Я даже растерялся. Возможно ли, в один и тот же день – орденом наградили и что называется предлагают «рыбе прыгнуть в реку!». Я только руками развел.
– Ну, тогда поезжайте в Мерв, готовьтесь. После размежевания, а может, и раньше повезете туркменскую молодежь в Реутов.
Вышел из Совнаркома. В груди все горит, не знаю, чем унять пожар моего счастья. И тут вспомнил: «А почему бы мне не зайти в детский приют? Может Сиба и по сей день там? Сколько ей теперь? Восемнадцать?»
Ничего не изменилось тут. Те же аллейки, те же клумбы. Во дворе ребятишек полно. И нянечка с ними, в белом халате.
– Уважаемая, можно вас на минутку? – обратился я к ней. И вдруг – глазам своим не верю: это же сама Сиба.
– Сиба! Сиба, я узнал тебя!
– Санька Природа! – восклицает она и обнимает меня, как родного. И начинает говорить, говорить, да так чисто по-русски. Никогда и не подумаешь, что таджичка. Выходим с ней со двора.
– Вот, приехал я посмотреть на тебя. И какая же ты красавица стала, Сиба...
– Не Сиба, а Зиба правильно,– поправляет она.– Тогда я не могла тебя поправить, но сейчас запомни: меня зовут Зиба. Понимаешь?
– Ну, чего тут не понять. Зиба – значит Зиба. Была ты девчонкой, ни слова по-русски не знала, а теперь взрослая девушка. И женихи, небось, уже сватаются?
Зиба засмущалась:
– Я тебя все время ждала, Санька Природа. Я тебя одного люблю. Я все время о тебе только думала. Других у меня не будет никогда.
Вот тут и дрогнуло мое сердце. Обнял я ее и поцеловал, но уже не как сестренку.
Тут же в Ташкенте мы и расписались. В Мерв приехали вместе».
Вот, оказывается, как встретились мои отец и мать!
Я долго думал над прочитанным и не мог уснуть. Отцовские записи разбередили мне душу.