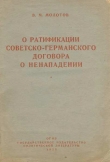Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Тонечка, это уж слишком... Ты такого мне наговорила! Можно подумать, что я и ночей не сплю, как бы тебя не украли. Напрасно ты так... Я целиком согласен с тобой. Любовь, это, конечно, обоюдное ощущение полной раскованности и свободы. Любовь-ревность, любовь-собственность – я тоже не признаю. Другое дело, как от этого избавиться – от ревности и собственности? Тебе не кажется, что полная свобода любви ведет к безнравственности?
– Нет, Маратка, такое мне не кажется. Я люблю тебя, пока мы с тобой на равных правах. Как только ты повышаешь голос – у меня что-то тухнет в сердце. Будь всегда таким, как в день нашего знакомства. И о поцелуе в аллее питомника помни.
– Ох, Тоня, Тонечка, свободная ты моя, – начинаю я нежно шептать ей. – Я постараюсь быть таким, каким ты хочешь меня видеть...
Мы просидели в фисташковой роще до вечера. Солнце уже покатилось на запад, и от вершины холма стала надвигаться тень. Боже, как не хочется вставать. Какая сладкая истома разлита по всему телу. Смотрю на часы: без пятнадцати пять. Тоня говорит:
– Не торопись, Маратка. До восьми еще долго. Успеешь...
– Тонечка, но ведь надо еще в детский магазин заглянуть. Я должен купить Алешке Трошкину штук пять пустышек.
– Кто такой Алешка и что за пустышки? – спрашивает удивленно Тоня.
– Алешка Трошкин – Костин сын. Я же тебе говорил, у моих друзей родился малыш. Ну, а пустышки, по-моему, сосками их еще называют?
– Какое премилое у тебя поручение, – говорит Тоня. – Только надо тебе не в детский магазин, а в самую обыкновенную аптеку.
– Что ты говоришь?
– Ну конечно, в аптеке соски продают. Я как-то видела.
Я надеваю сапоги, гимнастерку, и мы покидаем наше уютное местечко.
Медленно спускаемся с горы. Минуем тот же двор и узкоколейку. Но в питомник не лезем. Идем не спеша по тротуару к аптеке. Она на углу двух улиц, возле театра. Совсем недалеко и дом режиссера Лугового.
– Купим соски, может, и к режиссеру вместе зайдем? – предлагаю я Тоне.
– Ну, нет, Маратка, – возражает Тоня. – Я хочу, чтобы ты проводил меня до общежития...
Спустя полчаса мы с режиссером Луговым несемся по хурангизскому тракту в полк. Луговой расспрашивает, как мои дела, вижусь ли я с Тоней. Я не очень-то распространяюсь.
– А где этот ученый?
– Лал Малахитович что ли? – смеется Луговой. – Ловко ты его тогда окрестил. Он действительно Лал Малахитович. Только и думает о своих камушках.
– Он сейчас здесь? – опять спрашиваю я.
– Ну, что ты! Уехал давно. Съездил на Памир. Вернулся. Несколько дней побыл и улетел самолетом в Москву. А ты все к нему ревнуешь?
– Тоже мне, нашли объект ревности!
– Может, ко мне ревнуешь? – смеется Луговой. – Не ревнуй, сержант. Тонечка твоя действительно одно загляденье. Но поверь мне, у меня нет недостатка в знакомых женщинах. Хочешь, познакомлю с какой-нибудь актрисой? Ты любой понравишься. Таких, как ты, женщины любят!
– Ни к чему, – говорю я с безразличием. – У нас – служба. Не до женщин нам...
– Еще бы! – хохочет Луговой, и мы замолкаем. Восемнадцать километров – от силы полчаса езды.
Вот уже и шлагбаум на контрольном пункте завиднелся. Вот и домики санчасти за деревьями видны. Но что-то там народу так много! Случилось что ли что-нибудь? Я выскакиваю из «виллиса» и тут же останавливаюсь. Все стоят в скорбном молчании.
– Что произошло? – тихонько спрашиваю ребят.
– Лейтенант Большов и сержант Трошкин сгорели в самолете, – отвечает один из них.
– Большов? – переспрашиваю я. – Трошкин? – только тут доходит до меня, что погиб Костя Трошкин. – Как же так? – не могу поверить я. – Где они сейчас?
– Да сгорели же! – строже вразумляет тот же голос. – Одни обугленные куски мяса остались.
Я медленно прохожу к. крыльцу санчасти, поднимаюсь по приступкам и снимаю фуражку. Дежурная медсестра стоит у входа, глаза у нее заплаканные.
– Не надо, не входите, – говорит она. – Не с кем прощаться. Сгорели...
Я стою и верчу в руках пакетик с пустышками. Дорогой я держал соски в руках, вот и сейчас верчу их.
– А Нина... Костина жена, она знает? – спрашиваю трудом.
– Знает, конечно... Утром еще сгорели...
Я спускаюсь с крыльца и иду в сторону бараков, где живет Нина. Шофер догоняет меня, спрашивает:
– Куда артиста-то деть?
– Вези назад! Разве сейчас до него...
Вхожу в барак. В коридоре люди. Двери отворены. Нина лежит на кровати. Она то плачет, то теряет сознание. Три или четыре медсестры около нее. Утешают, успокаивают. Тут же Чары. Он держит младенца...
– Эх, Алешка Трошкин,– говорю я и не выдерживаю, слезы застилают мне глаза...
14.
На другой день похороны. Молча несем два цинковых гроба. Полковой оркестр играет реквием. Костю, без смены, несем мы с Чары; гроб с останками Болынова несут летчики – его ближайшие друзья. Могилы уже вырыты. Две ямы рядом. И две звезды лежат. Их за ночь соорудили ребята из ПАРМа и покрасили алой ацетоновой краской. Здесь же таблички с фамилиями погибших и датами рождения и смерти.
Молча встала траурная процессия. Родные Болынова и Нина Трошкина плачут в голос и причитают, но самое страшное в том, что ни Нина, ни родственники пилота не могут в последний раз взглянуть на погибших. Есть лишь два закрытых цинковых гроба. Нина все время притрагивается к серому цинку и беспомощно смотрит на меня и Чары. Мы понимаем ее, но помочь ее горю ничем невозможно. Сначала командир эскадрильи майор Чернявин, затем Чары произносят слова прощания, потом говорю я, за мной еще несколько человек. И вот гробы один и второй почти одновременно опускаем в могилу и забрасываем землей. Человек двадцать ребят с карабинами, сопровождавшие похоронную процессию, вскидывают стволы и дают прощальные залпы...
Так же молча возвращаемся в авиагородок. Но как только вошли во двор казармы, сразу начинаются еще вчера возникшие толки о том, что Большое и Трошкин могли спастись, но не успели вовремя выброситься из горящего самолета. Толки совершенно бесплодные, потому что никто пока отчетливо не может себе представить, при каких обстоятельствах погибли наши друзья. Произошло это совершенно неожиданно. Самолеты взлетали, уходили «в зону» и, через полчаса возвратись, садились, как обычно. Механики, мотористы и свободные от полетов стрелки тоже как обычно, сгрудившись в кучку, перекуривали и занимались разговорчиками. Среди них был и механик «четверки», на которой улетели Большов и Трошкин. Он стоял вместе с другими и смолил «козью ножку». Изредка он посматривал на часы. И когда они отсчитали двадцать восемь минут с момента взлета «четверки», механик сказал:
– Ладно, я потопал. Сейчас моя «старушка» садиться будет...
Механик отошел, и о нем сразу забыли. И вот минут через пятнадцать вдруг забегал он. Лицо бледное, в глазах страх.
– Братцы,– говорит,– четверки моей что-то нет. Уже давно пора садиться, а ее нет! Осталась всего минута, и бензин кончится.
Авиаторы всполошились. О «четверке» спохватились и на командном пункте. Забеспокоился и заместитель командира полка по летной части, руководивший полетами. Он беспрерывно кричал в эфир по рации: «Со-кол-4», «Я – «Сосна», отвечайте, почему молчите?!» А потом запросил службу ВНОС, и оттуда ответили, что ничего пока неизвестно. Лишь спустя несколько минут доложили, что замечен черный дым в двадцати километрах от аэродрома, в районе Хурангизского перевала. Вот тогда и была поднята тревога. Две пожарные машины, скорая помощь, «виллис» заместителя командира по летной части, а потом и два «студебеккера», на которые сели почти все, кто был на полетах,– помчались к месту катастрофы. Когда подъехали к «четверке», она уже догорала. Но еще с полчаса боролись с огнем, чтобы извлечь из кабин хотя бы останки погибших...
В тот страшный день никто не мог сказать, отчего произошла катастрофа. И сегодня, после похорон, знали не больше. И высказывали одни отвлеченные соображения, говорили, если б Большов и Трошкин бросили самолет в воздухе, то спаслись бы. Другие оспаривали: теоретически с «Ил-10» вообще нельзя прыгать с парашютом. Прыгающий непременно разобьется о стабилизатор, потому что скорость самолета большая, а расстояние между крыльями и хвостовым оперением слишком малое.
– Но как же на фронте выпрыгивали? – вступаю я в спор.
– Кто выпрыгивал?! – тотчас наскакивает Ванька Мирошин.– Не было еще такого случая!
– Ну-да,– говорю я спокойно.– Случаи бывают только с одним тобой... А о воздушном стрелке Юзе ты слышал?
– Кто такой?
– В нашей эскадрилье до сорок шестого года числился.
– Не знаю, я в сорок седьмом в полк прибыл.
– Ну, не знаешь – и не шуми,– говорю я.– А если хочешь знать, то я тебе скажу: Юз был стрелком у комэска Брусницына, которого посмертно орденом наградили. Вот в этом воздушном бою, когда подожгли самолет Брусницына, воздушный стрелок Юз успел выброситься с парашютом и благополучно приземлился. Правда, на фашистской территории. Потом двое суток добирался до расположения части. В сорок шестом Юз демобилизовался.
Споры продолжаются, а меня зовут к телефону. Звонит подполковник Бабаев:
– Природин, завтра комиссия начнет расследование. Будут осматривать остатки самолета. Поезжай на место происшествия и попробуй отыскать очевидцев гибели летчиков. Это очень важно...
На следующий день, после завтрака, мы выехали к месту катастрофы. Минут десять ехали по Хурангизскому тракту, затем свернули на проселочную дорогу и устремились к горному перевалу. После того, как миновали куткудукский гужевой мост, свернули налево. Еще пропылили километров пять и – вот оно, место катастрофы. «Четверка» распластана у обочины дороги. Ее стащили с проезжей части с помощью трактора и пока оставили тут. Офицеры обходят «четверку» и останавливаются возле мотора. Попробуй тут установить причину, когда огонь все выжег – все трубки и патрубки. Нелегкая задача. Мимо по дороге проезжают машины и конные повозки. Я выхожу на дорогу, спрашиваю едущего на коне таджика:
– Рафик, где тут ближайшее селение?
– Здесь, рядом,– указывает он кнутовищем.– А кого тебе надо?
– Мне нужно найти хотя бы одного человека, который видел, как разбился этот самолет.
– Рахим-уста, седельщик наш, видел, – говорит всадник.– Если хочешь, пойдем, покажу где живет Рахим-уста.
Я иду рядом с едущим всадником. Он мне рассказывает: Рахим-уста возвращался на арбе из города домой, и на него чуть было не сел горящий самолет.
Селение действительно рядом, за холмом. Две улочки и глинобитные дома, огороженные дувалами. Во дворах – цветущие деревья.
– Вот тут он живет,– показывает всадник. И кричит по-таджикски, вызывая хозяина.
Выходит белобородый старикашка. Низенький, в халате и тюбетейке. Всадник объясняет ему, зачем я пожаловал. Старик понятливо кивает головой и говорит чисто по-русски:
– Ты сам-то кто? Русский или таджик? Вроде бы и на того и на другого похож.
– Рахим-уста, вы видели, как упал самолет? – спрашиваю я.
– Как тебя сейчас вижу, так и его видел,– с готовностью отвечает дед.– Я как раз возвращался из Хурангиза. Рано утром отвез седла на базар. И вот, еду назад, вдруг слышу – за моей спиной что-то очень сильно гудит. Повернулся, вижу: летит на меня горящее чудовище. Я лошадь кнутом ударил. Та испугалась, потащила арбу, думал, перевернемся. Бью ее по спине, а сам оглядываюсь. Вот совсем близко чудовище. Вот сейчас раздавит меня вместе с лошадью. Я уже подумал: «Ну вот и пришел твой смертный час, Рахим-уста». И в этот момент всевышний услышал мою молитву. Горящее чудовище, которое оказалось самолетом, вдруг поднялось надо мной вверх, пролетело еще немного и упало надорогу. И тут же взорвалось. Я туда-сюда забегал, «караул» начал кричать, прибежали наши из кишлака, но разве поможешь?
– Рахим-уста,– говорю я.– Насколько я вас понял, произошло это так. Летчик, поняв, что может раздавить вас вместе с лошадью и арбой, поднял самолет вверх, чтобы не задеть, и потом упал?
– Именно так, сынок. Пожалел он меня, а сам пропал.
– Рахим-уста, это очень важные сведения,– говорю я. – Вы можете написать все это на бумаге?
– Могу, сынок. Сейчас позову внуков, они напишут. Сам-то я неграмотный. Только фамилию свою могу написать.
Тут он позвал ребятишек, и один из них, постарше, записывает со слов деда, как произошла катастрофа. Старик расписывается и приговаривает:
– Люди видели, как на меня он хотел сесть, а потом поднялся вверх и упал. Люди не соврут, если мне не веришь... Свидетели есть.
– Не надо свидетелей, Рахим-уста. Мы верим вам. Спасибо.
Я пожимаю старику руку и отправляюсь к сгоревшему самолету. Теперь мне совершенно все ясно: Большов в самую последнюю минуту, когда их жизнь висела на волоске, когда была еще маленькая надежда спастись, пожертвовал последней возможностью. Они погибли во имя жизни этого старика-седельщика.
К обеду мы возвращаемся в часть. Я сразу иду к Бабаеву, рассказываю все, что удалось выяснить, и отдаю ему письменные показания старика. Бабаев читает н согласно кивает головой:
– Они совершили геройский поступок. Подумать только, сколько гуманности в их поступке! Знаете что, сержант Природин,– говорит замполит.– Изложите все это и поместите отдельной главкой в истории нашего полка. В окружную газету тоже напишите. И – покрасочнее! Не стесняйтесь возвеличивать достойных. Это – подвиг мирного неба!
– Слушаюсь, товарищ подполковник.
Проходит неделя, другая, и жизнь входит в свою привычную колею. Опять – матчасть, опять полеты.
О смерти Кости стараются не говорить. У всех иная забота, и вопрос один и тот же. Спрашивают шутливо:
– Ну, как тут поживает наш Алешка Трошкин? Вот тебе пол-литра беленькой, держи!.
Нина каждый раз отказывается, поскольку молоко для сынишки она берет в санчасти, да и Рустам-бобо – председатель колхоза, – со своим шофером присылает. Все, конечно, об этом знают. Но всякий несет заветную «бутылешку». Нина побледнела, осунулась, постарела сразу. Мы с Чары рассказали ей подробности гибели Кости и Большова, дали понять, чтобы гордилась своим мужем. Не знаю, помогло ли, но слушала Нина внимательно. И лишь сказала:
– Так просто они, конечно, не отдали бы жизнь...
Недели две я не звонил Тоне. Не до этого было. Наконец, когда Чары получил очередное письмецо от Оли и передал мне привет, я спохватился и сразу же – на коммутатор.
– Здравствуй, Тоня...
– Как живешь, Маратка? Почему не звонишь и не пишешь?
– Дел много, занят очень...– Не скажешь же ей по телефону, что у нас случилось.
– А на литобъединение ты приезжаешь?
– Нет, Тонечка. Два собрания уже пропустил.
– Эх, ты, горе-поэт. Ну, приезжай, я очень жду тебя.
Проходит еще несколько дней. И вот опять серьезнейшее событие. В полк пришли контейнеры с учебными пособиями по изучению новой техники. Контейнеры привезли с вокзала на «студебеккерах», сгрузили, вскрыли и весь день развешивали в классах плакаты, схемы реактивных самолетов и моторов. Тут же пошли толки: полк переквалифицируется на реактивные истребители. «Ил-10» уже устарел. Не та скорость, и маневренность не та. Разумеется, переход на реактивную технику произойдет не сразу, потребуется время. Поэтому пока что будут проходить теоретические занятия и сдача экзаменов по турбореактивному двигателю. Сразу же в эскадрильях стало известно: всему летному составу вменено освоить на «Ил-10» фигуры высшего пилотажа: «штопор», «мертвую петлю» и «бочку». Фигуры эти с успехом выполняют летчики-истребители. На штурмовиках же освоили высший пилотаж пока лишь одиночки. Но штурмовик «Ил-10» просто обязан вертеть «штопора» и закладывать «мертвые петли». Ведь он выполняет функции истребителя и бомбардировщика одновременно.
Вскоре узнаем: образована инструкторская группа асов. В нее вошли Герои Советского Союза – Дзюба, Михайлов и еще несколько летчиков, в их числе и мой командир – Хатынцев. А это значит, и мне придется подниматься ввысь и падать в диком штопоре в синюю бездну. У меня заранее захватывает дух.
Встретился в коридоре во время перерыва с Хатынцевым. Он спрашивает шутливо:
– Пользовался когда-нибудь штопором или вилкой шампанское открываешь?
Я уже знаю, о чем речь. Отвечаю в его же тоне:
– Когда будем открывать шампанское?
– Ну, ты у меня прямо молодец! – смеется Хатынцев.– С полуслова понимаешь. А если серьезно, то так. Прежде всего скажи, как настроение? Как нервишки?
– Пугаете, товарищ лейтенант?
– Ни в коем случае. Просто хочу, чтобы собрался. Чтобы все налицо: воля, спокойствие, выдержка.
– Постараюсь, товарищ лейтенант.
– Ну, тогда будь здоров. Я за тебя спокоен.
Полеты по выполнению фигур высшего пилотажа назначены на среду. Привожу, что называется, себя в порядок. Книг не читаю, о любви не думаю, сплю крепко и ем с завидным аппетитом. Во вторник под присмотром инструктора парашютной подготовки стрелки собственноручно укладывали свои парашюты. После обеда занимались физподготовкой: прыгали через «козла», крутились на турнике и играли в футбол. В среду – подъем в шесть утра. Надел комбинезон, шлемофон, взял парашют и отправился прямо на взлетную полосу. Вскоре со стоянки, следом за героями-асами, вырулил «двойку» Хатынцев. Поздоровались. Спросили друг у друга о самочувствии. У обоих настроение бодрое. Я надеваю парашют и залезаю в свою кабину.
Полеты ответственные, но проходят без всякой «помпы». Как всегда, на старте рация и обыкновенный стол, за которым сидит хронометражист. Стартер с флажком прогуливается. Вот отправляется в небо Дзюба. Самолет уверенно разбегается и горкой взмывает вверх. С этого момента мы следим за ним, стараясь ни на секунду не выпустить из поля зрения. Самолет Дзюбы забирается все выше и выше. Поблескивают на солнце крылья, доносится ровный гул, и вот «Ил» вошел в штопор: делает три витка и выходит в горизонталь, теряясь на темном фоне Хурангизских гор.
– Молодец,– удовлетворенно отмечает Хатынцев. И тут вызывают на старт нас.
Я опускаю фонарь, усаживаюсь поудобнее и чувствую, как замирает сердце. Нет, не страх и не какое-то дурное предчувствие тревожат душу. Просто волнует сама необычность полета. Когда не знаешь, что именно тебя ожидает, всегда волнуешься сверх меры.
Вырулили на старт. Самолет разбегается и уверенно отрывается от земли. Я не перестаю думать о предстоящем «штопоре», и это начинает меня раздражать. Раздражает то, что никак не могу заставить мыслить о чем-то ином, О Тоне, например. Если уж Тоня не идет на ум, значит, что-то неладное со мной. Значит, действительно шалят нервишки. Но, спокойней! Спокойней, сержант Природин! Ты же не красная девица. Ну, войдет самолет в спираль, повертишься белкой в кабине. Подумаешь, беда-то какая!
Забираемся все выше и выше. Внизу, между крылом и стабилизатором, зеленые квадраты хлопковых полей и желтые глиняные кишлаки.
– Грым, кр-рым! – звучит в наушниках шлемофона.
– Повторите, не понял,– кричу Хатынцеву. Снова такие же звуки. Все ясно: шлемофон у меня неисправен. Все, кажется, предусмотрел, а шлемофон не проверил. Ну и балда!
– Грым-крым-прум, ш-ш-м-уууу! – вновь трещит и свистит в наушниках.
Хатынцев что-то говорит мне. А может, и не мне? Может, что-то неладное? Я начинаю прислушиваться к мотору. Да нет, мотор работает нормально. И вот опять:
– Грррр-шшшш – уууу!– заворчало и волком взвыло в шлемофоне. И самолет вдруг весь затрясся, словно в лихорадке. Вибрация неимоверная. Мотор тоже зачихал, зафыркал. Черный дым окутал мою кабину. «Горим»,—мелькнуло у меня в сознании. Я поворачиваю рукоятку, отбрасываю фонарь и вылезаю из кабины. Меня подхватывает сильной струей воздуха, и я лечу в пространстве. Ранцем задеваю за что-то и кувыркаюсь, кувыркаюсь беспрестанно. Рука моя лихорадочно ищет кольцо парашюта. Я в паническом ужасе, потому что потерял кольцо и не найду его никак. Но вот парашют раскрылся.
– Уфф! – выдыхаю я радостно, поняв, что купол парашюта надо мной. И тут вновь меня охватывает страшное отчаяние. «А как же Хатынцев! Выбросился он или не успел? Неужели не успел?!» Я ищу в небе купол его парашюта, но ничего не вижу. Везде синева, а внизу зеленые поля...
Приземляюсь в арык на окраине хлопкового поля. И когда шлепаюсь в воду, чувствую, что на левой ноге у меня нет сапога. Куда же он делся?
Ко мне бегут, поднимая пыль на дороге, колхозники. Детвора приближается раньше других. Затем – трое или четверо мужчин. Все в халатах и тюбетейках.
– Ого-го! – говорит один обрадовано.– Молодец! Хорошо летел!
– Самолет где? – спрашиваю я не своим голосом.– Летчик где? Летчик спасся?
– Какой самолет? Какой летчик? – понять не может таджик.– Самолет на аэродром улетел. Летчик в самолете.
– Значит, самолет не упал?!
– Нет... Зачем самолет упадет? Самолет несколько раз перевернулся, потом на аэродром – кетты!
– А где же сапог мой? Вот с этой ноги? – показываю босую ногу.
– Не знаем, где сапог,– отвечает таджик.– Вот на, выпей,– черствые мозолистые руки подают большую пиалу. Пью. Оказывается, это кислое молоко. Пью, а они принимаются расспрашивать, зачем я прыгнул. Попробуй им объяснить, зачем я прыгнул, когда и сам не знаю – зачем.
Сижу и думаю: сейчас приедут. Конечно. Вот они. Несутся сразу четыре автомашины. Самая первая – «скорая помощь». Из нее выскакивает наш полковой врач и Нина. Боже мой! Я сгораю со стыда. На лице Нины жалостливая улыбка. Из второй машины выскакивает заместитель командира полка по летной части. Спрашивает:
– Жив? Ну, слава богу... Что случилось, сержант? Почему выпрыгнули из самолета?
Я не знаю, что отвечать, и мое молчание истолковывается так, будто я от падения не пришел еще в себя или вообще потерял рассудок.
– Слушайте, подполковник,– говорит военврач.– Вопросы сейчас излишни. Пострадавшего немедля надо доставить в госпиталь.
– Ну, что ж, везите. Потом доложите о его состоянии!
Меня берут под руки, сажают в «скорую помощь». Мы «ковыляем» некоторое время по проселку, затем выезжаем на Хурангизский тракт и прибавляем скорость.
– Что с летчиком? – спрашиваю у сидящих.– Лейтенант Хатынцев жив?
– Молчите. Вам нельзя говорить,– строго произносит врач.
– Да вы что! – возмущаюсь я.– Я совершенно здоров. Скажите же, наконец, жив Хатынцев?!
– Жив, жив,– откликается Нина.– Что с ним сделается? Слетал, сделал «штопор», вернулся и сел. Ты-то зачем выпрыгнул? Переполошил весь полк. Глядим: садится самолет, а фонарь на кабине стрелка открытый. Спрашиваем у Хатынцева, куда стрелок твой делся, а он знать не знает. Опешил от удивления, чуть дар речи не потерял. Подумали, что ты разбился. Повезло тебе, Марат. Слава богу. Я уж думала, опять...
Я ничего не ответил. И за всю дорогу до самого госпиталя, пока меня не сдали с рук на руки врачу в приемном покое, не сказал ни слова. Лишь когда стала Нина со мной прощаться и утешать принялась, чтобы не нервничал и не переживал, мол, всякое в жизни бывает, я попросил ее:
– Скажи Чары, чтобы привез книгу. В тумбочке там. И тетради отцовские... Он знает. Да! Сапоги еще. Хромовые... Эти я...
Я чуть было не сказал, что потерял один сапог в воздухе, при прыжке. Но вовремя спохватился. На смех поднимут...