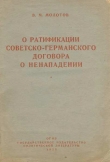Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
16.
Опять ищу телефон. Для меня это вечная проблема. Там, в полку надоедаю Маше Михайловой, здесь придется атаковать главврача, потому что телефонный аппарат в его кабинете. Днем от него не позвонишь, а вечером можно. Улучив момент, быстро набираю номер общежития. Трубку поднимает комендантша. Узнала по голосу.
– Тони нет! – отвечает охотно.– Она уехала к матери на Куткудук.
– А что случилось, не знаете? Экзамены же идут!
– Да какой-то, не знаю кто, позвонил из Москвы. Она обрадовалась, говорит «наконец-то!» Потом денька через два пришло извещение, побежала на почту, получила какие-то путевки и уехала к матери.
– Непонятное что-то творится,– говорю я.
– Да разве их поймешь, этих вертихвосток! – отзывается тетя Шура.– Молодые все. Как лошадки носятся. То туда, то сюда.
– Ну, ладно,– говорю,– спасибо вам.
Хожу до полуночи и думаю: что же там стряслось? Кто позвонил из Москвы? Неужто опять Лал Малахитович? Конечно, он, кто же еще! «Давлю» ревность, но не могу справиться с собой. Даже строчку успокоительную придумал:
Покуда нет огня,
«горю»
не стоит говорить!
Но разве можно переубедить себя! Думаю о самой сути любви. Что есть любовь? Мне кажется, высшая точка любви или ее апофеоз, это – нравственная и физическая близость влюбленных. Это несомненно так! Но, может быть, есть и более высокий критерий, который недоступен моему уму? Например, совокупность любви с какими-то иными чувствами: с чувством благодарности, с чувством долга, с чувством страха? Это психологические дебри, в которые нет смысла забираться: только запутаешься в лианах этих всевозможных чувств. Терпение, Марат. Вот что главное сейчас для тебя. Не делай поспешных выводов, иначе опять «выпрыгнешь из самолета»...
Жду. Немножко успокоился, поскольку все-таки знаю, где находится Тоня. И вот на десятый день приходит. Немножко смущена, лицо побледневшее, глаза стали еще голубее и еще больше. Поцеловала торопливо, словно все эти десять дней бежала и пока еще не остановилась. Выходим во двор, садимся на скамейку.
– Что-нибудь случилось?
– Да, Марат, случилось... Не помню, говорила я тебе или нет, что у мамы моей неврастения... В тяжелой форме... Ну так вот. Долго мы с ней добивались путевку в Сочи, никак не могли достать, один человек поспособствовал... Прислал путевку. Я поехала к маме, отправила ее на Кавказ... Так что, вот так...
– А отчего у твоей мамы неврастения?
– Боже, не задавай пошлых вопросов. Я же тебе говорила об отце, о том, как он нас оставил.
– Да, да, прости... Ну и что, в Сочи излечивают неврастению?
– Послушай, Марат, по-моему ты сегодня задаешь только глупые вопросы.
– Может быть...
Я и сам чувствую, что покинула меня былая фантазия. Тоня права, не надо говорить пошлости. Лучше молчать. Я пытаюсь обнять ее, она снимает с плеча мою руку:
– Ты можешь посидеть спокойно?
– Могу, отчего же нет...
– Марат, я устала... Понимаешь, устала. Бесконечные хлопоты и потом – эти экзамены. Ты не обидишься, если я уйду?
– Ну, если устала... Конечно, иди.
Тоня чмокает меня в лоб. Я пытаюсь схватить ее за руку, она вырывается и спешит к проходной.
Сижу один. Прекрасно сознаю, что чувства благодарности, которые она обязана выразить москвичу, сейчас куда сильнее ее любви ко мне. Надо поговорить с ней начистоту. По-моему, она больше не любит меня...
Еще раз она пришла ко мне через три дня. Принесла опять виноград и яблоки. Я обиженно молчу и даже не пытаюсь вернуть ее расположение. Она понимает, что я уже догадался о предстоящей размолвке. Она видит, как я боюсь ее роковых слов. Да и сама она их боится. Тоня не может произнести их. Это сверх ее сил. Сначала она жалостливо смотрит мне в глаза, как бы ища прощения, затем начинает плакать.
– Что с тобой?
– Ничего, Марат, просто так. Просто мне жалко тебя.
– Жалость – это не любовь, Тоня,– говорю я.– Жалость – это потеря любви. Мы всегда жалеем, когда что-либо теряем. И от этого порой даже плачем.
– Мы разные с тобой, Марат,– произносит отрешенно Тоня.
– О чем ты говоришь? Опомнись?
– Разные, Марат. Ты ведь ничего обо мне не знаешь... И очень хорошо, что ничего не знаешь. Поцелуй меня, Марат...
Целую ее. И с беспощадной ясностью сознаю, что это наш последний поцелуй. Тоня встает и, всхлипывая, уходит. Я не могу унять дрожь.
– Тонечка! – зову я.– Ты еще придешь?
– Я напишу тебе, Марат!
Через несколько дней я выписался из госпиталя. Ничего нигде у меня не болит, только странная пустота заполнила все мое существо. Апатия невероятная. Не могу смириться, что между Тоней и мной все кончено, хотя понимаю прекрасно – она оставила меня. Единственное желание – узнать, к кому она все-таки уехала, заставляет меня зайти в пединститут. В комнате я застаю Олю. Увидев меня, она испуганно суетится:
– Ой, Марат! А я собиралась пойти к тебе!
– Зачем?
– Ну, сказать о Тоне и передать вот это.
Оля достает из сумочки письмо и подает мне. Разворачиваю листок, читаю:
«Маратка, милый, прости! Я перевелась в московский университет и уехала отсюда навсегда. Я уже говорила тебе о болезни мамы и о путевке в Сочи. Но я тебе не сказала, что тот самый человек устроил мне перевод из хурангизского института в московский университет! Я уезжаю в Москву. Это моя судьба. Но ты не отчаивайся, мой милый, мой родненький. Другого такого, как ты, у меня никогда не будет. Я оставила тебя, но я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Просто, как я поняла, любовь и судьба – вещи совершенно разные. Ты понимаешь меня, милый? Поверь, что я никогда не смогу полюбить человека, который старше меня почти на тридцать лет. Но и с тобой у меня не будет счастья. Разные, разные мы...»
С трудом сдерживая нервную дрожь и горечь потери, я положил письмо в карман гимнастерки, попрощался с Олей и пошел на вокзал. До отправления поезда было еще много времени. Я ходил по перрону и смотрел в сторону нашего авиагородка. И думал о том, как долго еще мне служить.
Часть вторая. Трудный грунт
1.
Ашхабад строится.
Над низкими кварталами времянок маячат башенные краны, тут и там вырастают стены зданий и жилых домов. Вот и многоквартирный дом на улице Чехова: он тоже – ничего. Мы получили в нем трехкомнатную квартиру на первом этаже. Две комнаты занимают мама с отцом, третью отдали мне: бывшему сержанту Марату Природину, ныне сотруднику молодежной газеты. Мне отдельная комната – вот так нужна. Днем я в -редакции или где-нибудь «в бегах за материалом», а вечером и ночью пишу. Пишу при закрытых дверях. Я люблю, чтобы не было ни шороха, ни звука. Это я раньше мог сочинять под гром авиамоторов, а теперь нет. Пишу обо всем. Газетные полосы ежедневно заглатывают столько материала, что не успеваешь выдавать «на гора».
Ложусь поздно. Просыпаюсь в восемь. Мама начинает накрывать на стол, звенит посудой и оповещает певучим голосом:
– Маратка, вставай!
Потом, минут через пять, еще раз:
– Вставай, Маратка! Опоздаешь на службу!
Слово «служба» произносят в нашем доме постоянно. Раньше, еще до войны, принято было говорить у служащих «пошел на службу», «вернулся со службы»: вот и прижилось это словцо в нашей семье. Но меня оно всякий раз словно взбадривает. Мне так и кажется, что надо идти на матчасть. В сознании моем мгновенно возникает Хурангизская долина, казармы, аэродром и в сердце закрадывается щемящая грусть по былому, хотя с того дня, как я демобилизовался, прошло целых четыре года.
Когда я, побрившись и умывшись, выхожу к столу, отец уже попивает зеленый чай и покрякивает удовлетворенно. В молодости, судя по его записям, он был парень – «сорви-голова». Но сейчас это степенный шестидесятилетний пенсионер, без одной ноги. От былой его лихости почти ничего не осталось. За долгие годы тяжелой организаторской работы – в райкоме, обкоме и ЦК, его командирская лихость сменилась деловитостью. А теперь, после того, как он ушел на пенсию, к деловитости прибавилась и ворчливость. День он свой начинает с самых мелочных замечаний:
– Зиба, ну чего ты опять гремишь чашками? Неужели нельзя потише!
Меня он встречает тоже давно заношенной фразой:
– Ну, что там у тебя?
Под этим вопросом подразумевается все сразу: как дела в редакции? Почему вчера поздно пришел и где был? Есть ли в сегодняшнем номере газеты статья или зарисовка под моей подписью? Отвечаю я ему тоже односложно:
– Порядок...
Он вполне удовлетворяется моим ответом. Ему все становится ясно.
Отец на пенсии, но я бы не сказал, что он проводит дни в праздности. Не успел он получить пенсионное удостоверение, как его избрали сразу в несколько советов: в совет ветеранов при филиале НМЛ, в совет по культурно-просветительной работе при домоуправлении, в совет ветеранов прядильно-ткацкой фабрики. Время от времени он выполняет поручения: то расследует жалобы, то организует что-то. В общем, скучать не дают...
Что касается мамы,– она, как и прежде, трудится в райисполкоме. И вообще, она – удивительный человек. Всегда всем довольна. Вернее, никогда не высказывает никаких недовольств. Разве что – когда заступается за женщин. Участок ее работы – женсоветы. Чаще всего она жалеет многодетных матерей и распекает мужей.
Раз в месяц мама, словно по заведенному распорядку, получает из Реутова весточку от Веры Улыбиной: подружка мамина еще в пятьдесят первом вновь переехала в Подмосковье. Жила в Ашхабаде с самого двадцать девятого, со дня пуска текстильной фабрики, и вот уехала. Живет она там у отца. Скучно тут стало одной, без семьи. Дети выросли – разъехались, а мужа похоронила вскоре после землетрясения. Но, пожалуй, основная забота у мамы – это я. Мне уже двадцать шесть, но пока у меня даже нет знакомых девушек, и это пугает маму.
У меня, действительно, появилось какое-то равнодушие к ним. То ли слишком разборчив стал, то ли работа все мое свободное время отнимает. Иногда вспоминается Тоня. Обычно после того, как мне передают от нее привет. Случается это редко, но бывает. А приветы передает из Мары Оля, жена Чары. Чары, хоть и не значился «в списке полковых сердцеедов», но со службы вернулся с законной супругой. И ей стала любимая Тонина подружка, кудрявая Оля. Она переписывается с ней. Вот и подбрасывает мне изредка приветики из Москвы. В понедельник, как обычно, у нас в редакции планерка. Собрались в кабинете редактора. Человек восемнадцать-двадцать. В основном, недавние студенты вузов и бывшие воины. Все пишущие. Одни хорошо, другие кое-как. Балашов ходит «в лидерах». Он уже четыре года в «комсомолке». Покинул радиокомитет, но связи с ним не прерывает. Успевает и тут, и там. Эдик раздобрел. Это стокилограммовый гигант с загадочной улыбкой на мясистом лице. По-прежнему он отдает предпочтение лирике. Но увы, он все еще не закончил поэму о фламинго и, разумеется, пока что не ответил на главный вопрос жизни: почему у фламинго розовые ноги? Эдик – заведующий отделом комсомольской жизни. У него два литсотрудника: Природин – то бишь я, и недавний студент ленинградского университета Юра Рябинин. Тоже лирик. Но в отличие от Эдика пишет не о фламинго, а о скворцах. Причем эти стихи о скворцах недавно напечатал журнал «Смена». Юра принял эту публикацию довольно хладнокровно, а Эдик произнес мечтательно: «Москва, Москва, как много в этом звуке!..»
На планерке Эдик «глаголит» от имени всего отдела:
– Значит, планы у нас таковы,– говорит он, глядя на ответственного секретаря Володина, который сидит сбоку редакторского стола.– Рябинин сдаст материалы рейда по строительным объектам...
– Сколько строк? – перебивает рыжекудрый Володин.
– Триста...
– Что еще?
– Еще Природин строк двести. Завтра приезжает делегация текстильщиков Реутова.
– С ума сойти,– ухмыляется Володин.– А как с каналом?
– На канал поеду сам,– чуть тише, но значительно произносит Балашов.– Видимо, будет очерк. Вчера я встретил секретаря керкинской газеты, Бердыназара. Он такое рассказывает!..
– Отлично,– перебивает Володин и смотрит в сторону заведующего школьным отделом.
После планерки отправляемся всем скопом выпить по кружке пива. В закусочной Артабаса с полсотни завсегдатаев. Оранжевая металлическая цистерна стоит под фанерным навесом. Пивник нас знает и малость побаивается: ведь только комсомольцы могут себе позволить бестактность! Ну, например, напишут, что Артабас построил собственный дом из шести комнат на пивной пене! А такой карой ему уже не раз грозили.
– Эдик, родной мой, как живешь? – кричит он, орудуя насосом.– Подойди сюда, я сейчас. Эй, посторонитесь немножко! Не видите разве, люди ко мне пришли! Сколько вас? – опять кричит он.
– Шесть душ, Артабас! – отзывается Эдик.
– Сейчас нарисуем. Один момент!
И вот, мы стоим в холодке и, посмеиваясь над запуганным пивником, пьем пиво.
– Пугать надо – обирал и шарлатанов! – злорадствует Эдик.– Только так можно их призвать к совести.
А вообще-то это первый пройдоха. С газировки же начинал! Вот она газированная будка. Под ней мы и стоим. И стихи мои. Это я ему написал!
Юра смотрит вверх, где на фанерном щите яркими алыми буквами выведено:
Что за сироп! Что за вода!
Жажду всегда утоляет она!
Пил бы ее с утра до темна!
Жаль, что емкость не позволяет моя!
– Великолепные строки! – восклицает Рябинин.– Классика! Интересно, поэма о фламинго тоже в этом стиле?
– Стиль у меня один,– строго отзывается Эдик.– Лирический...
– Твое счастье, что милиция не разбирается в поэтическом мастерстве. Будь я милиционером, вкатил бы тебе пятнадцать суток! – говорю я.
Эдик Балашов краснеет и шмыгает носом. Кажется, я немножко перегнул. Не понравилась ему моя фамильярность.
– Сразу видно, что в стихах ты – ни бум-бум,– не слишком сердито начинает нападать Балашов.– Но хотя бы имел уважение к старшим. Почитать надо старших по должности. Нехорошо, товарищ Природин!
– Ладно, исправлюсь,– отшучиваюсь я.– А вообще-то непонятно, для чего ты сочинил такую ересь?
– Стихи как стихи! – раздражительно говорит Эдик.– Конечно, не классика... Но посмотрим – что выдашь ты! Хоть бы о реутовцах! Кстати, не забудь выяснить, в какое время прибывает московский...
– Тогда я пошел...
– Я тоже,– присоединяется ко мне Рябинин.
В редакции мы садимся за письма юнкоров. Каждое утро приносят до сорока писем на каждый отдел. Пропусти только день, не ответь авторам, и тогда вообще будет трудно справиться с потоком корреспонденции. Садимся, обрабатываем письма в очередной номер. На большинство писем приходится давать ответы. Тут банальная поговорочка «газета – не резиновая» – прямо кстати. Отбираем в печать самое значительное. Вести со строек и промышленных объектов, письма из комсомольских организаций. Жалобы оставляем на проверку. Когда их собирается в достаточном количестве, кто-нибудь из сотрудников начинает заниматься их проверкой.
Перед уходом с работы звоню в ЦК комсомола, спрашиваю о приезде реутовцев. Поезд, оказывается, прибывает в седьмом часу утра. Встреча солидная: будут корреспонденты всех газет, радио и киношники.
Вечером прихожу домой. Отец сидит за столом, пишет что-то.
– Марат, это ты? – спрашивает, не поднимая головы.– Поди сюда. Помоги мне настрочить речь. Завтра утречком наши реутовцы приезжают. На фабрике будет грандиозная встреча. Мне как старому ветерану и организатору текстильного дела выступать придется. Из ЦК Чарыев позвонил. «Давай,– говорит Природин,– это твоя стихия».
– Ну, папа! – смеюсь я.– Мы с тобой сегодня – именинники. Мне тоже надо писать о них. Так что, вынимай свои тетради, давай сюда... Надо мне почитать, с чего там у вас начиналось.
Отец оживляется.
– Стало быть, все же пригодились мои записки? Только ты не того, Марат... Особенно в лирику не вдавайся. Там и о матери, и о дедушке твоем есть. В газету о них ни к чему. О деле больше пиши... Вот, на,– подает он тетради.– Кажется в третьей... Ну-да, вот тут.
Взяв дневник, ухожу в свою комнату. Бросаюсь на кровать, лежу некоторое время, чтобы отдышаться от жары и усталости. Затем принимаюсь читать...
2.
«Осенью двадцать четвертого приехали мы с Зибой в Полторацк, поселились в Доме дехканина. Комнатушка небольшая, но и у нас вещей-то – всего два чемодана. Ну, я как уполномоченный оргбюро пока еще непровозглашенной Туркменской республики, с утра до ночи на ногах: формирую бригады отъезжающих в Реутов и Тверь. Приходят, в основном, сельские девушки, закрытые яшмаком, разговаривают тихонько: сразу и не расслышишь – чего лепечут. Растолковываю им, какая прекрасная жизнь их в будущем ожидает. Расписываю свое родное Подмосковье. Не был я на родине семь лет, соскучился,– так что рассказываю и каждое слово у меня золотом расписано. Да только будущих наших текстильщиц не надо было и уговаривать. Они сами все хорошо понимали: куда и зачем едут. Иное дело – их отцы да деды. Тут я сказал бы так: старики везде одинаковы – что в Туркмении, что в Подмосковье. Не буду тревожить других, а возьму хотя бы своего папашу. Впрочем, о нем особый толк. И тут, в Туркмении, тоже такие же. Пугают своих детей, отговаривают. И чего только не плетут! Вас, мол, к солдатам везут. Будете спать под общим одеялом и так далее. Грозят, пугают, а девчата, хоть и страшатся, но все равно не отступают. Ну, тут, конечно, во многом способствуют и сами туркмены. Не все же бессознательные. Каджаров, например, Курбанов. Правда, последнего я сам сначала кое-как уговорил ехать, но он отказывался по иной причине. Беспризорничал, шпанил, по базарам шлялся, вовсе не хотел работать,– вот и отказывался. А когда я его уломал: человеком, мол, настоящим сделаешься, тут он и взялся мне помогать. Вмиг собрал вокруг себя группу девчат. И девушки с ним вроде бы стали бойчее себя вести...
К началу октября, а может немного раньше или позже, закончили оргнабор, собрались в дорогу. Тут вызывают меня и говорят:
– Сопровождать делегацию будут другие, а вы, Природин, поезжайте заранее в Москву и в Реутов и подготовьтесь там к встрече нашего поезда.
Сказано – сделано. Бегу в Дом дехканина. Зиба только с базара пришла, борщ варит. Говорю ей:
– Зиба, милая моя, бросай-ка кастрюли, собирайся, сегодня уезжаем!
Ну, ей-то что! Долго ли собраться? Уложили вещички в чемоданы—и на вокзал. В кассе билеты для меня заказаны. Взял без всякой очереди. И места правительственные: в мягком вагоне. Закупили в дорогу кое-какие продукты. Поехали. Прощай, Туркмения! Многое я тебе отдал, но и взял у тебя самое для меня ценное – эту вот красавицу, мою Зибу. Увидит папаша мою молодую жену, похожую на персидскую принцессу, ахнет. Это уж точно. Он таких женщин вовсе не видел. Да и мамаша, разумеется, подивится красоте заморской, среднеазиатской. Размечтался я. А Зиба – она более реально смотрит на житейские дела:
– Боюсь, как бы не поругали нас твои родители.
– Да за что же они будут ругать? Вот глупенькая!
Ехали мы семь суток. Высадились на Казанском вокзале. Пригородного поезда не стали дожидаться, наняли извозчика и – в Реутов. День только начинался. Красотища в Подмосковье. Леса оранжевые, и земля сыростью пахнет после недавнего дождя. Дорога тянется вдоль паровозной линии, но все равно: то лесок, то перелесок на пути. Грачи вьются над пашнями. До чего ж хороша родная природа. Гляжу на свои края и слеза прошибает. А Зиба молчит. Для нее тут не только окружающая местность, но и сам воздух другим кажется. Холодный, сырой и с горьковатым настоем. Хочется дышать глубоко, всеми легкими.
Незаметно приблизились к городку. Смотрю вперед, вот он и Реутов завиднелся. Деревянные дома с почерневшими крышами и над всем этим деревенским гнездовьем – высоченная кирпичная труба, а вокруг нее двухэтажные казармы из жженого кирпича. Говорю Зибе:
– Видишь трубу? Так вот, на этой самой трубе в день революции мы вывесили красный флаг. Приятель мой, Сережка Лавров, с флагом лазил. А эти вот красные дома – казармы. В них рабочие хлопкопрядильной фабрики испокон веков живут. Никто уж и не помнит, когда их построили. Говорят, еще в середине прошлого века. А за казармами, видишь – корпуса? Это и есть сама фабрика.
Расплатились с извозчиком, взял я в обе руки чемоданы. До дому нашего полсотни шагов. Домишко старый, из трех комнатенок. Построен еще моим дедом. Но служит пока что исправно, ибо сработан на совесть. Заходим во двор. Тут у нас возле плетня два куста сирени. Сам, помнится, сажал. Смотрю, растут. Собака под ноги кинулась, забрехала отчаянно. А вот и папаша, покряхтывая, на крыльцо выходит.
– Ктой-то тут! – спрашивает и останавливает на нас взгляд.– Да никак Санька прикатил? Боже ты мой. Марья! – кричит он матери.– Иди, твой ненаглядный с революции явился!
Мать выскакивает в зипуне, с засученными рукавами. Обнялись, как положено, вошли в сенцы. Прямо сходу я и говорю:
– А это, папаня, моя боевая подруга... Жена моя...
– Не знаю, не знаю,– вдруг сухо и даже зло выговаривает он.– Мы тебя, Саня, не сватали, а потому и женой ее покуда признавать не собираемся.
– Да ты что, отец?! – возмущаюсь я.– Не стыдно тебе. Говоришь сам не знаешь что!
– Я знаю, что говорю! – еще злее обрывает он.– Присаживайтесь, коли приехали!
– Да чего тут садиться, когда словно чужого встречают?! – обиделся я.
А отец еще больше распаляется:
– Мы,– говорит,– Саня, ждали тебя цельных семь лет. Невесту давно тебе приглядели и уже сосватали, а ты являешься к нам с какой-то азиаткой. Не могем мы со старухой считать ее твоею законной женой! Не могем! Мы ее не видели раньше, не сватали, свадьбу не играли. И вообще, она не на наш вкус! Где это было видано, чтобы русский парень на басурманке женился?
Я побагровел от негодования. И Зиба моя пятится к двери, лепечет едва слышно:
– Я пока пойду, Саша?
– Постой,– говорю ей и набрасываюсь на отца. – Ты что, старый валенок! Ты хоть знаешь, в какой революции я участвовал? Да я воевал, чтобы уравнять все народы! Чтобы все были равными – и русские, и таджики, и узбеки! Эх, отец-отец...
– Ты еще и стыдить меня взялся! – свирепеет он вконец и хватается за табуретку.
Мать ловит отца за руку, а он не унимается. Посмотрел я на это и говорю решительно:
– Пойдем, Зиба, отсюда! Пойдем... Без крыши не останемся.
Вышли из дома. Мать кричит, чтобы вернулись. А отец вдогонку, словно камнями пуляет: не будет, мол, тебе благословения. А я ему в ответ:
– Ничего, папаша, проживем и без твоего благословения! Меня революция и Советская власть благословили!
Зиба, слышу, всхлипывает. Я остановился, поставил чемоданы, обнял ее и говорю:
– Тебе, милая, не с ними жить, а со мной. Так что, успокойся. Сейчас пойдем к Федору. Ты должна помнить его. Помнишь, когда я вас, трех женщин, из мазара на пароход привел, а мой командир на меня с кулаками набросился! Помнишь? Ну, полный такой, в шапке. Лето было, а он все равно был в шапке?!
– Помню, помню,– оживляется Зиба.– Но и он тоже.. Он тогда тебя чуть в воду с парохода не сбросил. Как бы сейчас тоже не напал.
– Ну что ты, Зиба. Федора надо знать... Это человек. В последние два года я с ним переписывался. Только о тебе сообщить не успел. Нагрянем нежданно-негаданно. Вот и родителям не написал, думал – приеду неожиданно, двойная радость будет. Идем, не бойся. Держись за ручку чемодана…
Федор Улыбин жил в казарме. Он еще во время Октябрьского переворота, когда многие рабочие в свои деревни подались, занял в казарме три комнаты. На первом этаже. Стучимся к нему. Выходит сам.
– Санька, мать ты моя честная! Приехал! Да еше и не один! Входи, бедолага!
Обнялись мы, как и подобает закадычным друзьям, хоть и старше Федор годов на десять, а то и больше. Жена его, Лукерья,– тоже с объятиями и тут же с вопросом:
– А у своих-то был? Чтой-то прямо с чемоданами к нам?
– Был,– говорю.– Общего языка не нашли. Видишь ли, жена моя им не понравилась.
Федор, смотрю, посуровел. Помолчал немного, говорит:
– А чего ты еще ждал от своего папаши? Он же у тебя ярый консерватор. Противник всяческого прогресса.
– Ишь ты, Федор, каким умным словам обучился,– смеюсь я над ним.– Что папаша мой консерватор – это точно, как пить дать.
– Ну, ничего, сердечные,– успокаивает Лукерья.– Поживете у нас, а там осмотритесь – и устроитесь по своему вкусу.– Жену-то как зовут?
– Зиба,– говорю я и спрашиваю Федора: – А ты, командир, неужто не узнал мою пленницу? Помнишь тогда, из мазара я привел? Девочкой была... Отвез ее тогда в детприют, а после встретились...
Долго мы сидели в тот вечер, вспоминая пути-дороги по Туркестану. Рассказал Федору, с каким заданием прибыл в Реутов. Федор и говорит:
– Это по моей части, Саня. Не знаю, что там в ЦИКе тебе скажут, но делегацию твою придется размещать мне. Больше некому. Я начхоз. У меня весь инвентарь, конфискованный у старого хозяина фабрики. И ключи от всех домов, которые пустуют, тоже у меня.
– Слушай, Федор, может разместим туркмен в бывшей усадьбе Карла Эдуардовича? Два этажа, балконы, фонтаны и прочее,– предложил я.
– Опоздали малость,– отвечает Улыбин.– В усадьбе фабриканта нынче больницу открыли для рабочего класса. А вот те дома...– Он подзывает меня к окну и показывает на два двухэтажных деревянных дома, которые стоят прямо в лесу.– Помнишь, в них служащие конторы и всякая чиновничья мелочь жила?
– Помню, как же не помнить.
– Ну вот,– продолжает Улыбин.– Эти дома пустуют. И ключи у меня.
– Спасибо тебе, Федор,– говорю.– Завтра отправлюсь к самому Михаилу Ивановичу Калинину. Так и доложу, что есть, мол, помещения для жилья.
Сели ужинать. Тут Верка, дочь Федора, приходит с работы. Когда я уезжал, ей девять годов было, а теперь девушка. Чуть-чуть помоложе моей Зибы. Ну, встретились, как полагается. Познакомил я ее с женой, попросил, чтобы поухаживала за ней, пока я в Москве буду. Верочка, разумеется, рада. Только познакомились, сразу нашли общий язык. Потянула Зибу в свою комнатушку, там принялась ей показывать книжки да фотографии. Бог их знает, чем они там занимались, пока мы с Федором всяческие проблемы решали. В конце концов Федор устал и говорит:
– Ну что, Саня, занимай со своей женушкой третью комнату. Там и живите покуда. Мне ведь что? Мне еще веселее с тобой.
Утром чуть свет я отправился на станцию. Сел з поезд, подался в Москву. К Михаилу Ивановичу Калинину не попал. Проводили к одному из его помощников, которому поручено было заниматься туркменскими вопросами. А у него целая документация по устройству туркменской молодежи. И письма, и телеграммы от туркменского оргбюро. И даже списки, кто именно едет. Я, например, даже и не подозревал, что помимо Реутова и Твери и в другие места едут учиться туркмены. Оказывается, целая группа шелководов собирается на шелкомотальные фабрики Самарканда, будущие работники Полторацкой ГРЭС – в Баку. И высший, государственный аппарат для Туркмении создается. Отобраны наиболее инициативные, преданные партии и Ленину комсомольцы и коммунисты. Им отведено бывшее поместье какой-то мадам Корзинкиной в Серебряном Бору. Теперь этот дом будет называться Туркменским домом просвещения. С него, собственно, и начался мой разговор в Кремле с помощником председателя ЦИК.
– Вам надо будет встретиться с директором Дома просвещения. Вот его адрес. Гостиница «Европа». Номер 36. Спросите Иомудского. Скажете, что я прислал.
– Непременно навещу его,– согласно киваю я.
И начинаю высказывать свои соображения по поводу размещения. А он рассердился вдруг:
– Товарищ Природин! Вы за кого меня принимаете? Вы что же думаете, я должен каждым отдельным домом и квартирой заниматься? Может, еще каждой лавкой и печкой? Вам раз и навсегда надо уяснить, что вы ответственный за целый участок работы. А участок ваш – не только размещение туркменочек, но и устройство их быта, работы, учебы и культурного отдыха. Так что будьте любезны смотреть на порученное дело масштабно, с государственной точки зрения! По этому вопросу я вас выслушаю, когда отчитываться будете. А сейчас действуйте. И чтобы без жалоб! Побольше собственной инициативы. Размещайте пока на свое усмотрение, а через год-другой мы построим специальный дом для туркмен, обучающихся в Реутове. Архитектор уже есть, работает над проектом. И проект здания чисто в национальном стиле.
– Все ясно,– говорю.– Только еще вопрос такого характера. Там, в Полторацке, товарищи мне говорили, будто Реутовка целиком будет передана туркменской республике. Так или не так? Сомневаюсь что-то. Думаю, просто учиться они тут будут, на положении гостей.
– А вот и зря сомневаетесь, товарищ Природин! – опять сердится помощник председателя ЦИК..– Реутовскую прядильную фабрику мы отдаем туркменам и называться она станет: «Реутовская прядильная фабрика туркменской государственной мануфактуры». Так что, слово «гости» – самое чуждое слово сейчас для нас. Хозяева мы все. И русские, и туркмены – все, у кого корень бедняцкий,– нынче хозяева страны. Так что, приезжие твои должны себя чувствовать полными хозяевами – и того дома, в каком будут жить, и фабрики, и собственной своей судьбы.
– Спасибо,– говорю.– Мне все ясно. А теперь скажите, когда прибывает поезд с делегацией?
– Пока не скажу. Заходите, интересуйтесь. Как только выедут из Туркмении ваши бригады, я скажу.
– Разрешите идти?
– Сразу видно бывшего командира! – восклицает помощник.– Только не забудьте, зайдите к этому бывшему хану... Иомудскому.
– Сейчас же зайду.
Выхожу и только тут до меня доходит: «Неужто тот самый хан Иомудский, за которым я в Персию, на реку Гурген ездил?»
Стучусь в 36 номер. Открывает дверь высокорослый юноша. Костью широк, лицо такое, что не поймешь: то ли европеец, то ли туркмен, и выговор чисто русский, даже с какой-то волжской припевкой:
– Вам кого? Вы, видимо, обознались номером.
– Иомудский здесь живет? – спрашиваю.
– Здесь,– удивленно отвечает юноша и зовет.– Папа, к тебе пришли.
К двери выходит бывший полковник Иомудский, сутулый, облысевший, скользнул взглядом и не узнал меня.
– Здравствуйте, Николай Николаевич. Не узнали?
– Да нет-с, не признаю что-то. Из военных?
– Комиссар красный, – говорю. – Природин. Быстро забыли.
– Да-да-да! – спохватывается он. – Вспомнил, как же! Это же вы с двумя товарищами в Кумыш-тепе приезжали! Но не узнать вас. Ей-богу, не узнать! Возмужали и пополнели, что ли?
– Может быть. Ну, как ваша судьба складывается? Вижу, нашли свое место в жизни?
Иомудский подобрел как-то сразу, засуетился:
– Что же мы стоим у порога? Входите, раздевайтесь. Присаживайтесь. Милости просим.
Иомудский предлагает кофе, поскольку вино, по его признанию, он не употребляет. Наполняет маленькие голубые чашечки кофе и словно бы спохватывается:
– А это мой младший сын. Вы, должно быть, помните его?
– А как же! – говорю. – Сразу не узнал, а как пригляделся, ну так и стоит теперь портрет мальчишки в глазах, который в чайхане у Серебряного бугра два фунта конфет купил