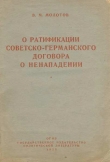Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
5.
В самом начале учебного года студентки уехали на хлопок. С трудом, после нескольких телефонных звонков, узнал о местонахождении Тони.
Колхоз «Победа», оказывается, в сорока километрах от аэродрома. Понятно, что туда «не прогуляешься» – слишком далеко, да и автобусы не ходят. Примерно с месяц поглядывал я на дорогу, уходящую к горам, в сторону «Победы», видел, как проходили мимо авиагородка грузовики с горожанами. Наверное, в одном из них проехала по этой дороге Тоня. Наверное, смотрела с борта в надежде увидеть меня, но «его величество» Марат Природин решил не останавливать длинный кортеж городских машин, идущих на хлопок. «Его величество» решил, что стране нужен хлопок, а потому всякое промедление – это палка в колесо современности. К тому же Природин и сам занимался тем, что вносил свою лепту в борьбу за большой урожай «белого золота». Нашей эскадрилье отвели несколько хлопковых карт в пяти километрах от казарм. Трудились, как и на матчасти, поэкипажно. Мной и тут распоряжался мой командир – Хатынцев. Прекраснейший мужик! Какая бы ни была обстановка – чувство юмора всегда при нем. К обеду я собрал два фартука: килограммов десять, примерно. Это преступно мало, если учесть, что Чары за это же время оттащил на харман пятьдесят килограммов. Хатынцев по этому поводу мудро заметил:
– Да, конечно, вы со своим другом-земляком – молодцы. Крепко работаете...
Шестого октября – полеты. Летали в «зону» звеньями. К обеду красная ракета возвестила об окончании летного дня. И вот тогда подошел ко мне Мирошин и тихонько, но с каким-то испугом, спросил:
– Слышал, Ашхабад провалился?
Я даже не среагировал на это как надо. Подумал лишь: «Действительно, почему-то с Ванькой Мирошиным все беды ходят рядом».
– Как это провалился? Чего ты мелешь?
– Да так и провалился. Говорят, будто под Ашхабадом какое-то подземное озеро. Ну, весь город и пострадал.
Я встревожился. Но не настолько, чтобы поверить этой сногсшибательной новости. Спешу к Хатынцеву. Тот тоже слышал подобное, но успокаивает меня.
– Ладно, пока не волнуйся. Говорят, сначала тряхнуло как следует, потом водой залило. Пока что сплетни...
Зашел в штаб, к замполиту Бабаеву. Тот сдержан и говорит строже обычного:
– В Ашхабаде сильное землетрясение. Есть жертвы. Весь медперсонал нашей дивизии и легкие самолеты мобилизованы на спасение пострадавших.
У меня застревает ком в горле. От страха. От предчувствия страшной беды.
– А как же мне быть? У меня там мама и отец!
– Только без паники, сержант,– строже выговаривает Бабаев.– Примем все возможные меры, чтобы помочь вам. Пока что доступ к месту бедствия разрешен спецслужбам. Не падайте духом!
Чары и Костя перепуганы не меньше моего. Но разговоры ведем пустопорожние. Надо ехать в Хурангиз, а оттуда позвонить в Ашхабад. Спрашивается, зачем? Кто даст звонить, если город разрушен и все телефонные провода оборваны. Костя бежит к Нине, посоветоваться с ней, но тут же возвращается с запиской: «Милый Костик, не волнуйся. В Ашхабаде несчастье. Все мы, медики, сегодня вылетаем туда. Сейчас бегу в санчасть. Оттуда на машине «скорой помощи» – в Хурангиз и самолетом в Ашхабад. Целую крепко. Нина». Я сам прочитал ее записку. «Может, возьмут к себе в самолет медики?» – мелькнула мысль. Не раздумывая больше, сообщаю о своем намерении друзьям и бегу на окраину авиагородка, к дороге, где можно сесть в попутную машину. Останавливаю бензовоз. Шофер – парень из РАО. Он тоже знает о землетрясении и старается помочь мне. Машину ведет на третьей скорости, хотя дорога неважная, можно поломать рессоры. Едем прямо в аэропорт.
В пути видим, как над нами проносятся самолеты. Конечно, они летят в Ашхабад. В аэропорту после беготни и беспрестанных просьб сообщить, где отыскать нашу медбригаду, наконец, узнаю: медики улетели еще два часа назад.
Назад возвратился товарным поездом. Поезд на нашей станции не остановился, пришлось спрыгнуть на ходу, с подножки. Ушиб ногу. Кое-как доковылял до казармы. Устал смертельно. Ночь провел без сна, ища утешение в надежде: «Может быть, отец и мать живы?» На другой день почтальон Фролов приносит телеграмму. Читаю: «Марат, мы оба живы. Отец ранен. Служи, не волнуйся». У меня словно гора с плеч свалилась.
Как хорошо, что живы! Но все равно, ехать надо, им же нужна помощь! Опять иду к Бабаеву, показываю телеграмму.
Отправился я в Ашхабад на третий день после землетрясения. Больше суток проторчал в жестком солдатском вагоне.
К Ашхабаду подъехали рано утром. Здание вокзала полуразрушено. Рухнула центральная часть. Вход завален горой кирпича и железобетонными балками. Лишь несколько белых колонн, за которыми – просторный айван с окнами в два этажа, напоминают о былой красоте этого здания. Приехавшие пассажиры молчаливо, с опаской обходят руины. Душу охватывают страх и жалость. На привокзальной площади – палатки. Дальше на улице Октябрьской палатки тоже. И всюду руины. Одни здания превратились в бесформенную груду, другие свалились на бок, крыши свисают до земли, словно нахлобученные на лоб фуражки.
Час ранний, но город давно не спит. Все в движении. Тарахтят моторы автомашин, бесшумно по глубокой пыли движутся брички, повсюду стук: люди сколачивают себе жилье – из досок, кусков фанеры. Всюду дымят костры. Холодновато. Дует резкий ветер, небо обложено свинцовыми тучами. Дождя пока нет, но чувствуется – вот-вот пойдет. Сквозь дым и утреннюю мглу едва просвечиваются купол бехаистской мечети и башня текстильной фабрики. По этим ориентирам я и отыскиваю местонахождение своего прежнего жилища. Иначе бы заблудился, потому что города как такового не существует: нет ни кварталов, ни улиц. Есть гигантское месиво. Я спешу домой, на улицу Чехова, и меня неприятно поташнивает от тоскливого волнения и приторно-сладкого запаха смерти. Тысячи погибших уже откопаны и отвезены на кладбище, но раскопки все еще продолжаются. Работают военные саперы. Работают медики, съехавшиеся со всех концов страны. Похоронные команды в черных халатах. С непривычки жутко смотреть, как они вытаскивают из-под обломков распухшие, обезображенные трупы.
Я добираюсь до своей улицы и вижу: дом, в котором мы жили, стоит, скосившись набок, весь в трещинах. Он двухэтажный, но перекрытие между этажами рухнуло, завалив весь низ: подъезд, коридоры и комнаты. Я останавливаюсь, не зная, куда мне идти дальше. Палатки, хижины из фанеры, шалаши из кошм и мешков. Но где же мои-то? В каком жилище? Слышу где-то рядом, за разваленным домом, причитания. Иду туда. Здесь собралась небольшая кучка народа. Откапывают свалившийся дом Ашота. Под обломками – жена и дочь. Сам он в день землетрясения был в командировке, в Москве. Потом сразу не мог попасть в Ашхабад. Ночью, наконец, прилетел самолетом, и вот – картина. Дом рухнул. Жена и дочь погибли. Жив только трехгодовалый сын. Жену и дочь накрыло стеной и крышей. Я подошел в тот момент, когда Ашот, разбрасывая кирпичи и глину, добрался до спинки кровати и коснулся пальцами лица жены. Фронтовик, не раз видавший с глазу на глаз смерть, сейчас дрогнул: слезы покатились по его лицу, и он заплакал, как ребенок. Я стою рядом с матерью. Она не замечает меня. Она охвачена горем. И меня трясет, я не могу окликнуть ее. Меня раздирает скорбь за Ашота. И погибшую тетю Фиру жаль. И дочь их, Люду.
Превозмогая оцепенение, я подхожу к Ашоту и начинаю откапывать его жену. Мне приходят на помощь еще чьи-то руки. И вот уже женщины берут Ашота за плечи и уводят в сторонку... Кровать смята, голова женщины между спинкой и потолочной балкой. Жутко смотреть. Я выношу погибшую на дорогу и только тут слышу чей-то голос.
– Зиба, посмотри, да это ведь Марат! Сын твой! Ну, конечно, он!
– Марат! Сынок! – вскрикивает мать. И я вижу, как из глаз ее текут слезы.
Я подхожу к ней, изо всех сил стараясь держаться с достоинством, по-мужски. Поцеловав ее сдержанно, обнимаю за плечи и тихо говорю:
– Я приехал в отпуск. На десять дней. Как здоровье отца? Где он?
– Он в Баку, – говорит мама и отводит меня в сторону, к палаткам. – Ему раздробило ногу. Отрезали ногу до колена, – вдруг всхлипывает мать. – На войне был, цел остался, всего одно ранение в плечо получил, а тут ногу потерял. Ох горе, горе... У других – видишь, какая участь?
Мама вводит меня в палатку. Оказывается, она здесь живет. Посреди палатки ржавая жестяная печка с такой же жестяной трубой, тянущейся вверх. Около печки кровать и несколько ящиков. На одном из них плошка с фитильком. На других – помятые чашки, кружка и бачок с водой. И больше ничего. Ни дивана, ни книжных шкафов. Мама, видя мою растерянность, торопливо говорит:
– Все там, все завалило. И вещи, и книги...
– А если попробовать откопать?
– Трудно будет одному. А мне и вовсе не под силу было. Спасибо солдатам-саперам: убитых и раненых вынесли из-под обломков. До вещей руки не доходят. Некогда, сынок.
– Мама, давай я возьму тебя с собой в Хурангиз? Там у меня хорошие друзья. Будешь у них жить.
– Да ты что, Маратка? – улыбается благодарно мама. – Ты все еще у меня ребенок. Да разве можно сейчас оставить людей в беде? Все бы ашхабадцы могли выехать: у каждого родственников и знакомых в других городах много, но не выезжают же! Кто же будет восстанавливать город?
Я слушаю ее с удивлением. Думал, увижу ее сгорбленную, сломленную горем, а она словно наш замполит рассуждает. Ай да мамуля!
– Сейчас я тебя угощу свиной тушенкой и копченой рыбой, – говорю я, развязывая вещмешок.
– Не надо, Маратка, – дотрагивается она до моей руки. – Продукты у нас, какие хочешь, есть. – Она снимает крышку с ящика и достает копченую колбасу, сливочное масло в банке, сахар. Ставит на ящик и поясняет: – Тут у нас – полный коммунизм. Продукты развозят на машинах и выдают бесплатно. На вот тебе, к чаю, – подает она шоколадку в красной обертке...
За завтраком она начинает рассказывать о подробностях той страшной ночи. В два часа ночи, когда они с отцом уже спали, закачалась земля и пол под ними рухнул вниз. Оба провалились вместе с кроватями. Падая, отец, видимо, пытался встать. Занес ногу над спинкой кровати, и в этот момент повалился книжный шкаф и ударил отца по ноге. Мама, как лежала в постели, так и осталась лежать. Только ее почти всю засыпало сверху пылью и известкой. Сначала она потеряла сознание, а когда очнулась и поняла, что жива, принялась звать отца: «Саша, Сашенька!» – «Помоги мне, Зиба!» – простонал он в ответ. Мама отыскала его, накрытого шкафом. Шкаф лег на обе спинки кровати. И если бы не нога, которая оказалась между спинкой и шкафом, отец бы тоже отделался легким испугом. Но именно это роковое «если бы» и есть то, что мы называем словом «судьба». Если бы дядя Ашот не уехал в командировку, он бы тоже погиб вместе с женой и дочерью. Но – судьба! Мама продолжает рассказывать о том, что все жильцы нижнего этажа погибли. Только ровничница Марал работала в третью смену и осталась цела, да старик Овезклычев – сторож гастронома уцелел. Остальных на другой день вынесли из-под развалин саперы. Текстильная фабрика уцелела, всего одна трещинка в здании. На совесть, видимо, строилась.
Без десяти девять мама уходит в райисполком. Я выхожу на улицу, и меня сразу захватывает атмосфера торопливого проявления жажды жизни. Соседи строят времянку. Муж сбивает из старых бревен крестовину, жена вытаскивает из развалин куски фанеры. На узкой улочке между двумя свалившимися порядками домов стоят машины и толпы народа. Привезли хлеб, сахар... Поодаль – керосиновая бочка. Отовсюду доносится стук молотков: ашхабадцы строят времянки. Изредка раздаются выстрелы из автомата. Я спрашиваю у соседей, что бы это значило. Они беспечно отвечают: солдаты стреляют по одичавшим собакам, слишком много их развелось. Кто-то свистит на всю улицу, словно соловей-разбойник. Это голубятник, хромой Арташес. Ему что мир, что война – один черт. Лишь бы были голуби. Целая стая голубей кружится над развалинами, все выше и выше забираясь в небо. Я смотрю и вспоминаю, как этот Арташес продал мне пару белохвостых «бабочек». С год или больше я держал их и чуть было не превратился в завзятого голубятника, но вовремя вмешался отец. От голубей только и остались строчки:
Забыты голуби давно.
Но, помню, мне они открыли,
что небо синее дано
тому лишь, у кого есть крылья.
Медленно приближаюсь я к нашему развалившемуся двухэтажному дому. Одна стена вывалилась совсем, вторая наклонилась. Крыша съехала набок. Окна перекошены. Обошел дом, ища поудобнее место, чтобы пробраться внутрь. Остановился, раздумывая. Вдруг слышу сзади знакомый голос:
– Ты что ли, Марат? С приездом...
Это – землячка моего отца, текстильщица Вера Федоровна Улыбина. Она и мой отец – оба из Подмосковья. Реутовцы. Знают друг друга с самого детства. Через отца Улыбина знает и меня. Впрочем, и мама тоже очень давно с ней дружит. Там, еще в Реутове, познакомились.
– Хочу вот пробраться в дом, – говорю Улыбиной. – Мама говорит, что книги все целы, только завалены.
– Зачем тебе книги-то? – не понимает меня Вера Федоровна. – Печь что ли разжигать? Да тут и без книг барахла всякого полно. Вон сколько старых досок и щепья всякого!
– Книги читать надо, а не жечь, – вразумляю я ее. – Учение – свет, а неученье – тьма.
– Да какие сейчас книги! – ужасается она. – Люди времянки строят. Того и гляди дождь пойдет, а то и снег, а ему книги понадобились.
По-своему она, конечно, права. Впрочем, и я не собирался сидеть среди развалин и почитывать книжки. А если уж признаться честно, то меня сейчас больше всего занимают отцовские дневники. Пять толстых тетрадок в черных корках. Я их хорошо помню. Они всегда мне попадались под руку, когда я отыскивал в шкафу какую-нибудь нужную книгу. Но не говорить же тете Вере о дневниках. Узнает, что ее земляк Александр Петрович Природин занимался в юности писаниной – ужаснется еще пуще.
Медленно поднимаюсь по грудам развалин вверх, затем осторожно вхожу в дом. Крыши над головой нет, она съехала в сторону. Над головой холодное пасмурное небо, но все же светло, и я без труда нахожу свой шкаф. Засучив рукава, сметаю подошвами сапога и руками штукатурку, добираюсь до стенки шкафа. Он лежит дверцами вниз. Надо переворачивать его или взламывать заднюю стенку. Перевернуть одному невозможно, слишком тяжел. Вышел из развалин, взял у тети Веры топор, и опять – в дом. Жалко портить шкаф, может быть еще и пригодился бы. Но что поделаешь! Вырубив заднюю стенку, начинаю вытаскивать книги. Они целехоньки, даже не запачкались пылью. Опять бегу к Улыбиной. На этот раз за мешком. Складываю книги в мешок, волоку к себе в палатку, вываливаю на пол и опять – за книгами. А вот и отцовские тетради! Слава аллаху, целы! Если не пригодятся мне, то отец-то за них наверняка скажет спасибо. Ему они дороги.
Тетрадки я положил отдельно от книг, на ящик. Возьму с собой, в Хурангиз, там и почитаю. А сейчас меня все больше и больше начинает тревожить совесть. Действительно, все люди заняты устройством жилищ, торопятся, ибо зима на носу, а я увлекся книжками. Неужели же мне не под силу сколотить хотя бы каркасный сарайчик? Жаль вот только: нет ни топора, ни пилы, ни гвоздей. Может, сходить на фабрику, в механический цех? Там Ваня Гаранин, Федя Беспалов – старые мои приятели, вместе в футбол играли, чем-нибудь помогут. Шагаю к фабрике узеньким переулком, образовавшимся между свалившимися частными домами армян, вхожу в старый текстильный городок. Здесь тоже бараки рухнули. Но основание у них цело, и люди уверенно ведут реставрацию. Судя по всему, текстильщики сколотили свои строительные бригады, поскольку трудятся сообща. Остановился, смотрю, как они вкалывают, приглядываюсь – нет ли кого из друзей. Вдруг слышу:
– Здорово, Природин-младший! С приездом. Как отец? Есть что-нибудь из Баку?
– Да, есть... Прислал... Ампутировали ногу, – отвечаю я Коле Кулиеву, одному из ближайших товарищей отца. Этого Колю отец, говорят, силой затащил в Реутов осваивать профессию. Теперь он – лучший помощник мастера.
– Надолго прибыл?
– На десять дней. Матери вот думаю помочь. В палатке живет.
– Что ж ей исполком что ли помочь не может?!
– Исполком своим помогает в последнюю очередь.
– Молодец, политику знаешь! – смеется Коля и слезает со стены. – Ну, здорово, – подает он руку. – Чего там у вас: бревна, доски есть?
– Да этого добра полно, – уныло говорю я. – Из нашего двухэтажного можно другой такой дом построить. Только как одному-то?
– Понятно, – раздумчиво говорит Кулиев, достает папиросы, предлагает мне и закуривает сам. – Пойдем ко мне, посмотришь. Если понравится, то пожалуйста.
Я даже не догадываюсь, чего он мне хочет показать. Вещицу что ли какую? Может, пилу? Может, топор? И когда узнаю, в чем дело, не могу понять: шутит он или на самом деле так щедр.
– Вот смотри, – говорит он, входя во времянку. – Вчера закончил, вчера вселились с женой, а завтра переходим в барак. Давай забирай все свои шмотки и тащи сюда. Будете с матерью жить здесь. Зиму как-нибудь, а потом дома построят, хорошую квартиру дадут.
– Коля, это ты всерьез?
– Ара эй! – обиженно восклицает он. – Почему же не всерьез? Разве такими вещами шутят! Давай вселяйся!
Вот так был решен наш жилищный вопрос. Вечером мама пришла с работы и ахнула. Палатка пуста. Вещей нет. Сына тоже нет. Схватилась за голову, думала, я опять чего-то натворил, но тут соседи ей сказали, чтобы шла к Кулиевым. Мама пришла и застала меня за самым благородным занятием: я стирал тряпочкой пыль с книжных обложек и ставил книги на полку.
– Боже мой! – обрадовалась мама. – Я так перепугалась. Думала, опять ты уехал, даже не предупредив.
– Ну, что ты, мама, больше такого не повторится, – пообещал я, вспомнив свой отъезд в армию. Тогда я повел себя, как последний негодник. Послал документы в военно-морское училище, дождался вызова: надо ехать на экзамены, а денег нет. Тут приятели мои, двадцать шестого года рождения, говорят: «Мы по броне в гражданке задержались. А завтра – на призывной пункт. Поехали с нами, может, еще успеем попасть на фронт!» Ай, была не была! – решился, а матери сказать побоялся. Она бы на ногах у меня повисла, но семнадцатилетнего пацана на фронт не пустила. Я пришел к ней в исполком: надо было хоть как-то проститься. Вызвал ее из кабинета, говорю: «Соскучился по тебе, вот и зашел». Мама, видимо, почувствовала неладное, спросила: «Ну-ка, Марат, говори, что случилось?!» «Да ничего не случилось!» – чмокнул я ее в лоб и ушел. Вечером вместе с призывниками отправился в запасной стрелковый полк. Только через три дня написал ей письмо.
На следующий день Коля Кулиев с Машей переселились в барак. До самого поздна праздновали его новоселье. Пожелали новоселам счастливой жизни, чтобы никогда не было землетрясений, и отправились к себе. Я был весел. Мама все время сдерживала меня и приговаривала:
– Ну, ты прямо точка в точку – что твой отец. Такой же шумливый и настырный. Между прочим, он тоже в революцию из дому самовольно ушел.
– Как так?
– Да так же, как и ты. В Москве создавали красногвардейские отряды, а он в Реутове молодежной ячейкой командовал. Вот однажды отец Веры Улыбиной, он партийцем был, приезжает из Москвы и говорит: «Граждане, революция свершилась, власть в руках рабочих и крестьян!» Молодежь сразу сделала красный флаг. Укрепили его на фабричной трубе, а потом начали агитировать парней в отряды Красной Гвардии. Саше, твоему отцу, его отец пригрозил: «Не вздумай шутить!» А Саша только присвистнул, да и был таков. Сначала подался в гвардию, а потом с отрядами в Ташкент, да так здесь в Средней Азии и застрял.
– А орден за что получил? А с тобой где встретился? Почему ты мне никогда не рассказывала об этом?
– Мал был, вот и не рассказывала. Все равно бы ничего не понял.
– Неужели бы ничего не понял? – смеюсь я. – Единственное, чего я не могу понять: как ты, мусульманка Зиба, могла выйти замуж за русского комсомольца-красноармейца?
– Как все, так и я, – говорит мама и вдруг начинает сердиться. – Ну, ладно, ладно, зачем начинаешь допрашивать? Давай-ка спи... Подними-ка голову, поправлю подушку.
Мама сердится, но настолько мягко, что глаза у меня закрываются и я все глубже и глубже погружаюсь во мрак.
6.
Просыпаюсь утром. Мамы уже нет. Позавтракав, принимаюсь за отцовские тетради. Раскрываю первую попавшуюся и начинаю читать:
«3 января 1930 года... День пасмурный. Идет снег. Настроение словно у сапожника, который только что продал сапоги и купил бутылку. И радостно, и пить жалко. Выпьешь – опять ничего не будет. Поэтому я решил растянуть удовольствие. Начну свое жизнеописание с Ташкента. С декабря 1917 года. Вот я, значит,– Сашка Природин, один из вожаков реутовской молодежи, стал красноармейцем, еду с отрядом в Ташкент добивать среднеазиатскую контру. В Москве и Петрограде положили их на обе лопатки, а тут все еще ерепенятся разные графы да мусульманские баи, да офицерье. Оказывается, в Ташкенте тоже есть кадетики. Вот уж не думал, что эта дрянь по всей земле распространилась. Раньше они пели псалмы туркестанскому губернатору Куропаткину, а когда его свергли и прогнали в Псков, начали подпевать графу Дорреру. Им неважно – генерал или граф. Лишь бы был ихний правитель из буржуйской породы. Ну вот, этот самый граф, говорят, прибалтийский помещик по происхождению, жил раньше в Асхабаде, а потом понесло его дальше, и вынырнул в Ташкенте: возглавил после Февральской революции временное правительство Туркестана. Народ наш – тоже хорош. Пока разглядит, кто там наверху сидит, – год, а то и два минет. Ну, разглядели. Керенский – буржуй. Допустим, этого не сразу угадаешь. А Доррер-то – граф! Он и не скрывал своего происхождения. Так как же он мог возглавить среднеазиатскую демократию, спрашивается? Выходит, и не было ее, демократии. Выходит, вся власть во временном правительстве была буржуйской! Вот оно как бывает!
Ну, ладно. Едем дальше.
Челкар, Казалинск, Арысь... Голодные и холодные станции. Тощие казахи с вяленой рыбой в торбах, да поджарые собаки кровожадно зыркают на окна вагонов. Поскорее эти проклятущие степи одолеть, да в Ташкенте высадиться. Там, говорят, с хлебом лучше. Но ведь тоже не на каравай спешим. Туда генерал Коровниченко со своими солдатами на подавление революции незадолго до нас выехал. Вот мы и всполошились. Как бы этот золотопогонник не задавил ташкентский пролетариат! Решили тюкнуть его с тыла.
В Ташкент приехали ночью. Темень, неразбериха. Двинулись к Совнаркому. Побросали свое барахло в каких-то казармах, ждем дальнейших распоряжений. Командир наш, Улыбин, земляк мой, реутовский, зовет меня:
– Саня, ну-ка давай пойдем выясним обстановку!
Потопали к «Белому дому». Тут народу – видимо-невидимо. Рабочие, солдаты, даже матросы откуда-то появились, кажется, с Амударьи. Ищем кому доложиться, а за одно выясняем, как обстоят дела в Ташкенте. Солдатня, как всегда, на смех поднимает:
– Ишь ты, пожаловали к шапочному разбору. С генерала папаху и шпоры давно стащили, а казаков его по окраинам разогнали! – кричит один.
Другой втолковывает степенно:
– Ничего, и на их долю хватит лиха. Все еще только начинается.
– Вы, граждане рабочие, зашли бы к Колесову да Полторацкому да им бы и доложились, – советует третий.
– Кто такие Колесов и Полторацкий? – спрашиваю я.
– Ай не знаешь? Ну ты, браток, оплошал, ей богу! Это наше пролетарское правительство.
Шагаем с Улыбиным к подъезду. Тут сразу несколько часовых. Нельзя, говорят, идти дальше. Совнарком заседает. Не велено мешать. Ну, мы все свое красноречие в ход, хотя и так видно, что не за хлебными булками приехали, а на подмогу. Пропустили, словом. Принял нас Полторацкий, спросил – откуда и зачем. Доложились. Он и говорит:
– Сложная обстановка, дорогие товарищи. Дали мы впопыхах промашку, а теперь вот думаем, как поправить свою ошибку.
А произошло вот что. Солдат генерала Коровниченко разогнали, Доррера арестовали и посадили в тюрьму. Был у них при временном правительстве мусульманский комитет, из ишанов да баев: разогнали и его. Создали свой, пролетарский Совнарком, а о мусульманах забыли. Баев разогнали, а бедняков-мусульман в него не ввели. Не было под рукой подготовленных партийцев из мусульман, а о непартийной бедноте не вспомнили. Мусульманское духовенство мгновенно и воспользовалось промахом большевиков. Зажужжали муллы, как пчелы, принялись созывать в свою Щейхантаурскую мечеть весь мусульманский Ташкент. Так мол и так: земля узбекская должна принадлежать узбекам, а ее русские захватили, и всех узбеков из правительства изгнали. Все резонно вроде бы. О классовости вовсе не заводят речь. Издавна у мусульман в сознании живет: все люди немусульманского исповедания – неверные, а стало быть – враги. Ну, с этой шейхантаурской сходки и началось. Председатель Совнаркома Колесов и народный комиссар труда Полторацкий спохватились, когда мятеж начался. Ночью кто-то сообщил, что в Шейхантауре собираются многотысячные толпы узбеков, чтобы ринуться на 'Совнарком и разнести его в щепки...
Я веду эту запись по прошествии десяти лет, потому излагаю как бы обобщенные мысли, наперед зная события. А тогда мы и знать не знали, что, пока мы беседовали с Полторацким, мусульмане уже ворвались в тюрьму и освободили графа Доррера, а затем бросились вместе со стотысячной толпой к Совнаркому.
Только мы разговорились с Полторацким, как вдруг тревога: «Идут!» Идут несметными толпами! Запрудили все главные улицы Ташкента. Кто – с чем. Кто с ружьем, кто с ножом, кто с лопатой. Одним словом, бить идут. И клич у всех один: «Долой неверных! Бей кяфиров!» Все тут наше пролетарское ополчение пришло в движение. А собралось бедняцких слоев тоже ведь много. Несколько солдатских, революционно настроенных рот из Кушки, несколько рот из Самарканда, по одной роте из Мерва, Чарджуя и Кагана, весь рабочий класс ташкентских мастерских. Ну и мы, москвичи, по заданию большевистской партии и Ленина приехали сюда. На нас смотрят как на честь и совесть революции. И мы это хорошо понимаем.
– Что же будем делать, товарищи? – обращается вдруг к нам предсовнаркома.—Я решительно не нахожу иного выхода, кроме столкновения. Разъяренную многотысячную толпу ничем не остановить. Единственный выход избежать кровопролития – отдать власть контрреволюции. А поскольку власть мы отдавать не вправе, то придется вступать в бой с мятежниками.
– Это не выход, Федор! – заявляет тут Полторацкий. – Если польется бедняцкая мусульманская кровь от руки русского бедняка-рабочего – ни партия, ни история нам не простят такой погрешности.
– Значит, по-твоему, отдать Совнарком на поругание? – орет Колесов.
– Ни в коем случае, – хладнокровно заявляет Полторацкий.
– Тогда что же прикажешь делать?
– Пока не знаю... Рекомендую только, товарищ Колесов, всем идти во главе красногвардейских рот и действовать в соответствии с обстановкой...
Все согласились с Полторацким. А на улице уже светает. Утро над заиндевелыми деревьями серым ситцем стелется, петухи, как ни в чем не бывало, кукарекают. Только собаки всполошились, громче обычного и сразу Есем скопом лают. Понятно, что это они на толпы мятежников лают. Но вот донеслись издалека какие-то особые звуки. Вроде как иерихонские трубы затрубили. Так оно и было. Потом уж я узнал, эти трубы называются «карнаи». Затрубили, значит, трубы, и по нашим отрядам ропот пошел. Гляжу, братцы уже затворами лязгают, винтовки с плеча снимают. Кавалеристы кушкинского эскадрона за сабли держатся. Я и Федор Улыбин с товарищами из Совнаркома стоим. Стоим и молчим. Никто не знает, что делать дальше.
– Проехать бы вперед, посмотреть – много ли их, – говорю я Полторацкому.
Комиссар взглянул на меня, потом на командира кушкинских кавалеристов и говорит:
– Ну-ка, товарищ Эльфсберг, подай нам с товарищем двух лошадей, да и сам присоединяйся к нам. Съездим, побачим...
Тот разом к своим и через минуту является с двумя жеребцами, и сам на коне.
– Оружие у тебя с собой? – обращаясь ко мне, спрашивает Полторацкий.
– Есть пистолет, с полным зарядом.
– Возьми. Это на случай, если застрелиться потребуется. А в дехкан из него пулять запрещаю. Понял?
Чего уж не понять. Кивнул я в знак согласия. И поскакали мы по булыжной мостовой, только искры из-под копыт сыплются. Проехали версты две и тут видим: идут. Да так их много, что – боже мой! У меня дух захватило. Вытащил я пистолет, засунул под ремень. Кавалерист, глядя на меня, тоже наган вынул. А Полторацкий наверное с минуту глядел на медленно приближающуюся процессию, а затем приказал:
– Ты, Природин, становись справа на обочине, а ты, Эльфсберг, слева. Задача такова. Видите впереди процессии автомобиль?
– Видим.
– И то, что в автомобиле мусульманско-байская верхушка и граф Доррер с ними, тоже видите?
– Видим...
– И то, что автомобиль впереди толпы метров на сто едет, тоже видите?
– Видим.
– Ну, так вот, товарищи. Действовать четко и безошибочно. Как только автомобиль подъедет к вам, выскакивайте из засады, и, грозя оружием шоферу, прикажите ему гнать автомобиль во всю мочь к Совнаркому. А с толпой я сам поговорю...
Это был фантастический план. Тогда-то я вряд ли верил в успех такой операции. Но выполнили мы ее с блеском. Автомобиль с главарями отсекли от толпы, как высохшую ветку от цветущего дерева.
А комиссар Полторацкий... Сколько буду жить, столько и буду преклоняться перед его большевистской смелостью. Выехал он тогда на середину дороги, поднял руку перед многотысячной толпой и спрашивает:
– Куда идете, граждане? Кто посмел прогневать вас?
Сначала было двинулись на него, но слово за слово завязался разговор. И тут – ультиматум: «Почему мусульман прогнали из правительства?». Полторацкий отвечает:
– Не мусульман прогнали, а баев и ишанов. Прогнали тех, кто кровь бедняцкого мусульманства пьет. Мы за то, чтобы были в советском правительстве бедняки-дехкане, но не баи и муллы. Назовите своих представителей в Совнарком из беднейших слоев. Назвали тут же. Нашлись опытные вожаки из бедноты. Один кузнец, другой, кажется, водонос. Привел их Полторацкий вместе с несметными толпами дехкан и ремесленников прямо к Совнаркому. И произошел вместо вооруженного столкновения праздник интернациональной дружбы и братства».
Запись от 3 января на этом заканчивается.
Закрыв тетрадь, выхожу из своей времянки, направляюсь на улицу Чехова. Кругом груды битого кирпича, рухнувшие стены и крыши, всюду палатки, но жизнь идет. Люди свыклись с необычной обстановкой: разговаривают спокойно и деловито, шутят, смеются. Только усталости в глазах больше, чем обычно. Площадь Карла Маркса также сплошь заставлена палатками. Возле них столы, кипы бумаги. Это учрежденческие палатки. Сотрудники министерств и ведомств заняты координацией жизни Ашхабада. Здесь расположился и радиокомитет. Табличка «Радио» видна за полкилометра. Подхожу ближе. Мой давний школьный приятель Эдик Балашов сидит за столом, правит информации. Тут же стрекочет пишущая машинка. Сейчас он явно далек от поэзии. А вообще-то Эдик, как и я, начинающий. Только я морочу голову своими стихами редактору армейской газеты, а он – всей республиканской прессе. Творчество его началось с лирической баллады «Почему у фламинго розовые ноги?». Не знаю только, написал он эту балладу или нет. Подкравшись сзади, кладу ему руку на плечо: