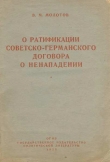Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Алло, это говорит Природин.
– Да, да, Марат. Будьте любезны, сегодня же зайдите и получите командировочное, – приглашает секретарша.
И вот я уже укладываю чемодан, проверяю документы, чтобы не забыть нужное. Перечитываю письмо с грифом Союза писателей СССР, в котором сказано о дне открытия совещания и в какой гостинице мне остановиться. Гостиница «Заря», район Останкино. Открытие совещания в Доме культуры издательства «Правда». Солидно звучит!
Отец тем временем, занимаясь своим делом, ходит из комнаты в комнату, подбрасывает то одно, то другое словцо.
– Увидишь всех крупных писателей страны: Шолохова, Федина, Оренбурга...
– Причем тут крупные? – возражаю я. – Это совещание молодых. Старикам-корифеям там и делать-то нечего.
– А кто же вас учить будет? – парирует отец.
– Да не учить нас собирают. Спросят, кто что сделал!
– Чего с вас спрашивать-то? – уже посмеивается папаша. – Вы еще ничего и не создали.
Тут, конечно, он имеет в виду меня.
– Создали, – отзываюсь сухо. – И еще создадим...
– Ну, ну, валяйте, Марат Александрович...
Вот так и припираемся до тех пор, пока не входит мама.
– Ну, вот и я! – весело говорит она. – Сушеной дыни достала. Пришлось в Кегли съездить. – Мама вынимает жгуты дыни из сумки и начинает упаковывать.– Съездишь в Реутов: деда и бабушку навестишь, – напутствует она.
Отец, еще не успокоившийся после нашей с ним беседы, замечает:
– А чем они жевать будут твою дыню? Им уже по восемьдесят. У них и зубов не осталось, все стерлись.
– Сами не смогут, так других угостят, – тут же находится мама. – По-твоему, вообще без гостинца что ли ехать? Вот тут второй сверточек положу, Марат. Улыбиным – дяде Феде и Вере Федоровне передашь.
– Федора дыней не удивишь, – опять возражает отец. – Он от этой дыни еще в гражданскую малярией мучился. Клял все время ее. «От дынного соку, говорит, заразился».
И вот я уже в воздухе. Бортпроводница раздает конфетки, чтобы не заложило уши. Ходит и открывает и закрывает дверцу. Видно сидящих пилотов. А что если кто-нибудь из летчиков нашего полка ведет машину? Присматриваюсь. Нет, незнакомые лица. И тут опять ощущаю странную потерю: надо было бы взять Тонин адрес. Тоню-то при желании я наверняка мог бы повидать...
Летим почти весь день с посадками в крупных городах. Наконец приземляемся во Внуково. Опять хлопоты. Выдача багажа. Поиски такси. Мог бы, конечно, проехать и проще. Но я в Москве – впервые, и совершенно не знаю – где Останкино, где гостиница «Заря». Наконец, удается сесть в такси.
– Куда? – спрашивает шофер.
– В гостиницу «Заря».
– Ого! Богатый пассажир. Наверное, первый раз в столице?
– Первый, а что?
– Оно и видно... Далековато до «Зари». Лучше бы добирались автобусом.
– Ничего, поехали.
9.
Прежде всего, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в фойе Дома культуры «Правда», – это знакомые лица. Я даже успел воскликнуть про себя: «Ба! Знакомые все лица!» И только тут сообразил, что видел эти лица на портретах. Вот Шолохов – в тесном окружении фотокорреспондентов. Беспрестанно вспыхивают блицы и трещат киносъемочные аппараты. Вот у колонны Твардовский и еще два седоволосых. Один из них тоже очень знаком. Ба, да это же Михаил Исаковский! А вот и Федин проходит с кем-то. «Ну, отец! Я терплю от тебя полное поражение. Ты и здесь оказался дальновиднее меня. Именно – старики-корифеи. Именно они! Они будут нас учить!» После докладов в течение десяти дней будут проводиться семинары поэзии, прозы, драматургии, критики... Вот и списки: кто в каком Семинаре примет участие. Подхожу к стенду, отыскиваю свою фамилию. Семинар молодых поэтов. Группа – одиннадцать. Место проведения – Московский горком комсомола. Ответственные – Л. Ошанин, А. Кулешов, С. Капутикян и так далее.
Подборку моих стихов обсуждают во второй день семинарских занятий. Ведущие семинар поэты уже ознакомились с моим циклом «Огни в пустыне», да и в «Смене», кое-кто читал некоторые из них. Начинают не спеша, со знанием дела. Особенно не ругают, но и не хвалят. Учат, советуют... К полудню я, словно рак распаренный, от волнения. А тут корреспондент радио:
– Лев Иванович, – обращается к Ошанину, – не могли бы представить у нас в передаче лучших? Человека три, не больше?.. На пятнадцать минут.
– Можно, – говорит он. – Это мы сейчас и с превеликим удовольствием сделаем.
Прищурившись, он смотрит на всех нас, сидящих в небольшом зале, и говорит:
– Сильва, Аркаша... Я думаю, вы не будете против, если мы предоставим право выступить Природину, Гилевичу и Гаврусеву. По-моему, это наиболее интересные поэты.
Возражений нет. Через полчаса – в студии. Записываемся на пленку. А когда выходим, Ошанин мне говорит:
– Марат, вечером литературная встреча в ЦДЛ. Будешь читать одно стихотворение. Подбери сам. Можно «Рыжий караван», но еще лучше о расстрелянном комиссаре.
В гостиницу я в этот день не попал. Обедали в «Праге», просидели чуть ли не до самого вечера. От ресторана до ЦДЛ – рукой подать. Пришли как раз вовремя. В круглом зале, на возвышении – стол и стулья. Это для нас, выступающих. Ниже уже сидит публика. Вверху, на балконе – старики: Безыменский, Антокольский, еще кто-то... Я никого тут не знаю и чувствую себя потерянным. Но вот знакомое лицо. Да это же москвич Миша, который приезжал в Хурангиз. Я пробиваюсь к нему и кричу:
– Миша, привет... Миша!
– Какой тебе Миша? – одергивает кто-то недовольно. – Это же Михаил Лукашов.
– Да нет, я вон того, в синем пиджаке...
– Ну и я тебе говорю о нем... Лукашов он. Кое-как я все-таки пробился к Лукашову:
– Здравствуйте! Узнаете?
– Нет, что-то не припомню.
– Хурангиз... Литобъединение...
– А! – восклицает он. – Ну как же, как же! Сержант? Это ты, по-моему сказал, что весь полк набил хлопком подушки, и никого не судили...
– Ну да... Я стихи на вечере читаю.
– Ты? Вот здесь?
– Да...
– Ну, ну... С кем, оказывается, свела меня судьба. Ну, бывай, мне некогда. Меня ребята ждут. Освободишься, подходи.
Ошанин объявляет вечер встречи открытым, произносит вступительную речь и предоставляет слово Евтушенко. Он высок и молод и не слишком знаменит, хотя о нем уже говорят. Читает стихи из своей книжки «Разведчики грядущего». Немножко рисуется, глаза закатывает. А в общем – это поэт. Потом Котов, Рождественский, Кеулькут. Аплодисменты не слишком хлесткие, но все-таки. Вот и мне за моего комиссара выдали положенное. Я сел и опомниться не могу. Когда читал, никого перед собой не видел, все плыло перед глазами. Отдышался, вытер пот платком, стал приглядываться к сидящим в зале. И тут увидел Тоню.
Я отвернулся, потому что решил – мне почудилось. Потом опять несмело направил взгляд на нее. Она, как тогда, в день нашей первой встречи на озере, улыбнулась и пошевелила двумя пальчиками. Это она. Это ее жест. Ее любимый жест. Я не выдержал, легонько кивнул. Она улыбнулась опять и глаза ее засверкали. Видимо, всплыло в памяти все хорошее, прошлое...
Я все время смотрел на нее и ждал, когда же будет конец нашему вечеру. Слушал я поэтов без внимания. Только певучие восклицания да всплеск ладоней усваивал мой слух, но не смысл прочитанного.
Едва Ошанин объявил вечер оконченным, я сразу спрыгнул со сцены и подошел к Тоне:
– Ну, здравствуй... Как ты здесь оказалась?
– Здравствуй, – задерживая мою руку, тихонько ответила Тоня. – Давай выйдем...
– Конечно... Но там холодно... Может, оденемся?
Заходим в гардеробную. Старик-швейцар подает Тоне белую меховую шубку и шапку. Я помогаю ей одеться и думаю: «Да, этот Лал разодел ее!» Горечь, досада, злость – все сразу закипает во мне:
– Ты одна? – спрашиваю зачем-то. – А где твой нареченный?
– Марат, умоляю тебя... не надо...
– Ну что ж, не надо, так не надо... Как ты здесь оказалась? Все еще увлекаешься поэзией?
– Я получила от Оли телеграмму, что ты здесь: вот и пришла. Пришла, чтобы посмотреть на тебя. Но если тебе это не угодно... Если тебя удручает, то я...
Губы у Тони дрожат и голос срывается. Сейчас заплачет.
– Ты что, Тонечка? – беру я ее под руку. – Я очень рад, что встретил тебя. Почему ты решила, что мне не угодно? Глупости какие-то...
Мы выходим на тротуар и идем к Арбату. Молчим, ибо волнение столь велико, что оно мешает и размышлять, и говорить.
– Ты, кажется, не работаешь? – спрашиваю я. – Оля мне говорила...
– Я окончила истфак. Но понимаешь... Лал настоял...
Тоня осеклась, а мне стало смешно, что и она своего мужа называет Лалом.
– Лал тебе запрещает работать? Так надо понимать? А если он узнает, что ты захотела увидеть меня и пришла сюда, ко мне?
– Во-первых, он в командировке, – отвечает небрежно Тоня. – Во-вторых, я никогда не даю ему отчета в своих поступках.
– И у тебя уже есть своя, интимная жизнь, скрытая от его глаз?
– Марат, прекрати, это слишком. О какой интимной жизни ты говоришь? Весь мой грех и вся интимность только в том, что я пишу Оле письма и все время спрашиваю о тебе. Все время передаю приветы, надеясь на что-то...
– Эх, Тоня, Тоня, – не могу сдержаться я.
– Марат, милый, – умоляюще просит она. – Ты меня должен простить за прошлое!
– Да я давно уже простил, – отзываюсь с беспечной лихостью, от которой щемит сердце и кровь стынет – Разве я тебя упрекнул в чем-то? Что поделаешь, если тебе понравился другой? Что поделаешь, если он оказался лучше? Чище! Импозантнее! Какие там еще у него качества? – спрашиваю я со злостью: показная холодность и безразличие изменили мне самым неожиданным образом.
– Маратка, милый, успокойся... Ну, успокойся, – вдруг начинает счастливо смеяться Тоня. – Я ведь знала, что ты не разлюбил меня. Знала! Ну, скажи, что так же, как прежде, любишь меня! Скажи...
Тоня целует меня, и у нее глаза мокрые. Стоим посреди тротуара, оторваться друг от друга не можем. Я только слышу шепот: «Марат, милый мой Маратка, мука моя... совесть моя... счастье мое....»
– Куда мы идем, Тоня? – выйдя из оцепенения, спрашиваю я.
– Ко мне. Я сказала маме, что ты приехал. Посидим, поужинаешь у нас. Мама будет очень рада тебе. Она считает во всем виноватой себя.
– Это тебе твоя мама тогда внушила, что мы с тобой разные? – спрашиваю я. – Я – сын старого партийца, а ты...
– Откуда тебе известно такое, Марат? – испуганно отзывается Тоня. И умолкает. В молчании ее напряженность. Такое ощущение, будто я своим дерзким вопросом погасил вспыхнувшее пламя.
– Оля доверила мне одно твое письмецо. Прости ее, – говорю я и сжимаю похолодевшую руку Тони в своей ладони. – В том письме ты объясняешь истинную причину нашей размолвки. Дескать, оставила меня, чтобы ни чем не омрачать мое существование. Неужели это так?
Тоня высвобождает руку из моей ладони.
– Марат, давай не будем об этом? Ты прекрасно понимаешь и сам, что мы с тобой и сейчас – на разных полюсах. А тогда – тем паче. Не думаю, чтобы твои родители могли принять меня...
– Тоня, ты жестока ко мне. Как ты смеешь так думать?
– Не надо, Марат. Не бери на себя слишком много, – печально отзывается Тоня. – Окажись я твоей законной женой, мог бы поплатиться и ты, и твой отец. А к чему неприятности? Разве нельзя обойтись без них? Разве недостаточно того, что я тебя люблю? Считай, что ничего страшного не произошло. Просто мы долго не виделись. Встретились, и вот – счастливы...
Тоня выговаривает каждое слово с трудом, словно у нее мерзнут губы. И слезы у нее на глазах, и дышит судорожно. Что и говорить – жестокое счастье. Я опять беру нежные пальчики в ладонь и заглядываю ей в глаза. Я не могу понять, почему у нее такое страшное предубеждение? Почему такой страх? И начинаю внушать ей:
– Хорошо, Тоня, допустим, отец мой не согласился бы на наш с тобой брак. Но я-то, я! Я не поступился бы и мыслью предать тебя. Ты понимаешь это? Да и риска с моей стороны никакого не было. Что из того, что твой отец репрессирован? Дети за родителей в таких ситуациях не несут ответственности...
– Может быть, Марат. Но к чему сейчас об этом? Меня, действительно, сбила с толку мама. Лал пришел ко мне в общежитие и как раз у меня была мама. Сначала они с Лалом поставили меня в безвыходное положение: дескать, мы с тобой не пара. А потом заговорили о благополучии. Маме Лал достал путевку в Сочи и помог вернуть московскую квартиру, меня перевел в Московский университет. Только в одном они меня не сломили. Они не смогли убить во мне любовь. Будешь ты со мной, или опять уедешь далеко отсюда, но ты всегда у меня в сердце...
– Жестокая ты, Тоня, – повторяю я. – Очень жестокая... Ты даже не думаешь обо мне. Тебе совершенно безразлично, как я отношусь к твоей совместной жизни с Лалом! А мне трудно сознавать, что ты с ним.
– Маратка, милый мой, – опять пламенеет Тоня. – Ну о чем ты говоришь? Ну хочешь, я больше не вернусь к нему? Уеду с тобой в Ашхабад? Только ты обдумай, как следует... Чтобы ничего такого...
– Хочу! – говорю я и обнимаю ее. – Хочу... Больше он тебя не увидит.
Мы вошли в метро. Доехали до «Динамо». Лифт в Тонином доме не работал. Пришлось подниматься на шестой этаж по ступенькам. Мать открыла дверь. Спросила, почему так поздно, увидела меня и как-то испуганно улыбнулась. Тоня сжала мне руку.
– Мама, Марат, переночует у нас. Ты оденься, познакомишься.
Тоня раздевается и снимает с меня пальто и шапку. Ведет в комнаты. Их тут четыре. В гостиной накрыт стол. Мать выходит в бархатном платье.
– Простите, но я уже уснула. Я долго ждала вас... Значит, вы и есть тот самый Марат? – разглядывает меня мать Тони. – Я должна просить у вас прощения, мальчик. Это я погубила ваше счастье. Глупая я женщина... Ужасно глупая и немощная. Другие как-то проще смотрят на жизнь, а я...
– Ну зачем же вы так? Мало ли что в жизни бывает... Да и не все потеряно еще, – еле слышно отвечаю я.
– Ах, мальчик-мальчик... Сколько по вас слез пролила Тоня! Давайте выпьем с вами по рюмочке. И простите меня, старую грешницу.
Выпили коньяку. Аделаида Михайловна спрашивает:
– А как вы думаете, Марат, будет амнистия тем, кого в тридцать седьмом взяли?
Я не знаю, что ей сказать, потому что действительно ничего не знаю. Но я зол на вездесущего Лала.
– Знаете, Аделаида Михайловна, если и будет, то поверьте мне, муж ваш вернется без какого-либо участия вашего зятя.
– Ох, опять эти тяжкие разговоры, – упрекает Тоня. – Неужели больше не о чем поговорить? Мама, мы не виделись с Маратом шесть лет, понимаешь? Прошу тебя, не тяготи его своими заботами... Маратка, а что у тебя завтра? – обращается Тоня ко мне.
– Утром поеду в Реутов к деду и бабушке. Я же родился там! Но я не знаю, как туда добираться.
– Мы поедем вместе, Марат! – радостно восклицает Тоня. – Я хочу посмотреть на твоих стариков.
Мы просидели до часу ночи. Потом Тоня постелила мне в одной из комнат.
В коридоре на часах пробило три, когда она приоткрыла дверь, подошла на цыпочках, села и прильнула ко мне...
10.
Утром в ГУМе мы купили деду шапку, бабушке шерстяной платок и разных гостинцев. Приехали на Курский вокзал, сели в пригородный поезд. И вскоре оказались в Реутове.
– Ну вот смотри, – говорит Тоня. – Вот – твоя родина. Очень симпатичный городишко.
Мы остановились посреди железнодорожного перекидного моста и осматриваем все вокруг. С одной стороны дороги – деревянные дома, с другой – каменные. И огромная кирпичная труба возвышается над ними. Та самая, на которой в Октябре семнадцатого комсомольцы красный флаг водрузили. А те корпуса, пониже – это цеха Реутовки. Огромные и тоже из жженого кирпича. Смотрю и думаю: так вот она – колыбель подмосковного рабочего класса!
– Дед с бабушкой живут на улице Ленинской, рядом с фабрикой, – говорю Тоне.
Мы спускаемся по ступенькам вниз. Идем, смотрим на номера домов. А вот и нужный номер. Стучимся. Долго никто не открывает, наконец, слышим:
– Ктой-то там?
– Бабушка, это мы... Твой внук... Марат...
Дверь открывается. Сморщенная, в платочке старушка разглядывает нас. Посмотрела на меня, на Тоню, кликнула деда. Тот подошел, вынул из верхнего кармана пиджачка очки, и тоже стал нас разглядывать. Пока длится эта церемония, втолковываю старикам, что я никто иной, а сын Александра Природина. Зовут меня Маратом, а это моя невеста.
– Ну, заходите, коль так, – наконец, разрешает дед. – Это ты нам триста рублей присылал?
– Ну, а кто же еще! Я, конечно.
– А что ж сам-то раньше не приехал? Мы уж с бабкой помирать собрались.
– Ну, дедушка, ты что! – восклицаю я. – Да ты еще героем выглядишь. Тебя еще лет на двадцать, а то и больше хватит.
– Ишь ты, куда хватил, – смеется он. – Чай, чтоль, пить будете?
– Мы вам гостинцев привезли, – говорю я. – Тонечка, где там наши покупки?
Тоня тоже уже осмелела. Разделась, вынимает из сумки и кладет на стол подарки. Надевает на бабку платок, а деду подает шапку. Он, посматривая в зеркало, говорит:
– Шапка, конечно, обыкновенная, как все шапки. А вот сердце у тебя, внучок, доброе. За это спасибо...
– Да уж воистину доброе, – соглашается бабушка. – Помню, когда Сашка таджичку привез, ох я и горевала. Бога боялась, как бы не проклял. Да и в конфуз мы с дедом попали. Марию, девку тут одну, для Сашки сватали, а он с таджичкой из Азии вернулся.
– Маруська-то, она вон какая баба. Сама пудов на семь, да жадности целый пуд. Разве от нее дитя мог бы деньги старикам выслать? Да ни в жисть не поверю!– Дед смотрит на меня умиленно, и вдруг спрашивает: – Тебя звать-то как? Прости нас старых, мы ведь забыли познакомиться.
– Маратом меня зовут.
– Марат? – переспрашивает он. – Это чье же такое имя?
– Революционное имя, дед. Блеск ума, пламень сердца и максимум уважения к старикам!
– Ишь ты какой, – смеется дед. – А невеста-то, твоя тоже из Азии?
– Подружились в Азии, но теперь живет в Москве.
– Что ж, теперь и ты небось приедешь жить в Москву?
– Нет, дедушка. У нас там такие дела громадные – не до Москвы.
– Это тоже нехорошо, – говорит дед. – Санька, отец твой, вовсе прикипел к Азии, сюда и носу не кажет. Нельзя ведь забывать родное гнездо. Птицы и то к своим гнездам летят. Хоть бы помирать сюда приехал...
– Жизня теперь такая, – замечает бабушка. – Ни у кого своего постоянного места нет. Расселились по всему свету. Где поселились – там и родина. Вы бы, детушки мои, переезжали жить сюда к нам? Одни ведь мы, одинешеньки. Смолоду боялись: понародим детей – жить негде будет. А получилось вон как, старость вдвоем доживаем. Нету никого рядом.
– Она правду говорит,– подхватывает дед.– У нас три комнаты. Будете жить в двух, а нам и одной хватит.
– Спасибо тебе, дедушка,– отвечаю я.– Если надобность будет, то мы не раздумывая к вам прикатим. А сейчас пока – иные у нас соображения. У нас там в Туркмении канал строится, совхозы новые закладывают. Там дел непочатый край. Одно я вам обещаю: буду помнить о вас всегда. Письма буду писать и деньги высылать. Тонечка, пока в Москве, навещать вас будет.
– Конечно, Марат. Я с большим удовольствием,– поддерживает Тоня...
– Милости просим, доченька,– соглашается дед. – Всегда будем рады тебе...
Вот так и сидели полдня за столом. Переговорили обо всем. Дед рассказал нам, как в девяносто пятом в фабричной стачке участвовал. Поразогнали они тогда всех чиновников, и сам фабрикант в Москву сбежал. Потом оттуда московский полицмейстер казаков конных прислал. Плетками разогнали рабочих. Многих арестовали. Некоторых на каторгу отправили. Дед тоже сидел дней десять в каталажке, потом отпустили...
От деда мы с Тоней заглянули к Улыбиным. Дядя Федя, конечно, не ожидал меня. Я ведь его не предупредил о приезде. Ругать принялся, дескать, все у нас по старинке – свалился, как снег на голову. Непонятно, дескать, для чего люди телеграфы придумали. Но обида его – партизанская: пошумел и угощать принялся. Отказались мы, поскольку только что из-за стола встали.
– Ну тогда,– говорит Улыбин,– пойдемте, я вам нашу Реутовку покажу.– Вот красные, из жженого кирпича казармы: в них раньше прядильщики жили. А вот дом конторских служащих. А вот здесь слесаря обитали. Последним хозяином Реутовки немец был, Карл Эдуардович. Точен и пунктуален. Всех по сословиям растасовал, как игральные карты. Шестерки сюда, девятки – особо, дамы, короли – тоже отдельно. А сам, туз пик, фабрикант проклятый, в поместье поселился.
Улыбин рассказывает со смаком, образно. Мы слушаем с Тоней и все время смеемся над его остротами.
– Вон оно бывшее поместье,– показывает дядя Федя на двухэтажный дом с двумя балконами по краям.– Теперь тут наша фабричная больница. А раньше все было обнесено забором. Собаки тут две были. Породистые, стервы. Ну, вот, когда флаг над фабрикой подняли, тут и собака у хозяина пропала. Серега Лавров с флагом на трубу лазил. Узнал об этом хозяин и крик поднял: комсомолец Лавров, дескать, у него собаку съел. Ну мы тогда дали хозяину за собаку, да за поклеп его. Все окна ему выбили!
– А причем здесь собака? – недоуменно спрашивает Тоня.
– А притом, что половина фабричных рабочих чахоткой болели. А собачье сало – чахотку излечивает. Может, кто-нибудь изловчился, слопал хозяйского кобеля, да только не Лавров. В лице Лаврова эта буржуйская стерва хотела весь комсомол и всю революцию принизить. А если разобраться, разве не буржуи довели народ до чахотки?! Раньше ведь никакой вентиляции в цехах фабрики не было. А раз вентиляции нет, то и пыль сплошная, тенета кругом. Под ногами грязь. Зайдет человек, скажем, в лаптях с морозцу, ступит на пыльный пол: лапти у него оттают малость – и вот тебе лужи. А сколько их лаптей было! Две с половиной тысячи рабочих – это значит – пять тысяч лаптей. Гардеробной тоже никакой не было. Одно слово, что немец... В общем, сбежал тогда этот Карл, только и видели его. И жену, и другую собаку прихватил с собой. И все конторские драпанули. Вот такое, стало быть, время было,– заканчивает рассказ Улыбин, закуривает и опять указывает рукой в сторону кирпичного дома. Этот дом особой конструкции – круглый и огромный, больше других. Я сразу вспоминаю отцовский дневник, спрашиваю:
– Наверное, это тот самый дом, который для туркмен построили?
– Он самый. На нем и надпись имеется. Подходим к стене, Тоня читает вслух:
«Дом дружбы. Построен правительством Туркмении. Здесь в 20-х—30-х годах жили ашхабадцы, получившие на Реутове профессии и образование».
– Дядя Федя, а сейчас есть прядильщики-туркмены на фабрике? – спрашиваю я.
– Есть, наверно,– отвечает он.– Только как его узнаешь: туркмен он или русский? Многие туркменские ребята женились на наших девчатах, семьями обзавелись. Дети давно выросли. На фабрике мало кто остался. Да ведь Реутовка нынче тем и ценна для нас, что от нее тропинки пошли по всей стране. Я тебе уже говорил об этом. И еще скажу, не повредит. Вот, скажем, тот же изыскатель трассы канала, Караш Иомудский. Он вроде бы никакого отношения сейчас не имеет к Реутовке, но ведь образование первоначальное получил здесь, у нас, в ФЗО. Да что далеко ходить-то! Вот ты, Марат Природин. Ты ведь тоже, на первый взгляд, вроде бы никакого отношения к фабрике не имеешь, а загляни в прошлое – корни твои тут. Был, говоришь, у дедов своих?
– Были, а как же,– отвечаю.
– Ну и что, может, по цехам пройдем?
– С удовольствием. Тоня, ты не устала?
– Ну что ты, Марат! Мне очень интересно. Живу рядом, но даже не знала обо всем этом. Интересно, сохранился дом, в котором ты родился? – вдруг спрашивает она.
Улыбин приосанился, кивает:
– Да вот же он. Бывшее хозяйское поместье...
Больница теперь. Я как сейчас помню: прибежал ко мне Сашка, отец твой, кричит. «Дядя Федя, Зиба рожает, фельдшера надо поскорей!» Ну, мы тут же и переправили ее в эту больницу. Вон два крайних окна под верандой. Как раз и было там родильное отделение.
– Мамочка моя! – хохочу я, а почему – сам не знаю. Наверное, от радости. Смешно ведь. Вот за теми двумя окнами появился я на свет. В те окна я впервые увидел мир. Смешно и жутко, честное слово!
– А ты думал как?! – подшучивает Улыбин.– Тоже небось тешил себя тем, что в капусте нашли? Нет, брат. Теперь тебе эти два окошечка навсегда в память врежутся. И у других так же, как у тебя: изба да окошки – вот и весь сказ. И у меня так было. Каждый день окна свои видел, пока их вместе с хибаркой не снесли. Дом на месте хибарки построили.
Входим во двор. В нем тихо и безлюдно. Но слышно, как живет могучий организм Реутовки. Содрогается, клокочет, пары, словно дым из ноздрей, выпускает. Заходим внутрь, поднимаемся по лестнице. Освещенный коридор, большой гардероб со швейцаром. Чистота абсолютная. Вот – тарелки звенят. Оказывается, столовая рабочая в конце коридора. Заходим в нее. Столики – на четыре персоны каждый. Цветы в горшках, картины на стене. Повара у котлов в белых халатах и колпаках. Улыбин говорит гордо:
– А разве ж раньше такое было? Нет, дорогие мои. Раньше прядильщицы прямо у машин обедали. Развернет баба узелочек с куском хлеба, посыплет его солью– вот и весь сказ. Съест, водой запьет и опять за дело. Шестнадцать часиков оттрубит и пошла... Идет, согнувшись, едва ноги передвигает...
Заходим в цех. Прядильные машины словно один единый механизм в такт друг дружке работают. Плывет ровница сплошной лентой, закручивается в пряжу. Ровничницы в спецовках, в косынках: словно ученые-лаборанты. Я говорю об этом дяде Феде. А он лишь губами улыбается:
– Ты неспроста это заметил, у них самая теснейшая связь с наукой. Тут у нас ученые Москвы принципиально новую машину создают: прядильно-крутильную... Не зря, стало быть, нашу фабрику выбрали. Тут и чистота, и свет, и народ культурный. Не отличишь – кто ученый, а кто с Нряжей крученой. С Верой Федоровной не желаешь поздороваться? – вдруг спрашивает Улыбин.
– Да что вы, дядя Федя! За кого вы меня принимаете? А где она? Тут их столько женщин – и у всех одинаковый наряд.
– Понятное дело,– смеется Улыбин.– От всех ты сейчас можешь отличить только лицо своей невесты,– подмаргивает он, показывая на Тоню, в то время как она разглядывает цех и ровничниц.
– Нравится моя невеста? – спрашиваю.
– Красавица, ничего не скажешь,– чуть тише отзывается он, чтобы не слышала Тоня.– Только уж больно нежная... хрупкая... – Он откашливается и просит: – Девушка, позовите-ка Улыбину!
Вот и Вера Федоровна идет к нам. Отца своего, конечно, издали узнала. А меня – когда уже ближе подошла. Прищурилась, оценила строгим взглядом Тоню, потом уж ко мне:
– Ты как тут очутился-то, Природин? Ну, здравствуй. Может, и маму привез?
– Пока нет, Вера Федоровна. Она пока никак не соберется.
– Да вот и я думаю, может, с милицией ее сюда вызвать? – смеется Улыбина.– А ты, стало быть, заехал. Надолго?
– До вечера только. Потом в Москву. На совещании я тут. Некогда. Как вы живете?
– Да ничего живем, если не считать, что Туркмению иногда поругиваем. Хлопок марыйский получаем, а он грязноват. Загляни вон в трепальный цех, погляди, сколько мусору. С каждой кипы целый ворох листьев, да всякой другой грязи.
– Вера права, – подтверждает Улыбин. – Ты бы, как корреспондент, заглянул на марыйский хлопкоочистительный завод, притрунил бы «джинщиков».
– Загляну, дядя Федя. Я недавно там был. Они, между прочим, там задаются, будто их хлопок – лучшего не найдешь. Тонковолокнистый, особый... Вся страна им гордится. А у вас, претензии.
Тут опять в разговор вступает Вера Федоровна:
– То, что особый, тонковолокнистый, это действительно так. И на весь мир славится он в чистом виде!
А мы ведь убытки несем. Получаем кипу, а в ней сколько грязи!
– Займусь, – обещаю я.– Как приеду, обязательно зайду на завод. Но, если не изменяет мне память, там они уже что-то придумали, чтобы волокно было чистым. Главный инженер их, Валуев, что-то сконструировал.
– А знаешь, Верочка,– говорит Улыбин.– Вам бы надо вступить в соревнование с туркменскими хлопкоочистителями. Тогда бы дело куда лучше пошло. Ты бы выступила на собрании, да и внесла предложение!
– А что ж, и выступлю! – соглашается Вера Федоровна.– Ты их припугни там, Валуева этого. Мол, на соревнование хотят вызвать...
Мы собираемся уходить, прощаемся с Верой Федоровной. Да и ей некогда. Ушла от машин, помощницу одну оставила.
– Ты, Марат, сагитируй маму, пусть на лето приедет, – просит на прощание она.– И Айгуль пусть с собой прихватит. Вместе пускай приезжают. Тут у нас летом хорошо. Не жарко. Да и Москва рядом.
Было уже темно, когда мы, усталые, распрощались с Федором Улыбиным, затем еще раз заглянули к дедушке с бабушкой, пожелав им жить до ста лет. В Москву вернулись ночью.
– Устала, Тоня?
– Нет, не очень... Если и устала, то от впечатлений. Ох, Марат, какая жизнь кипит вокруг меня, а я сижу, как белка в дупле, ничего не вижу, ни в чем не принимаю участия!..
Договорились завтра пойти в театр. Тоня взялась достать билеты. И вот прощаемся.
На другой день опять семинар. Обсуждение стихов продолжается. День проходит бурно. Освоился. Тоже выступаю со своими замечаниями. В перерыве ребята из Белоруссии мне говорят:
– В девять тридцать вечера наша передача. Не забудь послушать свой голос!
– Спасибо,– непременно послушаю...
А как же с театром? К этому времени опера еще не кончится! Придется отставить! В семь тридцать подхожу к Большому театру, подождал немного. И вот – Тоня.
– Здравствуй, Марат. Давно ждешь? Ну, у нас все в порядке. Я взяла билеты еще днем.
Мне неловко, но приходится объяснять, что сегодня передача, в которой я участвую, и вообще впервые буду выступать по радио. Тоня понимает, как мне хочется услышать самого себя, тем более первый раз в жизни, да еще в Москве.
– В театр сходим в следующий раз. Никаких «Пиковых дам» сегодня. Сегодня только Марат Природин. Я сейчас...
Она идет к кассе и тут же возвращается.
– Я сдала билеты.
– Теперь давай решим, где мне найти приемник.
– О боже, Марат! Но у меня же! Неужели ты и теперь еще станешь отказываться? У нас прекрасный приемник. Мы придем, я заварю тебе зеленый чай, и мы будем слушать. Согласен?
Мы пришли к ней примерно около десяти. Звоним. Дверь открывает ее супруг, Кияшко.
– Лал? – растерянно говорит Тоня.– Ты что – уже приехал?
– Приехал... А кто это с тобой?
Тоня запнулась, но лишь на какое-то мгновенье:
– Это Марат... Мы пришли послушать его передачу. Заходи, Марат. Вот тут вешалка. Дай пальто. Шапку давай.
– Странно, странно,– говорит Кияшко и обращается в глубину коридора: – Аделаида Михайловна, вам не кажется странным поведение вашей дочери?
– Что ж тут странного? – спокойно отзывается мать Тони.– К дочери приехал друг юности. Проходи, Марат.
Я вхожу в гостиную. Сажусь. Кияшко следует за мной. Наверно, я ему кажусь самым наглым человеком, какого он когда-либо видел. На лице у него недоумение и отчаяние, и протест. Одно сменяется другим.
– Почему вы преследуете мою жену? – спрашивает он сухо.