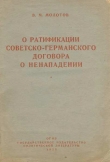Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Лал, пожалуйста, без грубостей! – тут же вступается за меня Тоня.– Никто никого не преследует. Просто наступило время сказать тебе: мы с Маратом по-прежнему любим друг друга.
Кияшко остолбенел. Стоит молча и только улыбается.
– Но это же безнравственно,– наконец, выговаривает он, вкладывая в это слово всю боль души.—Я уехал только на неделю и ты влюбляешься в другого.
– Я люблю его семь лет, и не притворяйся, что не знаешь,– отзывается Тоня.
– Семь лет? – сокрушенно переспрашивает он и опять наступает: – Пусть даже семь. Но он-то тебя любит? Разве он тебя любит?! – Кияшко словно прорвало: начинает ходить взад-вперед по гостиной, и доводы его – «железные».– Если он любит тебя, то почему же он не подал тебе руку помощи, когда ты со своей мамой жила в нищете?
– А вы воспользовались и на чужом несчастье решили построить свое счастье,– парирую я. В конце концов, не сидеть же мне, сложа руки, и слушать, как этот ловкач бесстыдно искажает прошлое.
– Я вытянул ее и мать из нужды,– чеканит он каждое слово.– Я помог им встать на ноги, и вот за это мне такая неблагодарность? Подлая измена, если хотите.
– Лал, ну о чем ты говоришь? – возмущается Тоня.– О какой измене речь? Изменой называется поступок, когда жена, изменив мужу, вновь возвращается к нему. Но я не собираюсь возвращаться к тебе!
– О чем ты! О чем! – жалобно взывает Лал.—Я же тебя из конуры вытянул. Ты плесневела в грязной каморке на каком-то Куткудуке. У вас даже постели порядочной не было. Топчаны голые...
– Эх, Кияшко, Кияшко,– вздыхает Аделаида Михайловна.– Ты прекрасно знаешь, кому ты обязан в том, что моя дочь стала твоей женой. Я, больная и обессилевшая, пошла на последнее. Это я толкнула свое чадо в твои руки...
– Товарищ Кияшко,– говорю я.– Давайте спокойно, без скандала, разберемся...
– Что ж, давайте разберемся,– соглашается он.
– Давайте начнем с самой сути. Итак, в тридцать седьмом году отец этого маленького семейства был репрессирован. Испугавшись ареста, он бежал с женой и дочерью в Хурангизские горы в надежде, что там его не найдут. Его нашли, арестовали, а жена и дочь остались в одиночестве. «Боже, какая несправедливость!» – воскликнули вы, увидев красивую девушку.—Такая красота и вдруг – какое-то студенческое общежитие, какой-то Куткудукский поселок и какой-то жалкий солдат, у которого за душой – ни гроша. И вот вы, Кияшко, берете на себя миссию благотворителя, и беззастенчиво топчете любовь другого. Вы же знали, что я люблю Тоню и она меня любит! Но вы домогаетесь ее любви и даже преуспеваете.
– Марат, миленький, не надо. Я никогда не любила его. И он прекрасно знал, что это была лишь благодарность за все сделанное им.
– Теперь, товарищ Кияшко,– продолжаю я.– Вы, узнав откуда-то о возможной амнистии, беретесь представить дело так, что и отец Тони, если он вернется, то заслуга ваша. Вы – ловкач, Кияшко. Вы даже тут пытаетесь гуманность общества поставить себе на службу. Но хотел бы я знать: не вы ли, и не вам ли подобные строчили клеветнические доносы в тридцать седьмом?!
– Прекратите! – кричит он.– И – вон отсюда!
– Не горячись, Лал,– говорит Тоня.– Мы сейчас вместе уйдем. Завтра я подам на развод...
– Подавай... Уходи,– вконец ожесточается он.– Но уходя, не забудь, что тут нет ничего твоего. Все нажито мной одним. Все!
– Вот именно,– подтверждаю я.– И вещи, и люди. Все.
– Щенок,– обзывает он меня и, хлопая дверью, уходит в смежную с гостиной комнату.
Тоня с матерью собирают чемодан. Я стою в коридоре, жду их. И мы уходим.
11.
Через неделю я улетел. С Тоней простился дома у ее мамы. Тоня поселилась у нее и, наверное, еще долго придется ей жить там. Сначала, сгоряча, я чуть было не купил билет в Ашхабад и ей. Но потом, когда мы поостыли, то решили, что делать пока этого не надо. Прежде всего – развод. Тоня подала заявление в суд и ждала повестки. Меня забеспокоило, как же она будет жить, не работая? Я тут же отдал ей тысячу рублей, которые мне дала мама, чтобы купил ей боты на меху. Но боты я не нашел, деньги остались, и вот они пригодились теперь. По моим расчетам, после приезда в Ашхабад, я опять должен выехать в Мары, поэтому мы условились с Тоней – она будет писать Оле, но с пометкой, что письмо адресовано мне...
И вот опять я в Ашхабаде. Проснулся утром и сразу вспомнил Тоню. Дни, проведенные в Москве, кажутся мне голубым волшебным сном. Только от той мещанской сценки с размолвкой отдает горечью. Как бы этот Лал не наделал глупостей! Старые холостяки на все способны. Наглость и натиск – вот их святая истина.
Вечером я рассказал отцу и маме во всех подробностях о Москве и Реутове. Только о Тоне ни слова. Любовь у нас с ней очень сложная: поймут ли родители меня? А вдруг вмешаются и скажут свое «нет!» Тогда произойдет страшное. От Тони я не откажусь, но в моих добрых взаимоотношениях с отцом и мамой появится трещина. Нет, пока что рано говорить им о Тоне. Рано!
Мама, взволнованная моими рассказами о встрече с дедом и бабушкой, об Улыбиных, сама не своя. «Поеду,– говорит,– этим же летом к ним. Одна уеду, если сам не захочет».
Утром прихожу в редакцию. На улице дождь. Почти все наши – на месте. Балашов здоровается, не скрывая зависти.
– Эх, поскорее бы развязаться с университетом! Я же все свое творческое горение вкладываю в учебу, а на стихи ничего не остается! Если б не университет, могли бы и меня послать в Москву! Как ты, Марат, допускаешь такую мысль?
– А почему же нет? Ты человек пробивной... Мог бы, конечно, блеснуть.
– Завидую тебе и некоторым другим,– продолжает он.– Всю осень ты на канале пробыл, сколько зарисовок выдал! И опять тебе везет,– продолжает, глядя на меня.– Едешь в составе взаимопроверочной делегации в Таджикистан. Редактор назвал твою кандидатуру. Зайдешь к нему.
Ребята, слушая наш разговор, перебивают, подначивают, но в общем-то все рады за меня. Москва, Всесоюзное совещание – это все-таки здорово. А как я читал стихи! Все, оказывается, слышали.
Сотрудникам дарю по авторучке. Пусть простят меня коллеги за однообразие подарков, но увы – не было времени ходить по магазинам.
– Старик, дабы уважить тебя, я выдам этой ручкой опус о твоем друге Ковусе,– говорит Юра.– Замечательный парень Ковус. Мы ездили к нему. Делаем целую полосу о канале. Балашов побывал на трассе со стороны Керков, а я – отсюда. Будет довольно полное представление, по крайней мере, в смысле географии.
– Эдик знал, куда ехать,– отмечаю я и смотрю на склонившегося над белым листом Балашова.– Там, со стороны Головного, озер множество. Не зря же он объявил танкистам: канал – это и фламинго. Эдик, клянусь, дарю тебе вот эту с платиновым пером авторучку, если скажешь – почему у фламинго розовые ноги?
– Не мешай работать, старик,– пыхтит Эдик.– У тебя все еще московское настроение, а нам надо сегодня сдать полосу.
– Не скажешь даже за столь прекрасный подарок?
– Это пока секрет, старик... Когда-нибудь узнаешь.
– Юра, а стихи даете в полосу?
– Пока никто не написал. Если есть – давай.
– Хочешь восемь строк?
– А ну?
В минуту эту замер скрепер и оторвались все от дел,
когда над нами серый стрепет в осеннем небе просвистел.
Его встречали не картечью – махали шапками ему.
Он вестником был скорой встречи двух рек: Мургаба и Аму!
– Ну, как?
– Старик, это то, что надо!– восклицает Рябинин.– Сядь, напиши.
Я написал стихи на листке, отдаю Юре и отправляюсь к редактору. Мямлов, как и все, поздравил с приездом, затем спрашивает:
– Ты, оказывается, в хороших отношениях со вторым?
Он, конечно, имеет в виду второго секретаря ЦК, комсомола. Но откуда он узнал, что я с ним в дружеских отношениях?
– А что случилось? – недоумеваю я.
– Да вот сам второй рекомендовал твою кандидатуру в состав взаимопроверочной бригады. Собирайся. Созвонись с ЦК – там скажут, когда ехать.
Какая разница – когда? Сегодня или завтра – мне все равно. Не прошло и трех часов, у меня уже и билет в кармане на самолет, и маме на работу позвонил – улетаю, и отцу записку на столе оставил. «Лечу в край твоей красноармейской юности. Если не возражаешь, передам привет Восточной Бухаре? До скорого! Твой сын Марат».
И вот уже в полете. Под крылом рыжая шкура Каракумов. Час, полтора и – посадка в Мары. Тут присоединяется другая группа нашей делегации. Входят колхозники в каракулевых шапках и полушубках. И Чары с ними:
– Природин здесь? – спрашивает громко.
– Здесь! Здесь, иди сюда, товарищ Аннаев. Как ты узнал, что я здесь?
Чары не спешит с ответом. Садится рядом, пожимает руку, хлопает по плечу, и только потом говорит тихонько:
– Это ведь я о тебе побеспокоился. Говорю, пошлите с нами Природина, это очень толковый журналист. А как же иначе?! В Хурангизе же будем. В полк зайдем, Нину навестим...
– Спасибо, Чары,– признательно говорю я.– Все-таки ты настоящий друг.
– А ты все еще сомневался во мне?! – восклицает он.– Мы уже больше двух пудов соли съели вместе. Не имеешь права сомневаться. Понял?
– Я все давно понял. Не знаю, ты поймешь ли меня... Я с Тоней встретился. Привет тебе и Оле вот такой! Сейчас обо всем расскажу.
Поднялись в воздух. И до самого Хурангиза я рассказывал Чары о моей поездке на совещание и о встрече с Тоней. Слушая, он то хмурился, то посмеивался. И даже сказал полушутя-полусерьезно: «Смотри, пришлет этот Лал письмо в ЦК комсомола, будут обсуждать за аморальное поведение!». Но он был рад за меня.
В Хурангизе мы высадились. Едем в район знакомой дорогой. Везет нас раис Рустам-бобо – старый знакомый. Показывает вспаханные поля, сообщает, сколько собрал колхоз хлопка в прошлый сезон, какими семенами будут засевать поля этой весной. Но и Чары и я слушаем раиса рассеянно. В голубом хурангизском небе проносятся крылатые истребки и все время напоминают: «Да, да, вот это то самое место, где вы служили не так давно». Вот и шлагбаум завиднелся на въезде в авиагородок. Возле будки стоит часовой. Сердце у меня бьется не так, как надо. Тревожно и тоскливо. Наверное, это грусть по отшумевшей юности.
Машина сворачивает вправо. И вот мы слезаем возле конторы. Большой белый дом с деревянными колоннами, лозунги на стенах, плакаты. Дом раиса рядом с правлением. Он ведет нас к себе.
Вскоре подают завтрак. Выпили немножко вина. Начинаем разговор о деле. Я достаю записную книжку, время от времени вношу в нее короткие записи. Чары и его земляки – бригадиры трех мургабских колхозов – беспрестанно задают вопросы председателю. Рустам-бобо с превеликой охотой отвечает на них. После завтрака он приглашает съездить на животноводческую ферму. Это неподалеку от аэродрома, как раз по дороге в Кут-кудук. Я помню эту ферму. Огромный скотный двор, огороженный дувалом.
– Может быть, завезете нас с Чары в штаб? – предлагаю Рустаму-бобо.– А сами с бригадирами съездите? Потом мы сами найдем дорогу к вашему дому. Память хорошая, не забыли.
– Ну что ж,– соглашается раис.– Я понимаю вас...
Выходим из машины возле штаба полка. Раис уверенно поднимается на крыльцо. Дежурный-офицер знает его. Козыряет и любезно приглашает войти. Через минуту он выходит с Михайловым. Бывший комэск в погонах подполковника строг и сосредоточен. Мне даже показалось, не вовремя мы пожаловали.
– Заходите, товарищи,– приглашает он, и когда мы подходим ближе, приятно улыбается: – Ах, вот это кто! Узнал, узнал, как же! Природин, если не ошибаюсь?
– Так точно, товарищ подполковник!
– А это, кажется, Чарыев?
– Чары Аннаев, товарищ подполковник,– уточняет Чары.
Раис говорит:
– Я их тебе оставлю, пусть вспомнят, как служили! Мне надо другим гостям коров показать!
– Валяй, валяй, Рустам,– смеется Михайлов.– Пусть посмотрят. Коровы, это, конечно, диковинка. При тщательном изучении материала можно даже усвоить, откуда берется молоко! – хохочет он.
Михайлов ведет к себе в кабинет. Садимся. Расспрашивает – где живем, как живем, кем работаем.
– Ну что ж, авиация, как говорится, идет в гору? Потолка пока что не видно! Так, кажется?
– Так точно,– отвечает Чары.– Вот канал строим. Слышали о канале, конечно?
– Не только слышали, но и людей своих, демобилизованных ребят, туда отправляем,– отвечает Михайлов.– В прошлую осень несколько человек уехало... Если не изменяет мне память, на Головное.
– Есть такой поселок,– говорю я.– Там канал начинается. А не скажете, кто-нибудь из летчиков третьей эскадрильи остался в полку?
– У тебя кто был командиром экипажа? Не Хатынцев? – уточняет подполковник.
– Хатынцев. О нем и хотел спросить.
Михайлов открывает дверь и просит дежурного офицера:
– Отыщите Хатынцева. Пусть немедленно придет ко мне!
– Товарищ подполковник, а ваша жена – Мария Николаевна? – Командир полка смущенно улыбается.
– Диспетчер, что ли, твой? Сейчас мы ее найдем... Она работает у нас, в оперативном отделе.
Выходит и возвращается с Машей. Она немножко постарела. Морщины под глазами появились. На плечах, в накидку, леопардовая шубка.
– Боже, какие орлы-то стали! – удивляется она. Смотрит на меня вопрошающе, сейчас спросит о Тоне.
И у меня, и у Марии Николаевны запечатлелся в памяти наш последний разговор. Он произошел накануне моей демобилизации. Остановила она меня как-то раз и спрашивает: «Что-то, сержант, вы перестали заглядывать на коммутатор? Не случилось ли чего?» Я ответил что-то неопределенное. Наверное, после разлуки с Тоней, что называется, был не в своей форме, и Маша Михайлова обратила на это внимание. «Скажите, в чем дело? Что произошло? – спрашивает испуганно.– Понимаете, за год беспрерывных звонков и таких нежных разговоров о любви, мне не безразличны ваши взаимоотношения! Я хочу, чтобы было у вас все хорошо, но вы выглядите удрученным?» Я тогда и рассказал о вероломстве Лала и Тони. Она меня выслушала, испугалась, даже побледнела: «Нет, нет, этого не может быть. Не может ваша Тоня так просто, так бессердечно оставить вас. Вы должны разобраться во всем. Не отступайтесь! Поговорите с ее матерью. Не может она желать своей дочери зла». Я ответил, что, к сожалению, и Тоня, и ее мать, обе уехали, говорить не с кем, и Маша ушла расстроенная, словно покинули не меня, а ее.
Вот и сейчас у нее застыл в глазах безмолвный вопрос. Наверняка, спросит. Я смотрю на нее и не могу сдержать улыбки.
– Ну говори, говори! – требует она.
– Все в порядке, Мария Николаевна.– Я только что из Москвы. Мы вспоминали о вас с Тоней. Я так благодарен вам за все...
– Вы женились на ней?!
– Скоро будет свадьба... Так получилось...
– Остальное меня не касается! – радостно восклицает Маша. – Главное, вы – счастливы. А тому старому ловеласу я, на вашем месте, просто бы всыпала...
Беседа наша в самом разгаре. И тут входит Хатынцев.
– Кому я тут понадобился? – строго спрашивает. Увидел меня, руки развел.– Ну, брат! Вот тут, оказывается, кто! Сама Природа пожаловала.– Облапил за плечи, трижды по-братски расцеловались.
В волнении, я даже не обратил внимания на его погоны, назвал Хатынцева лейтенантом, а он уже майор. Чары мне подсказывает:
– Какой тебе лейтенант? Майор – он. Майор перед тобой!
– И командир эскадрильи,—добавляет Михайлов.– Комэск реактивной эскадрильи. Так что, не только вы там у себя, но и мы здесь растем! – восклицает шутливо.– Ну что, братцы? – вдруг обращается ко всем.– Сколько там времени-то? Одиннадцать? Рановато немного... Давайте-ка так... Ровно в час ко мне. На обед. Отказов не принимаю. Выполняйте распоряжение командира полка.
– Слушаюсь,– четко, выговариваю я.– Разрешите,
С вашего соизволения, навестить медсестру вверенной вам санчасти Трошкину Нину?
Михайлов как-то сразу сник, на мгновенье задумался. Видимо, был у него какой-то разговор с ней.
– Да, да, конечно. Разумеется, навестите. И прошу не опаздывать на обед...
Идем к Нине, в санчасть. Дома ее нет. По пути заходим в детсад. Молоденькая воспитательница спрашивает к кому пожаловали?
– Нам Алешку Трошкина,– говорит Чары.– Я – его дядя.
– Дядя? – удивляется воспитательница и кричит:– Алеша! Алеша, к тебе дядя пришел.
Выбегает белобрысый, семилетний мальчуган. Очень похож на Нину и чем-то лишь отдаленно напоминает Костю. Подбородок, губы. Взгляд такой же – быстрый, острый. Чары вскидывает его над головой и опускает на землю.
– Я – дядя Чары... Это я тебе все время пишу письма. Держи-ка.– Чары дает ему шоколадку.– Твое письмо я тоже получил. Две ошибки у тебя...
– А какие? – живо вскидывает ресницы Алешка Трошкин.
– В слове «здравствуй» ты пропустил «р», а в слове «азбука» одна буква лишняя. Тетя Оля поставила тебе четверку.
– Ты приехал за нами? – спрашивает Алешка.– Мама говорила, что ты приедешь...
– Конечно, за вами. Если мама твоя согласна, вместе со мной и уедете...
Мы берем Алешку с собой и идем в санчасть. Нина встретила нас на крылечке. Узнала, конечно. Только непривычно ей видеть нас в гражданской одежде. Ну, как обычно, в первую очередь о делах.
– Значит, все еще не женат? – с упреком говорит она мне.– Я так и думала...
– Ну, а ты?
– Вот на Чары надеемся. Алешку хочу отправить к деду Дурдыклычу, а сама в Ашхабад. Я же писала тебе, что меня в поликлинику приглашают работать.
– Поезжай, конечно...
– Поезжай, но как? – с обидой заговорила она.– Я уже подавала заявление, а Михайлов отказал. Замены, говорит, нет...
– Все уладим,– обещает Чары.– А сейчас давайте сходим на могилу к Косте.
12.
Через месяц я вновь на канале. Только на этот раз заехал со стороны Керки. Московский поэт Гордеев, которого я так и не встретил зимой в Москве, внезапно прилетел в Туркмению и уговорил меня лететь на Головное.
Вот мы и подались. До Керки самолетом, оттуда на пароходике до Головного. И поселились на плавучей . электростанции, питавшей поселок строителей и два шагающих эскаватора.
Мне не очень-то по сердцу это путешествие. Даже не само путешествие, а глухомань, в которую мы забрались. Из Мары я мог бы в любое время заказать телефонный разговор с Москвой и поговорить с Тоней, а отсюда – до Москвы, как до луны. Единственный выход – письма и телеграммы. Но поскольку письма идут долго, то я отправляю через день по телеграмме.
Мы ознакомились в общих чертах с работой электриков. И вот вчера отправились на катере БМК вниз по каналу. Глубина подходящая. Скорость приличная. Не успели выехать – вот уже участок строителей. Дальше плыть наш «капитан» отказывается. По его выражению, там «море», и без лоцмана в нем делать нечего: можно заблудиться и пропасть. В поселке отыскиваем старожила этих мест, Чепелева. Он и начальник участка, и проводник через озера, и собеседник хороший. Едет вместе с нами. Протарахтели немного по узкой канаве, и вот открываются взору безбрежные заросли камышей. Узкая протока между ними, словно тропинка в джунглях. Сначала только одна такая тропинка. Но чем дальше, тем их больше. И попробуй ошибись, поведи суденышко не по той, какой надо. Заплывешь куда-нибудь в угол Часкакского или Лебяжьего озер, будешь выбираться оттуда день, а то и два. Два часа мы пробираемся в камышах и, когда выплываем на чистую воду,– перед нами необъятная гладь озера.
По волнам с ветерком лишь к вечеру мы достигли 105 километра. Здесь уже намыта огромная дамба, преградившая дорогу воде. Пока еще озера не заполнялись до критической отметки. Идет наполнение их.
Земснаряд «Сормово-27» ведет углубление русла, которого в общем-то не видно. Оно под водой. Целая колонна труб на плаву и по берегу тянется от земснаряда. Там, за барханом в ложбине из трубы изливается жижа, словно извергается грязевой вулкан. Пенистая грязь со дна озера пузырится и растекается с шумом. А «Сормовец» лишь тихонько содрогается корпусом, словно бьет его лихорадка.
Мы выходим из катера, любуемся работой гигантской плавучей машины. На борту, свесив ноги, сидят двое. Мужчина и мальчик. Ловят удочками рыбу.
– Эгей! – зову я.– Можно вас на минуту?!
Парень встает. Издали он кажется богатырем. Он легко спустился на трубы и пошел по ним, балансируя руками.
– Слушай,– говорю я Гордееву,– а ведь это наш... Ну конечно он! Бердыназар... Бердыназар, неужели ты?! Вот ты где повстречался. На «Сормовце» обосновался?
– Вах-хов! – восклицает он, подходя. – Вот, оказывается, кто. Значит, это ты, Марат!
Поздоровались. Я представил ему Гордеева.
– Вы, наверное, москвич? – спрашивает Бердыназар?
– Да, в общем-то, если не считать, что в Сибири родился.
– И, конечно, поэт?
– Поэт,– соглашается Гордеев.
– А вы не можете перевести мою поэму? Я написал поэму о канале. «Поле битвы» называется.
– Знаешь, Бердыназар, мне в Ашхабаде целую кипу стихов для перевода дали. Боюсь, не справлюсь со всем этим хозяйством. Но знаешь что? Я могу тебя познакомить с прекрасным переводчиком. Он как раз собирается к вам сюда приехать...
– Я буду вам признателен, – горячо благодарит Бердыназар. – Может выпьем чалу?
– Ну, если это не повредит поэзии, то можно,– смеется москвич.
Весело беседуя, отправляемся в поселок. Там, в столовой заказываем гуляш, берем минеральную воду и чал. Сидим и пьем помаленьку. Беседуем. О поэзии, конечно. О канале тоже. Бердыназар здесь уже третий месяц он все знает. Но в общем-то рассказывает то, о чем мы уже знаем тоже. Керкинское управление переселилось в Карамет-Нияз, это недалеко отсюда. Разработка русла пионерной траншеи – главный почерк строительства. Передовой отряд – в Ничке.
Вскоре и мы отправляемся на трассу. За 105 километром – поселок Ничка. Деревянные, обитые матами домики, палатки, огромный двор автопарка. Бульдозеры, скреперы, экскаваторы – все тут. И инженер Бойко тут. Наконец-то я его увидел. Имя его не сходит со страниц газет: во всех материалах о канале упоминается. Он пробивает со своим отрядом пионерную траншею. Он, собственно, и внедрил метод разработки русла Каракум-реки с помощью бульдозеров, воды и землесосов. С его новшеством как-то сразу отступили на второй план шагающие экскаваторы.
Заночевали в Ничке. Утром Бойко сажает нас на свой вездеход. Едем в Кельтебеден. Трасса тут идет по барханам. Всюду гремит землеройная техника.
– Когда думаете подать воду в Мургабский оазис?– спрашивает Гордеев.
– От меня мало зависит,– отвечает он кратко.
– От кого же тогда?
– От марыйцев. Они застряли на трудном грунте...
Бойко жилист и краснолиц, словно американский индеец. Только одеждой не похож. На нем полушерстяной, затасканный костюм и брезентовые сапоги. На голове фуражка-восьмиклинка.
– Интересно, Калижнюковские «электрички» все стоят на старом месте или довели их до дела танкисты? – спрашиваю я.
– Влип с ними Сеня,– безнадежно машет рукой Бойко.– Вроде бы инженер первой статьи. А вот поди ж ты – соблазнился копать канал электричеством'. Я говорил ему, чтобы осмотрительней был. А он все на верха ссылался. Там, дескать, виднее. Вот и бездействуют миллионы выброшенных рублей... Танкистов было бросили на них. Хотели машины перевести на дизельную тягу, но вовремя спохватились. Что ж мы должны ждать, пока они там закруглятся? Копать надо, вода на пятки уже наступает. Вот и решили оттащить их в сторону.
Значит, наша с Ковусом затея провалилась.
В Кельтебеден приехали к вечеру. Русло на этом участке готово. С бугра, где стоит флаг на границе Марый-ского и Керкинского участков, видно его километров на десять. Вся техника переместилась в сторону Мургаба. Экскаваторы и бульдозеры где-то в районе железнодорожной станции Захмет. Самого Шумова нет: контора перебазировалась в район джара. Там приступили к сооружению бетонированного лотка, который пройдет над оврагом. В Кельтебедене командует Ковус.
– Ковус-джан, я тебя приветствую, дорогой,– подаю я руку и представляю своего товарища-москвича.
– Здорово, здорово,– говорит он с обидой.– Клянусь, но я вообще не хочу здороваться с газетчиками!
– Что случилось, Ковус?
– Слушай, у вас есть там в Ашхабаде какой-нибудь центр, который бы координировал ваши взгляды и мысли на вещи? По-моему, нет такого центра.
– Ковус, такого центра вообще существовать не может. Газетчики – не роботы, а мыслящие люди. У каждого свое мнение, свое суждение, и каждый несет за свои поступки и высказывания ответственность. Говори, что случилось?
Заходим в домик Ковуса. Комната стала просторнее. Я приглядываюсь и замечаю: убраны две кровати, нет двух тумбочек. Ясно. Аскад, видимо, спустился вниз, к Мургабу.
– Слушай, Марат,– сердито продолжает прораб.– Вот этого парня вдруг начали хвалить... Волчихина помнишь? Вместе тогда они приехали, мы их с собой привезли: Земной, Волчихин, еще двое или трое...
– Помню, помню. Это такой, с челочкой, со шрамом?
– Да, тот самый. Я сразу заметил – это матерый шабашник. Ему бы только рубли, больше ничего не интересует. Даешь ему заработать – выдает кубы. Попросишь что-нибудь сделать или помочь кому-нибудь, он сразу условия ставит. «Давай, говорит, товарищ Ковус, сначала оформим нарядом, а потом я сделаю». Вот такой. Разве на такого можно положиться? И вот этот Волчихин привозит из Мары женщину. Свадьбу устроил. Шуму много было. Провел ее помощницей. Хотя ты сам знаешь, для чего нужна ему женщина. Я, конечно, тоже был на свадьбе, но все равно мнения об этом парне не изменил. Рвач и шабашник.
– Говори, что произошло, чего ты тянешь, Ковус? – поторапливаю я его.– Мне непонятно, за что газетчиков ругаешь?
– А за то, что приехал один из ваших. Балашов. Есть такой у вас? Прошлый раз с Кербабаевым приезжал.
– Есть. Со мной работает,– подтверждаю я.
– Написал он хвалебный материал. Этот материал два раза передавали по радио, да еще напечатали в комсомольской газете. Статью свою он назвал «Энтузиасты». И начинается, знаешь как? Волчихин приехал в Мары, приходит в парк, знакомится с девушкой. Танцует и говорит ей: «Эх, негде даже развернуться здесь! Вот у нас на канале, это да!» «А вы с канала?» – спрашивает девушка. «Да. Я бульдозерист». «А можно мне к вам поехать?» – просится она.– «А почему ж нельзя. Я за один день научу вас управлять бульдозером!» Словом, дальше он пишет, как привез ее Волчихин, как научил работать на машине, а теперь, дескать, они больше всех выработку дают. В газете с портретами опубликовали. Ну вот... Я, как говорится, проглотил пилюлю. Пишите, думаю, если вы считаете, что лучше меня моих людей знаете. А вчера поехал в Захмет, там говорят мне: Волчихин бросил бульдозер и сбежал в неизвестном направлении. Вот какие «энтузиасты».
– Лады, Ковус, я все понял. Буду в Ашхабаде, разберемся,– пообещал я.– А ты хоть выяснил, почему они сбежали?
– И выяснять нечего. От Захмета до самого Мары– трудный грунт, а расценки ниже, чем в барханах. Еще несколько человек бросило технику. Поехал я в Байрам-Али, в училище механизации, собрал ребят, говорю им: «Кто уверен, что сможет работать на бульдозере или экскаваторе, поднимите руку!». Все как один подняли. Договорились с директором, выбрал человек двадцать... Если справятся – это им и будет лучший экзамен. Как думаешь, правильно я поступил?
– Думаю, что правильно, Ковус. Парни откуда?
– Да наши, местные. Ребята из колхозов.
– Правильно поступил,– повторяю я.– Это, действительно, и практика, и экзамен, а главное – помощь стройке. Ты сам в Захмет не собираешься сегодня или завтра?
– Пока нет. Здесь на двух пикетах сейчас тоже затор. Бегут многие. Пески прошли, а на твердом грунте не заработаешь. Знаешь, Марат, была бы моя воля, я с этих шабашников клятву брал или присягу бы заставлял их давать, чтобы не за деньги работали, а на совесть.
– Да, довели они тебя. Тебя послушать, так и хороших, сознательных ребят на стройке нет. Мирошин работает?
– Пока работает...
– И Земной с ним?
– Работает пока и он.
– Значит, еще много таких, как они найдется. Не падай духом. Когда машина в Захмет идет?
– Утром рано. Слушай, ты напиши статью о положении на нашем участке. Может быть, есть смысл пересмотреть ставки? Понимаешь, тут недоработка какая-то в расценках. На галечнике гораздо труднее работать, чем на песке. Почти половина техники вышла из строя. Запчастей нет. А кому захочется сидеть на простое?
Пока я беседую с Ковусом, Гордеев изучает быт строителей. Он ушел в столовую, а заодно и поглядеть поселок. Вернулся, посмеивается:
– Ну, братцы, скажу я вам... Тут долго не проживешь. Пески и консервные банки, больше ничего. Хотя бы арбузов забросили, что ли? Все веселее было бы.
– Откуда возьмешь арбузы? Весна же еще? – недоумевает Ковус.
– Да, да, верно,—соглашается Гордеев.– Еще только март, а мне кажется уже прошла вечность, как я выехал из Москвы. Надо поскорее убираться.
– На поезд в Захмете можете сесть,– раздраженно советует Ковус.– Московский каждый день проходит.
– Верно, верно,– соглашается Гордеев, вовсе не подозревая, как зол на него Ковус. Но я-то знаю прораба: он терпеть не может заезжих и проезжих, которые на все смотрят сквозь пальцы, а с пустыней знакомятся, трогая ее носком полуботинка.
Мы ложимся спать и засыпаем сразу же.
В шесть звенит будильник. Выходим из домика. На улице свежо. Вода в умывальнике холодная. Шофер уже греет мотор, встал еще раньше нас. Ковус приглашает выпить чаю. Гордеев отказывается: чаи он гонять не любит. Я выпиваю пиалу и прощаюсь с Ковусом. – Ковус, главное – спокойствие. Тут не только в грунте дело. В самом почерке работы. Бойко опрокинул всю вашу старую систему гидростроительства в пустыне. Он идет со своими бульдозерами, словно танковую колонну ведет. Быстро и эффектно. Многие твои строители работают у него, никуда они не убежали. И почти все твои танкисты там. Тут дело не только в заработке, но и как дается этот заработок. Работа, Ковус, должна быть, как песня. Чтобы радовала и укрепляла силы. Я тебе советую: перенимай опыт у Бойко. Впереди еще три очереди стройки. Перенимай опыт и внедряй его в бригадах молодых бульдозеристов...
Мы выехали, и в полдень были в Захмете. Гордеев сел в поезд и уехал, а я отправился на десятый стройучасток, где сейчас были сосредоточены все силы механизаторов. Здесь был аврал. Дорог был каждый час, каждый выброшенный на отвал куб грунта. Керкинцы поджимали: вели за собой воду и ждали одной короткой команды Калижнюка: «Открыть шлюзы».
Ночевал у Аскада. Они на экскаваторе вдвоем с помощником. Помогает ему щупленький паренек по имени Вели. Он из училища. Видимо, один из тех, кого привез сюда из Байрам-Али Ковус. Во вторую смену работали раньше два дюжих шабашника с Ангары, но они взяли расчет и покинули Каракумы. Мал показался заработок. Ночью сидим у костра, подкладываем в огонь корявые жгуты саксаула. Аскад говорит о беглецах:
– Пусть катятся к бабаю на огород... Без них тоже неплохо. Я думаю так, товарищ корреспондент. Технику надо любить. Она же, как живая. Как лошадь, как корова, например. У вас не было своей коровы или лошади? – спрашивает вдруг.