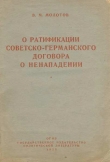Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Ты чего такой бледный? Наверное, тебе нельзя пить. Обычно от водки краснеют...
– Да я вроде бы неплохо себя чувствую,– отвечаю я и соображаю: как же мне теперь быть? Как вести себя с Тоней? И вообще, интересно, как после такого разговорчика она будет смотреть мне в глаза?
Тоня входит с веселым восклицанием:
– О! Вы уже во всю танцуете! А я задержалась...
– Кто-то звонил? – спрашивает Оля.
– Знакомая одна... Мамина подружка. Просила, чтобы зашла в мастерскую узнать, не сшили ли ей платье.
– Тоже мне, нашла время, когда спрашивать о платье,– удивляется Оля.
Тоня украдкой взглянула на меня и беспомощно опустила глаза. Нет, она не в силах быть спокойной. Ну а мне-то, мне-то каково?! Выть хочется от обиды. Надо взять шинель и бежать прочь отсюда. Я подхожу к вешалке, она за шкафом. Притрагиваюсь к шинели и думаю: «Но ведь испорчу праздник всем. Никто ничего не поймет, но веселье расстроится!» Достаю вторую пачку папирос из кармана, закуриваю и предлагаю:
– Не пора ли еще выпить по одной?
Тоня хватается за мое предложение, как утопающий за соломинку. Мой беззаботный тон, который дается мне с превеликим трудом, подает ей надежду, что я не слышал ее телефонного объяснения и ничего не подозреваю.
– Марат, ты как всегда вовремя! – подхватывает она и вновь передо мной лукавая и отзывчивая Тоня. Она опять обрела себя. Но я-то, я! Как мне себя прикажете вести! Я не выдержу игры в хладнокровное безразличие. Я уже давно веду себя не так, как всегда. Я явно не в своей тарелке. Тоня поверила, что я ничего не знаю о ее разговоре, но она тяготится своей нелегкой тайной, заглядывает мне в глаза со страхом и жалостью. Ей очень жалко меня.
– Как настроение, Тоня?
– Марат, давай я за тобой поухаживаю. Что-то ты е такой сегодня... Все твое остроумие куда-то исчезло, хочешь колбаски? Нет? А шоколадку дать тебе?
– Я выйду, в коридоре покурю. Она идет за мной.
– Странный этот Новый год,– говорит Тоня и трогает во тьме коридора пальчиками мой нос, брови, чертит какие-то крендельки на лбу.
– Я сейчас, наверное, уйду, Тонечка,– выговариваю я с трудом, потому что мешает удушье и не слушаются, дрожат губы.
– Что случилось, Марат?..
– Я слышал твой разговор по телефону, Тонечка... Я все понял.
Тоня вздрогнула. Я почувствовал, как метнулись ее пальцы на моих бровях и словно застыли. Да, конечно, она замерла в оцепенении. Дыхание остановилось. А мне-то что прикажете делать?
– Ну, я пойду, Тонечка...
– Марат! – вскрикивает она растерянно и обнимает меня.– Марат, не сходи с ума.
– Я-то пока в своем уме,– говорю я громче.– Это ты, видимо, сошла! Пусти меня...
– Марат, не делай мне больно. Марат, милый, я никогда тебя ни на кого не променяю!
Выглянул Чары и вновь прикрыл дверь.
– Отпусти руки. Мне больше здесь нечего делать!
– Марат, милый, не кричи. Ты кричишь на все общежитие. Давай зайдем сюда,– тянет она меня за руки и мы оказываемся в той самой соседней комнате, где Тоня пришивала к моей гимнастерке подворотничок.
Мы стоим в темноте, Тоня опять обвила мне руками шею, осыпает поцелуями.
– Прости, если что-то не так сказала. Но он же старик! Понимаешь, ему почти пятьдесят. Он в отцы мне годится!
– Тем не менее, ты беседовала с ним очень мило. А ну-ка, скажи, о чем он тебе говорил. О любви?
– Ну и что же, что о любви. Не обзывать же мне его за это. Сядь, Марат, успокойся... Ну, прошу тебя...
Я молчу. И молчание мое воспринимается, как прощение.
– Я не отпущу тебя... Ты должен понять меня...
– Чего уж понимать тут...– Я снимаю с плеч Тонины руки и открываю дверь.
– Марат, опомнись! – каким-то отрешенным голосом останавливает меня Тоня.– Ты не уйдешь... Если ты мужчина, то не оставишь меня. Закрой дверь на крючок... Или отойди, я сама... Давай сядем. Милый мой... хороший... Нет у меня никого, кроме тебя. Ты слышишь меня? Слышишь? Я люблю тебя и буду любить вечно, чтобы со мной ни случилось, чтобы между нами не произошло...
У меня звенит в ушах. Звон этот все сильнее и сильнее. И вот уже один огромный колокол бьет бешено и ритмично. Это стучит мое, вышедшее из повиновения, сердце. И второе, Тонино сердце слышу я. Оно бьется еще чаще... И руки ее... Какие они нежные, какие ласковые... Мысли мои путаются...
10.
В праздники в армии подъем на час позже. Мы переступили порог казармы за десять минут до подъема. Заиндевевшие с ног до головы. Бежали всю дорогу. Не рассчитали немножко. Из общежития вышли около пяти утра. Притопали на вокзал. Хотели сесть в какой-нибудь товарный поезд, но ни одного не было. Пришлось обойти чуть ли не полгорода по окраине, выйти к гужевому мосту через Куткудук и топать пешком. Вернее не топать, а бежать. Морозец был, что называется, «знатный». Сначала пощипывал за уши и нос, а потом стал пробирать насквозь. Мы опустили уши шапок, сняли ремни с шинелек и перешли на легкую рысь. Так и бежали все восемнадцать километров: с бега переходили на шаг и вновь бежали. Фролов то и дело ворчал:
– И для чего нужна была попу гармонь? За всю ночь ни одного глаза не сомкнул. У тебя-то хоть, какая ни на есть, а любовь.
Я бежал с ним рядом и думал: «Теперь уже не какая-то, а самая настоящая!» И все еще ощущал жаркое, безрассудное женское желание, стыд и смущение, и необычную чуткость Тони. А сейчас меня согревал ее пуховый шарф, заботливо повязанный мне на шею. Голова моя кружилась от счастья. И казались совершенно абсурдными вчерашние придирки. Лал Малахитович со всеми его ухаживаниями и признаниями в любви покинул мое сознание и удалился на такое расстояние, что о нем лень было думать.
В казарме, как только мы сняли заиндевевшие шапки и шинели, я сразу забрался в постель, предупредив дневального, чтобы на завтрак не будил, закрыл глаза и уснул.
Проснулся где-то перед обедом. Смотрю, возле кровати стоит Чары.
– Ну, что? – спрашивает. – Может, заглянем к Косте?
– Конечно, заглянем. Подожди, сейчас умоюсь...
Спустя полчаса, топаем по авиагородку. В окнах офицерских домов сверкают игрушками елки. Детвора возле домов катается на санках. В клубе – дневной сеанс. У разрисованной афиши толпятся авиаторы и приезжие девчата. Костю застали дома: лежит на диване, в очках, почитывает книжку.
– Привет, мои друзья! С Новым годом! – говорит Чары.
– Привет, Нина! Здравствуй, Костя! С праздником! – прибавляю я.– Как это ты ухитряешься в конусы и мишени попадать, если даже книги в очках читаешь?
– Это, чтобы понятнее было,– шутит он.– Без очков до смысла не доберешься. Ну, рассказывайте, ловеласы, как встретили Новый год!
– Отлично встретили,– посмеивается Чары.– Мне такая сердитая студентка попалась: всю ночь спорили. Все знает. О чем ни спрошу – сразу находит ответ. Бывают же такие!
– Ясно,– понимающе отмечает Костя.– А как у тебя, Марат?
– Все хорошо, Костик. У меня дела самые серьезные. Примешь меня в свой союз?
– В какой союз?
– В союз женатиков, разумеется.
– Ты что, жениться надумал? – глаза Кости сияют лукавством.– Нина! – кричит он жене, которая что-то жарит на кухне.– Марат испекся! Жениться собирается!
– Слушай, друг, только без шуток,– предупреждаю я.– Я же не смеялся, когда ты мне сказал, что решил расписаться с Ниной.
Для Чары это тоже новость, и он смотрит на меня, как на человека, которого раньше никогда не знал. Нина прибегает из кухни и артистически улыбается.
– Марат, что я слышу! В самом деле? Кто она?
– Русалочка та самая,– промолвил Костя.
– Ой, как романтично! – восклицает Нина. И тут только Чары, словно проснулся, говорит:
– То-то ты спрятался на всю ночь ото всех. Закрылся в соседней комнате со своей русалочкой и сидит!
– Если бы только сидел! – хохочет Костя.– Как видишь, дело к свадьбе идет!
– А она согласна? – спрашивает Нина.
– Конечно, согласна,– говорю я уверенно и ни на грамм не сомневаюсь в своей уверенности. «После того, что произошло, всякий порядочный мужчина просто обязан жениться!» – думаю я.
– А где будете жить? – снова спрашивает Нина.
– Посмотрим, я еще об этом не думал.
– А на какие шиши? Она же студентка! Ни у тебя, ни у нее за душой ни гроша. Ты хоть подумал об этом?
Я молчу под натиском этой рачительной женщины. Пряма, как штык. Ее землистое от беременности лицо освещается жалостливой скептической улыбкой.
– Думаешь, зря я тебе все время твержу, что ты витаешь в облаках? Ужасный человек. Совершенно не думаешь о жизни. Ну, ладно,– вдруг ожесточается она.– Себе ты изуродуешь жизнь – бог с тобой! Ты этого заслуживаешь. Но девушка-то почему из-за твоей дурости должна мучиться?
– Нина, прекрати,– строго одергивает ее Костя. – В конце концов это не твое дело.
Я молчу и едва сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть дверью и уйти. Молчание мое воспринимается Ниной, как поражение, и она начинает вновь вразумлять и советовать. Я даже не слушаю ее. У меня свои размышления. «Дело вовсе не в материальной стороне,– думаю я.– Заработать всегда можно. Только не надо лениться». Беспокоит меня иное. Чтобы жениться на Тоне, я ведь должен, по крайней мере, познакомить ее хотя бы заочно с мамой и отцом. Должен написать в Баку отцу и маме в Ашхабад. Только что же они подумают? Мама подумает: «Отец без ноги лежит и еще неизвестно, когда поднимется, а сыну начхать на его здоровье: решил жениться. Марат, Марат, ты с ума сошел! Что с тобой? Разве это так срочно? Разве нельзя подождать? А как же твоя мечта – стать журналистом?» Лучше не думать о том, что подумает мама. А если отцу сказать, тот вообще неизвестно как себя поведет. А сам-то тоже хорош. Привез маму в Реутов, а дед мой палкой его по спине. В конце концов и я могу без всякого разрешения! – утверждаюсь на мысли, и от этого мне становится легко и весело. Слово за слово, начинаю разыгрывать Нину.
– Ниночка, ты удивительно умная женщина, я перед тобой – пас. Но ты ведь добрая, правда? Ведь не выгонишь ты мою невесту, если она попросится к тебе?
– В гости или... жить? – с испугом спрашивает Нина.
– Временно, конечно... пока квартиру найдем.
– Ты прямо-таки бредишь, Марат,– злится она.– Разве ты не видишь, какая у нас маленькая клетушка? Барахло некуда сложить: под кроватью держим... Да и маленький скоро будет,– произносит Нина тише.
Я тоже почувствовал, что зашел слишком далеко, слишком «глубокий штопор», надо скорее выходить в горизонталь.
– О малыше-то я и забыл, Ниночка. С удовольствием пошел бы в крестные, но комсомолец.
– Да уж найдем, кому крестить,– обрывает Нина.
– Не вздумай,– строго предупреждает Костя.
Чары серьезно смотрит на Костю и молчит. Потом подошел тихонько, взъерошил ему волосы и хлопнул по плечу.
– Будь спокоен, Костя...
Вечером – концерт художественной самодеятельности. Пел хор и солисты. Костя лихо отбивал чечетку.
Нина, Чары и я сидели во втором ряду. В то время, как авиаторы сзади нас с завистью говорили о мастерстве Кости, Нина возмущалась.
– Ну, ни капельки у него серьезности нет. Скоро отцом будет, а ему бы плясать. Чего я только ни делала, чтобы отучить его...
Мы с Чары делали вид, что не слышим ее возмущений. Да и не очень-то активно на этот раз возмущалась Нина. По-моему, она смирилась с увлечением своего супруга, иначе бы и в клуб не пришла.
11.
Сразу после праздника вновь возобновилась кропотливая подготовка к полковым полетам. Весь личный состав полка на стоянках. Все заняты делом. Только я все еще мучаюсь с докладом.
В начале февраля я, наконец, положил на стол Бабаеву двадцать пять страниц на машинке и попросил:
– Товарищ подполковник, если что-нибудь не так, я по вечерам переделаю. Разрешите мне ходить на мат-часть? У меня пулемет не чищен, да и вообще... Я же – воздушный стрелок!
– Переделывать, разумеется, придется,– тихонько говорит Бабаев.– Такого не может быть, чтобы сразу хороший доклад получился. Ну, а что касается воздушного стрелка, тут мне кажется, ты и сам-то не очень прикован к небу. Ты – журналист по призванию. В гражданку уйдешь, вряд ли станешь работать в авиации. Так что тут с моей стороны все продумано. Если ты и запомнишься чем-то мне и другим твоим товарищам, так своим очерком о Мирошине и стихами... «Небо», кажется, называются?
– Так точно, товарищ подполковник.
– Ну, ладно, можешь посещать матчасть. После полковых полетов опять вызову в штаб. На самолетной стоянке снег уже сошел, трава зеленая пробивается. Вся взлетная полоса зазеленела. И под фюзеляжем, и под плоскостями самолетов – травка. Так что не теряйся: бери лопатку и удаляй ее, пока не разрослась. Пока она как щетина, которую можно сбрить бритвой. Механик с превеликим желанием вручает мне лопату. – Засиделся ты, засиделся,– приговаривает с жалостью.– Разомни косточки-то. Почистишь под самолетом, потом не забудь чехол с кабины снять и состирнуть. Погляди-ка, как его птицы загадили.
– Ладно, мели Емеля, твоя неделя,– отмахиваюсь от механика.
Но тут появляется Хатынцев.
– Ба, кого я вижу! – восклицает он удивленно.– Вот не думал, не гадал. Не забыл, как сия техника называется? – показывает на пулемет.
– Ладно вам, товарищ лейтенант...
– Нет, я серьезно. Вот это, например, что такое? – спрашивает он.
– Турель, – говорю. – Что же еще.
– Смотри-ка, люди, оказывается, и о таких безделушках помнят. А я забыл. Смотрю и думаю, как же та полукруглая чертовщина называется.
– А как эта штуковина называется, помните? – показываю я на лопату.
– Ну еще бы, конечно, помню,– наивно улыбается Хатынцев.– Это грабли, которыми чугунки из печки вытаскивают. А ты траву ими взялся чистить, поэтому ничего и не получается.
Авиаторы смеются. Стоят сложа руки, словно меня только и ждали, когда я приду и почищу под самолетом. Техник звена не выдержал и подошел к нам.
– Есть желающие сбегать в РАО? Что-то бензозаправочных машин долго нет. Ну, кто? Только не все сразу.
– По-моему, у нас тут только один желающий... Природин,– заговорил механик.– Он так соскучился по матчасти, что стоим вот, просим у него «дай лопату», а он не отдает. Соскучился, говорит, по работе, руки чешутся.
– Жми, Природин, к командиру РАО. Скажи, какого они там лешего тянут? Моторы обкатывать пора.
Бросаю лопату, иду. Возражать бесполезно. Теперь, пока не впишешься в общий антураж, все время тревожить будут. Отошел уже, и тут Хатынцев окликнул:
– Природин, вернись!
– Что еще?
– Другой кто-нибудь сходит, идем-ка побеседуем. Садимся на свернутый самолетный чехол, закуриваем. Хатынцев спрашивает:
– Закончил доклад?
– Кажется, да.
– Ну что там, в докладе, хорошего? О боевых подвигах есть что-нибудь?
– Есть, конечно. А что именно вас интересует?
– Ну, например, написал ли ты о Жорке Каляде?
– Нет, не помню что-то... Я такую фамилию не встречал. А кто это?
– Киномеханик наш. Жоркой Калядой его зовут. Он же – бывший летчик нашего полка. На костылях, бедняга, ходит, кренделя перебитыми ногами выписывает... А какой был ас Жора! Мы ему завидовали и поклонялись, как богу. Играл в воздухе машиной. Жалко, не повезло. Схватился с двумя «мессерами», одного сбил, а другой его. Пулеметной очередью ноги ниже колен раздробило. И вот в таком состоянии посадил машину. Правда на брюхо. Шасси не смог выпустить. Сил не хватило. Отвезли в госпиталь. Думали, пропал. Только через два года, уже после войны, на костылях в полк вернулся. Теперь – в вольнонаемных...
– Что же вы мне раньше не сказали, товарищ лейтенант?!
– Я что ли должен тебе подсказывать? С Бабаевым же историю пишете: должны сами знать.
Я призадумался. Надо, пока не поздно, отметить в докладе. Мысленно я отыскиваю место в тексте, куда можно вставить несколько предложений о Жоре Каляде, а лейтенант снова подбрасывает вопрос:
– А о Дзюбе есть?
– Есть,– облегченно отвечаю я.– Об этом есть. Он же еще в истребительном полку в первый раз отличился, когда сбил двух фашистских стервятников!
– А как он оказался в нашем, штурмовом полку знаешь? Нет? Я так и знал. Однажды он заплутался и сел на немецкий аэродром. Уже из кабины наполовину вылез, только тогда заметил неладное. Увидел немецких офицеров, выхватил пистолет, выстрелил пару раз и опять в кабину. Кое-как успел взлететь. Чуть было не оказался в плену. А когда вернулся на свой аэродром, заскочил, как бешеный, к командиру полка и понес его матом: «Вы что, говорит, воюете или спите?! Почти час в воздухе находился и ни одного позывного сигнала!» Ну, командир истребителей тоже парень с характером. «Катись ты, говорит, отсюда вон!» И добился, что перевели Дзюбу в штурмовики...
– Ну, об этом, наверное, в докладе не скажешь,– усомнился я.
– Нет, конечно. Об этом не надо. Это я просто вспомнил. Каких только ситуаций не было! Ну да ладно. Ты еще разок со всех сторон посмотри доклад. И на сослуживцев не обижайся. Думаю, что все наши понимают, каким добрым и полезным делом ты занят. А кто всерьез злобствует, тому я сделаю внушение. Не беспокойся...– и, встав с чехла, он ушел. А я задумался: прав Хатынцев. Надо наверстать упущенное. Вечером иду в штаб. Замполита нет. Звоню домой.
– Товарищ подполковник, нельзя ли на вечер взять доклад? Кое-что хотел бы дополнить.
– Нельзя, потому что доклад у командира полка, затем его посмотрит начальник штаба. Обсудят, внесут замечания, вот тогда и внесете свои коррективы. Я сообщу вам, когда это можно будет сделать.
– Ясно, товарищ подполковник.
Проходит день, другой. Работаю на матчасти. Под самолетом чистота, нет ни травинки. Пулемет вычищен. Заодно выдраил и весь корпус «Илюхи» каустической содой. Хожу весь в масле. Веселая житуха!
Руки в масле,
нос в тавоте,
но зато в воздушном флоте!
В пятницу, часа за два до рассвета,– тревога.
– Тревога! – орет во всю мощь легких дневальный.
– Трево-о-ога! – вторит ему дежурный по эскадрилье.
– Тревога, тревога, подымайсь! – петушком выкрикивает старшина.
– Живей, живей, орлы! Приготовиться к построению! – поторапливает адъютант эскадрильи.
Весь офицерский состав в казарме. Летчики курят в коридоре, покашливают и наблюдают, как их подчиненные лихо сбрасывают с себя одеяла, одеваются, бегут к пирамиде, хватают карабины и становятся в строй.
– Отставить оружие! – кричит адъютант.– Надеть комбинезоны!
И вот уже суматоха у вешалки. Сопят братцы, поругиваются, толкаются локтями.
– Эскадрилья, становись! – кричит адъютант. – Равняйсь! Смирно!
После сдачи рапорта комэску Чернявину отправляемся на стоянку.
Топаем в темноте, наступая друг другу на пятки. Снег подтаял. Оттепель. Даже на ночь грязь не замерзла. На стоянке сразу бросились к самолетам. Стаскиваем чехлы и с каким-то жадным ожесточением тащим их к каптерке. Цель столь невероятного усердия – одна. Поспать, завернувшись в чехол, еще минуток шестьдесят, пока механики и мотористы будут обкатывать моторы. Заворачиваемся по два, три человека в каждый чехол. Засыпаем и слышим, как на всю Хурангизскую долину разносится мерный и невероятно мощный гул работающих моторов. Примерно через час просыпаемся, словно по заказу. Просыпаемся от наступившей тишины. Теперь наш черед. Спешим к самолетам.
– Природин, где ты там?! – кричит Хатынцев.
– Здесь, товарищ лейтенант. В кабине уже.
– Молодец, ты всегда наперед батьки лезешь в пекло. Давай-ка проверим шлемофоны.
Проверяем надежность наушников. Работают исправно. Хатынцев начинает гонять мотор на всех оборотах. Вот сбавил газ, ждет сигнала. Проходит минута, другая, и над взлетным полем повисает зеленая ракета. Полеты в составе полка, посвященные десятой годовщине его рождения, начаты. «Илы», словно огромные зеленые жуки, ползут со стоянок к взлетной полосе на предстартовую площадку. Там, возле рации командный состав и десятки спецмашин: с бензином, с маслом, дежурные кареты «скорой помощи», машины, груженные баллонами со сжатым воздухом. Некоторые самолеты не успели зарядиться воздухом на стоянке и заряжаются прямо здесь. В сутолоке незаметно наступает рассвет, а это значит: ждать больше нечего – надо взлетать.
«Парадом» с земли сегодня командуют представители из штаба дивизии. Сам «батя» поведет звено управления. Причем, взлетает первым, в паре с заместителем по летной части. Вот их машины выруливают на взлетную полосу, следует отмашка флажком стартера, и самолеты, взревев, несутся по травянистому полю.
– Ну что ж, хорошо! – довольно говорит Хатынцев. – Посмотрим, что нам скажет вторая пара.
Вторая пара «Илюх», тоже из звена управления, взлет производит с таким же блеском.
– Пошла губерния, – удовлетворенно тянет механик и смотрит на часы.– Разрыв между двумя парами ровно тридцать секунд. Я засек, товарищ лейтенант.
– Только так, – подтверждает Хатынцев. —А иначе, какой смысл всем полком лететь? Если б на взлет каждого самолета была затрачена всего лишь минута, то последний – пятидесятый по счету, поднялся бы в воздух через пятьдесят минут после первого. Последний бы поднялся, а первому уже садиться надо – бензин на исходе. Поднять все пятьдесят машин единым духом – в этом и весь смысл боевой подготовки...
Взлетают парами. Быстро все это происходит. Вот уже и наша эскадрилья наготове. Сели с Хатынцевым в машину, закрыли фонари, ждем вызова. Потихоньку работает мотор.
– Сокол-2, на старт! – звучит команда.
– Есть на старт! – чеканит Хатынцев и взмахивает руками. Это жест для механика, чтобы убрали из-под шасси тормозные колодки. – Ну, потопали, – говорит он мне.
– Ни пуха ни пера, товарищ лейтенант.
– К черту...
Выруливаем на старт, дожидаемся отмашки стартера. И вот взлет. Трехчасовое напряжение ожидания взлета сразу сменяется легкой нервозностью. Сердце стучит учащенно, а уши с кошачьей чуткостью вслушиваются в ритм мотора. «Не чихает, случайно? Кажется, нет. Слава аллаху!» Мягкое, желанное спокойствие разливается по всему телу. И радость ощущения самого полета. Сначала я вижу только стабилизатор, покачивающуюся проволоку антенны и белое пятно птичьего помета на киле. «Вот, сволочь, – ругаю птицу. – И когда она успела?» Но вот за стабилизатором, примерно в двух километрах, вижу идут парой «тройка» и «четверка». Они должны нагнать нас и пристроиться справа. Так и есть. Они заходят сбоку, и вот уже я не вижу их, поскольку сижу спиной к носу самолета. Теперь мне уже видна четверка других, следом идущих самолетов.
Мы пролетаем над Хурангизской долиной. Зрелище удивительно красивое. Горы сплошь в снегу. Только возле самого Куткудука они бурые: там снег уже растаял и проталины по всей долине. На полях виднеются тракторы и грузовые машины на дорогах. Затем мы пролетаем над городом Хурангизом. Я смотрю вниз. Интересно, где там общежитие пединститута? Нет, не разберешься сразу, где что. Дома, сады, опять дома, площадь, железная дорога, поезд.
Ровно через тридцать минут возвращаемся на свой круг. Самолеты заходят на посадку, облетая Куткудукские озера. Вон оно, роковое и желанное озерцо, на котором я познакомился с Тоней. А вон и поселок, в котором живет ее мама. Избушки, садики кажутся игрушечными. Будет тепло, обязательно сагитирую Тоню съездить к ней домой и познакомлюсь с ее матерью.
– Сосна, я Сокол-2! – говорит по рации Хатын-цев. – Разрешите посадку!
– Сокол-2, посадку разрешаю. Выпускайте шасси!
«А что если шасси не сработают?» – испуганно думаю я и слышу, как самолет вздрагивает всем корпусом. Это он выпустил колеса. Теперь весь вопрос – дадим «козла» или нет? Хатынцев этим озабочен больше моего. Сядет «впритирку» – получит благодарность на послеполетных разборах. Даст «козла» – пропесочат.
– Ну, милая, – почти стонет он, сажая машину,– не подкачай...
И самолет, мягко коснувшись земли, как послушный конь, бежит по зеленому полю.
– Сокол-2, заруливайте на стоянку.
– Слушаюсь, – удовлетворенно отзывается Хатынцев и начинает насвистывать мотивчик из «Кармен».
На стоянке мы вылезаем из кабин, улыбаемся от сознания успешно выполненного задания. Вот «Илюхи» один за другим заруливают на свои стоянки. Смотрим на них, и таким хорошим кажется сегодняшний день. Сколько в нем солнца и голубизны! Теперь – небольшой отдых, а потом торжественная часть и общеполковой праздничный ужин.
Летчики и воздушные стрелки первыми покидают аэродром. У механиков и мотористов еще полно дел. У техников и инженеров тоже. Инженер эскадрильи широким размашистым шагом топает вдоль стоянки, шумит.
– К сведению механиков! Товарищи, прошу сегодня же заполнить формуляры и принести на подпись!
– А если завтра, товарищ майор?
– Никаких завтра! – властно обрывает он. – Бензин сегодня жгли, сегодня за него и отчитываться надо.
– В дорогую копеечку выливаются такие полеты,– задумчиво говорит Хатынцев.– Представляешь, пятьдесят моторов. И каждый сжег не меньше семисот литров бензина!
– Но зато народу жить спокойнее, – говорю я.
– Понятное дело, – соглашается он и предупреждает: – Только не произноси банальные фразы. Ты же поэт!
– Ну, если на поэтическом языке,– говорю я,– то это будет звучать, примерно так: пока будет небо – будут и крылья! Сойдет?
– Сойдет для экспромта. А вообще-то можно было бы и пообразнее.
Отдохнув немного, иду к Бабаеву. До начала торжественного вечера осталось всего четыре часа. Но надо ведь доклад еще раз посмотреть. Вхожу в штаб, стучусь в кабинет замполита:
– Товарищ подполковник, разрешите?
– Входите, Природин. Как самочувствие? Хорошее? У всех сегодня хорошее. Вам бы следовало о сегодняшнем дне написать в окружную газету.
– А о чем писать-то, товарищ подполковник? Все гладко. Взлетели, «сходили в зону» и сели. Никаких эпизодов.
– Что значит: взлетели и сели? – сердится замполит. – Пятьдесят самолетов в воздухе одновременно! Вы видели когда-нибудь такое? Разве что на Тушинском параде в Москве! Пятьдесят самолетов в одном строю на высоте двух тысяч метров: да это же высшая оценка боевой и политической подготовки полка! Вам понятно?
– Так точно, товарищ подполковник. Я сегодня же напишу. Если разрешите, я хотел бы еще раз просмотреть доклад.
– Не надо. Нет никакой необходимости, – отвечает замполит. – Мы с командиром и начальником штаба внесли все, что требовалось. Но вы – молодец. В основном справились. Идите отдыхайте. В восемь – в клуб.
– Слушаюсь.
Вечером Костя, Чары и я входим в гарнизонный клуб. Он переполнен. Восемьсот мест, а сесть негде. Становимся у стены, сняв шапки, словно странники. Начальник клуба подталкивает нас вперед:
– Проходите, проходите, товарищи. Не может того быть, чтобы негде было сесть.
Мы вытаскиваем из кинобудки три стула, вносим в зал и садимся сбоку. Тут как раз дежурный-офицер призывает к порядку, и на сцене появляется командование полка. Вместе с «батей» шествует какой-то полковник. Кто-то говорит: это начальник политотдела дивизии.
– Все ясно, – говорю в шутку Чары. – Скажи ему, пусть начинает.
– Ладно, не важничай, – шепчет Чары. – Сейчас посмотрим, что ты там нацарапал.
Но до доклада еще далеко. Торжественный вечер начинается с того, что позади наших спин вдруг взрывается медь оркестра и гремит марш. Весь зал встает и аплодирует, а на сцену знаменосцы выносят расчехленное знамя полка. Когда музыка смолкает, слово дают начальнику политотдела дивизии. Он говорит пышную вступительную речь, зачитывает правительственный Указ о награждении нашего штурмового авиационного орденом Красного Знамени за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны и прикрепляет орден к знамени. Опять гремит оркестр, и все рукоплещут в неистовом порыве неожиданной радости. «Батя», чтобы унять расходившихся авиаторов, поднимает руку и требует тишины. На трибуну выходит замполит, подполковник Бабаев. Зачитывает список награжденных: Дзюба, Михайлов, Коляда, Хатынцев. Список продолжается, но я уже сосредоточил внимание на фамилии своего командира экипажа и думаю: как же я не догадался расспросить его о фронтовых заслугах. Хатынце-ву вручают орден Красной Звезды, а в докладе о нем ни слова. Мне так хочется потихоньку подняться на сцену, подойти к Бабаеву и исправить свою оплошность. К сожалению, этого сделать невозможно. Поздно. Вот уже и «батя» занимает место на трибуне. И опять огорчение. Доклад начинается не моими фразами. Я-то сидел, вымучивал их, в газетах рылся, шуршал, как таракан за печкой. А тут просто: «Сегодня наш штурмовой авиационный празднует свое десятилетие» и так далее, и тому подобное.
Сижу, прислушиваюсь к каждой фразе. Черт возьми, эти штабисты, кажется, ничего моего не оставили. Еще час назад я чувствовал себя композитором, музыку которого будет исполнять прекраснейший оркестр под руководством опытного дирижера. Но сейчас я страшусь даже назвать себя соавтором столь величественного и мудрого произведения. О «плане Маршалла», конечно, они оставили. И о том, что авиаторы – это надежные соколы и что-то в этом роде, – тоже осталось. Но в основном, все переиначили. Я слушаю доклад в полной растерянности, а Чары тихонько пожимает мне руку и шепчет:
– Молодец, Марат. Не думал, что так хорошо получится.
Костя, с другой стороны, тоже подхваливает.
– Хорошо ты о Коляде написал... Этот ас достоин.
И тут «батя» начинает рассказывать о подвиге Хатынцева. Оказывается, мой командир почти всю войну был в звании старшины. Вкалывал механиком в легкомоторной авиации и сам постепенно научился летать на «По-2». И вот, под Будапештом пошли наши штурмовики бомбить какую-то переправу: с заданием отлично справились, но и потеряли в бою майора Брусницына, комэска первой эскадрильи. Должность его тогда принял Михайлов. Он дружил с Брусницыным – одновременно кончали летное училище. В тот день, когда погиб Брусницын, Михайлов сказал: «Умру, но сожгу это гнездо черных «мессеров».
Фашистский аэродром располагался где-то в пятидесяти километрах, но где именно, можно было лишь предполагать. И вот старшина Хатынцев со стрелком Риммой Дорониной летят ночью на разведку. Взяли с собой, на всякий пожарный случай, десятка два зажигательных бомб. И надо же, вышли прямо на немецкий аэродром. Небо тут просвечивалось прожекторами. А «По-2» прокрался над деревьями, четырежды прошелся вдоль немецких стоянок взад-вперед и сжег почти все мессершмитты...
«Батя» смотрит в зал и торжественно оповещает:
– Ну, Хатынцева все вы знаете. Он уже поднимался на сцену. А Римму Доронину, видимо, не все помнят. А новички и вовсе не знают. Римма Алексеевна приехала на наши торжества из Москвы. Пожалуйста, поднимитесь сюда, Римма Алексеевна.
Красивая девушка в кожанке, с распущенными волосами, бойко поднимается на сцену. «Батя» вручает ей орден Красной Звезды и продолжает доклад...
Доклад кончается под бурные аплодисменты. Замполит объявляет об окончании торжественной части, и мы направляемся к выходу. Теперь – в столовую.
Сержантская столовая – все равно что крытый стадион. В то же время она всегда мне напоминает гридницу киевского князя Владимира из кинофильма «Руслан и Людмила». Когда я вхожу в столовую, я всегда вспоминаю пушкинские строки: