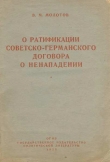Текст книги "Знойная параллель"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
3.
В среду я отправился в Хурангиз. Пригородный поезд с полчаса волочился по долине, минуя речушки и пожелтевшие сады, и остановился перед зданием вокзала. На привокзальной площади людно. Толпы у автобусных остановок, возле базарчика, возле магазинов, парикмахерских и около чайханы, которая вольготно раскинулась около широкого арыка. С одной стороны дощатые настилы и кошмы, с другой – жаровни с пряным шашлыком. Из чайханы несется одуряюще звонкий голос певца и бренчание струн. Пируют, разумеется, бывшие фронтовики. Среди полосатых таджикских халатов видны гимнастерки. Около них образуются компании. Люди с интересом слушают их, поют для них лучшие песни. И вообще, если присмотреться, то бывшие военные – всюду.
Вскоре я добрался до двухэтажного дома, в котором размещается редакция хурангизской газеты. В коридорах тишина, лишь где-то постукивают пишущие машинки. В секретариате мужчина в кителе без погон спрашивает:
– У вас стихи?
– Я приехал на собрание литобъединения. Наш замполит звонил редактору.
– Слышал о таком разговоре. Но занятия в семь, рановато приехали.
Действительно, до семи еще целых три часа. Дерзкая мысль, которая не покидала меня всю дорогу, пока ехал сюда, вновь обжигает сердце. «Надо найти Тоню Глинкину: это ведь не очень сложно!» Спросив у прохожих, где находится пединститут, шагаю мимо больших фонтанов у гостиницы, минуя кинотеатр, выхожу на базарную площадь. Снова толпы у прилавков и суета невероятная. Обогнув шумную толчею, спешу к подъезду института.
У входа группа студенток с учебниками. Судя по всему, занятия только кончились. Спросив у девушек, где общежитие факультета истории, спешу туда. Одна из студенток вызвалась меня проводить.
– А вы к кому?
– К Глинкиной.
– Знаю, знаю такую. А вы кто ей... Брат или?..
– Не брат и пока что даже не «или». Просто знакомый.
Мы взбежали на второй этаж. Девушка отыскала нужную комнату, отворила дверь и церемонно доложила:
– Глинкина, принимай гостя.
В комнате четверо девушек. Все удивленно переглянулись.
– Вам кого? – спрашивает Тоня, отходя от зеркала, перед которым она только что прихорашивалась.
– Вас,– неуверенно выговариваю я.
– Меня? – удивляется девушка и хлопает глазами. Остальные смеются.
– Ну, святоша! Только говоришь, что у тебя никого нет, а посмотри, какой красавец пожаловал!
– Вы серьезно... ко мне? – строже спрашивает Тоня.
– Ну, тогда, на озере... Помните? Я документы у вас проверял!
Девчонки расхохотались еще громче, а Тоня залилась румянцем.
– Да, кажется, припоминаю,– соглашается она и направляется к двери.– Давайте-ка выйдем, тут все равно не дадут поговорить.
Мы останавливаемся возле лестничных перил.
– Зачем вы пришли? Опять, что ли, документы проверять? – спросила Тоня.
– Нет, не за этим, – отвечаю стесненно. От волнения у меня все дрожит внутри.– Я в редакцию приехал. На заседание литобъединения. Я сочиняю стихи.
– Ну и о чем у вас стихи? – спрашивает Тоня.
– Обо всем... О небе... О любви... Пойдемте со мной?
– На литобъединение? – растерянно переспрашивает Тоня.– А это во сколько? Мне вечером в библиотеку. Она только до десяти работает.
– Успеете, я провожу вас. Пойдемте?
Пока мы разговариваем, дверь комнаты все время открывается и девчата поглядывают в нашу сторону и хихикают. Тоня нервничает. Отвлекаясь от нашей беседы, она бросает выразительные взгляды на подруг.
– Вы не обращайте на них внимания,– просит она, мило улыбаясь.– Я ведь им рассказала о том случае на озере. Хотите, познакомлю? Идемте в комнату! Девочки,– говорит она с нарочитой дерзостью, чтобы окончательно побороть смущение.– Это действительно он. Познакомьтесь.
– Вождь революции... Марат,– говорю я и подаю руку каждой в отдельности.
– Француз? – с недоумением спрашивает одна, в мелких кудряшках.
– Не совсем, – мигом отвечаю ей.– Я – гренландец.
Вот Тоня знает. Нас вместе с ней эвакуировали с гренландского ледяного материка.
– Как! Вы и раньше были знакомы? – опять наивный вопрос.
– Мы с айсберга на санках вместе катались,– вру напропалую и не знаю, куда несет меня дурацкая моя фантазия.– Тоня однажды чуть не скатилась в Гренландское море. Помните, Тоня?
Но Тоня и не собирается поддерживать меня:
– Ну и врунишка! Девочки, надо его напоить горячим чаем, может, отойдет. А пока пусть вспоминает, как оттяпали голову Дантону.
– Марат не мог об этом знать,– заявляю я, садясь к столу.– Марат погиб на год раньше Дантона.
– Мамочки, посмотрите, он даже об этом знает. А я не могла ответить, в каком году погиб Марат, и получила неуд!
– Марат бессмертен,– тотчас заявляю я и чувствую, что запас моей фантазии иссякает.
– Ну а чем вы там у себя занимаетесь, кроме того, что шутите? – спрашивает девушка в кудряшках, по имени Оля.
– Да, правда. Расскажите, Марат, как вы там живете, – просит Тоня. – Мы каждое утро слышим, как ревут моторы ваших самолетов. А чем занимаетесь вы сами?
– Мы заставляем реветь моторы! – восклицаю я патетически.– Мы поднимаем многотонные крылья в небо. Разве этого мало?
– Ну, а досуг как проводите?
– На досуге в основном занимаемся диспутами,– опять несет меня куда-то в сторону.– Недавно, например, выясняли «что есть жизнь?».
– Чего тут выяснять-то? – говорит опять кудрявая Оля.– Жизнь есть жизнь. По-моему, всем давно ясно: «Кто не работает, тот не ест!»
– Марат, а что думаете вы о жизни? – интересуется Тоня, размешивая в моем стакане сахар.
Невольно я вспомнил вечер, когда мы с Костей провожали Нину и я ей говорил о зеленых и голубых улицах. Какая чушь лезла мне тогда в голову!
– Знаете, Тоня, откровенно говоря, мы еще только собираемся провести у себя диспут о назначении человека в жизни. Но могу сказать, что почти все авиаторы после службы отправятся на большие стройки.
– А вы?
– И я тоже,– отвечаю ей не очень уверенно и тихо шепчу на ушко: «Все будет зависеть от вас».
– О, вот вы какой! – смеется Тоня. – Пейте-ка лучше чай, а то остынет.
Наболтавшись вдоволь и сделавшись в этой студенческой комнатушке «своим», я прощаюсь с девчатами и в сопровождении Тони выхожу из общежития. Девчонки, растворив окно, кричат со второго этажа:
– Привет от нас авиаторам!
– Передайте, не забудьте, пусть приезжают!
Я останавливаюсь, потому что чувствую мучительную потребность сказать на прощание что-то очень значительное.
– Пока мы будем служить, постарайтесь создать материальную базу коммунизма! – кричу я девчатам и беру Тоню под руку.
– Вы покорили моих подруг своей общительностью! – говорит она.
– А вас?
– Я тоже люблю общительных людей. Только вы, по-моему, не очень серьезный человек.
– Тоня, да вы что?
– Не знаю, может быть, и ошибаюсь, но на первый взгляд – вы выглядите не очень-то серьезным.
Мне становится неприятно от такой откровенности. В груди появляется стеснение, и я удрученно молчу.
– Ну говорите, говорите! Что ж вы замолчали? – просит Тоня.
Я молчу, потому что действительно вдруг почувствовал себя восторженным придурком. Об этом и Нина мне говорила.
– Ну вот, уже и обиделся,– упрекает девушка.– Идет, молчит, словно воды в рот набрал!
– А о чем говорить? – отзываюсь я.– Если скажу, что люблю вас, все равно не поверите.
– Конечно нет,– смеется она.– Не поверю хотя бы потому, что не так признаются в любви. Марат, прочтите лучше какое-нибудь стихотворение,– неожиданно просит Тоня.– Свое, разумеется.
– По-вашему, писать стихи – это серьезно?
– Конечно.
– Даже о любви?
– По-моему, поэзия и любовь – неразделимы.
– Ладно, прочту. Только не сейчас. Здесь как-то неудобно. Люди идут навстречу... Услышат еще.
– Пойдемте через питомник? Там нет никого,– предлагает девушка.
Мы перепрыгиваем через арык, переходим дорогу и входим в оранжевый мир осенней листвы. Здесь так сильно ощутимо увядание, даже становится жутковато. Тоня тоже это чувствует и, по-моему, робеет.
– Читать? – спрашиваю я.
– Ага.
Взгляни, какая сила жажды,
Как величав природы дух!
Все от того, что любит каждый,
что смысл любви в сближеньи двух...
– Ну, как? – спрашиваю, немного выждав.
– Это твои?
– Мои... А что?
– Хорошие стихи. Серьезные и, главное, лаконичные. А в беседе ты совсем не такой.– Тоня не замечает, что назвала меня на «ты».– В разговоре ты «алалашник». Но это, наверное, хорошо... С тобой не соскучишься.
– Тоня, я люблю тебя... С той первой встречи. Веришь мне? – Я останавливаю ее и беру за плечи.
– Не надо, Марат,– умоляюще просит она, и я опускаю руки.
Некоторое время идем молча. Я кляну себя, что не проявил настойчивости, не поцеловал ее. Сейчас было бы, наверное, гораздо легче. Но к чему теперь жалеть? Вот уже и аллея кончается. Вот уже улица. И люди везде.
– А ты не такой и бойкий! – смеется Тоня. Моему «возмущению» нет предела.
– Это я-то не бойкий? – говорю, не слыша собственного голоса, и целую Тоню прямо на тротуаре, на глазах у прохожих.
– Да ты просто ненормальный! – вырываясь, возмущается она.– Это же мальчишество! Отпусти!
Тоня круто разворачивается и быстро идет. Сначала по тротуару, затем, увидев, что над нами смеются, сворачивает в чащобу питомника. Я догоняю ее и от страха, что теперь потерял ее навсегда, хватаю за руки.
– Тоня, прости... Я действительно сошел с ума...
Я заглядываю ей в глаза, ищу спасительную искорку ответной любви – и нахожу. Взгляд ее всепрощающ, а вид словно у раненой лани.
– Тоня, я же люблю тебя...
Она не оказывает сопротивления. Я целую ее и чувствую нежные руки. Они обняли меня и пальчиками толкаются в плечи.
– Ненормальный,– вновь повторяет она, но уже тихо и бережно, словно боится потерять эту «ненормальность». – Мы не опоздаем на литобъединение?
– Ох, конечно, можем опоздать! – спохватываюсь я и смотрю на часы. До начала собрания осталось двадцать пять минут.– Побежали, еще успеем!
Вновь выходим на тротуар и спешим, обгоняя прохожих, к Дому печати.
Пришли как раз вовремя. В коридоре редакции человек двадцать. Кто курит, кто почитывает газету. Стоят по двое, по трое. В кабинете секретаря, где будет проходить собрание, московский поэт. Люди – как люди, только все пишущие. Это-то и смущает меня. А еще больше Тоню.
– Марат, ты знаешь, по-моему, мне тут делать нечего. Может, я пойду?
– Тонечка, не бойся. Я ведь тоже – в первый раз. И потом, ты зря волнуешься: ты ведь студентка! Может быть, даже литературоведом будешь или критиком. Судя по тому, как ты оценила сегодня мое стихотворение, из тебя выйдет настоящий критик. Не каждому дано за десять лет вперед увидеть гения!
– О боже, ты и здесь не теряешься, шутишь,– тихонько говорит Тоня, озираясь по сторонам.– Услышит кто-нибудь... Вон тот, например,– показывает она глазами на мужчину в коричневом пиджаке и брюках, с тетрадкой.
– По-моему, это жертва сегодняшнего обсуждения. Видишь, как переживает, даже руки трясутся.
Тоня тихонько смеется. И в это время из редакционной комнаты выходит секретарь в кителе, которого я видел днем, и приглашает:
– Прошу, товарищи, заходите. Сейчас начнем. Рассаживаемся в секретарской комнате – кто где.
Мы с Тоней садимся около окна.
– Если будет страшно – выпрыгнем,– говорю я ей, делая умный вид.
Тоня улыбается одними губами, а секретарь смотрит на нас: видимо, мы ему кажемся слишком умными. А может, он принимает наши улыбочки на свой счет.
– Простите,– говорит он и смотрит на нас.– Вы оба новенькие. Я занесу вас в список членов литобъединения.
Он записывает фамилии и задает вопрос за вопросом. Итак, я впервые зачислен в поэты, а Тоня – критик и литературовед. Это звучит. Если даже из нас ничего не получится, не грех будет где-нибудь вспомнить: «Это было еще в пору, когда я увлекался поэзией, а Антонина Сергеевна писала литературоведческие статьи». Недурно.
«Жертвой обсуждения» и в самом деле оказывается мужчина в коричневом пиджаке. Он артист театра и написал рассказ о хлопкоробах, который называется «Коробочка». По существующему порядку, автор должен зачитать свое произведение, если оно не слишком велико. Вот этот артист, фамилия его Лискин, и начинает чтение. Длительное, утомительное повествование, совершенно лишенное диалогов. Суть рассказа в том, что какой-то таджик, сборщик хлопка, унес с поля в кармане коробочку хлопка, был пойман с поличным и теперь над ним хотят устроить суд. Автор в рассказе использует цитаты и пословицы, вроде «трудовая копейка рубль бережет», «с миру по нитке – голому рубашка», но все равно произведение наискучнейшее. Все позевывают или время от времени тяжко вздыхают. Наконец, артист за: кончил чтение. Первым выступил литератор из радиокомитета. Я внимательно слушаю, а Тоня взяла у меня блокнот с карандашом, ведет запись замечаний.
– Тема,– говорит выступающий,– безусловно заслуживает внимания. Действительно, расхищать хлопок никому не дано права. Но при всей своей актуальности, рассказ имеет огрехи. Например, как это позволил себе автор выразиться: «Расул-бобо пошел прогуляться на воле?» Разве у нас нет воли? Надо осторожнее обращаться со словами. Русский язык – язык умный и гибкий, но он и коварный.
– Браво, браво,– сказал вдруг московский поэт, и все обратили на него внимание.– С такими суждениями мы с вами далеко уйдем,– прибавил он к своему «браво, браво» и только потом попросил:
– Председательствующий, позвольте мне слово.
– С удовольствием, Миша.
– Я тут у вас недавно. И не знаю, как велики масштабы воровства на хлопковых полях, но мне кажется, это не тема для рассказа. Точнее говоря, рассказ мог бы получиться, если ему придать сатирический оттенок. И высмеивать надо не того, кто взял коробочку хлопка, а тех, кто болеет излишней подозрительностью, кто сеет недоверие к человеку. Народ наш войну, голод, холод и разруху на своих плечах вынес, а вы, товарищ артист, судить его собираетесь за случайно оказавшуюся в кармане коробочку хлопка!
– И что же вы предлагаете сделать с рассказом? – как ни в чем не бывало спрашивает артист.
– Сжечь! К чертовой бабушке сжечь! И вообще не беритесь за перо. Вы не литератор. В вашем письме нет живой ткани!
– Ну это мы еще посмотрим,– лепечет артист и смотрит обиженно в потолок.
Тоня легонько вздыхает, видимо, ей жалко «жертву обсуждения». А я думаю о своих виршах: «Раздерут на части – только дай!» Но пока неизвестно, когда настанет день обсуждения моих стихов, и я спокоен. Я слушаю, как выступают один за другим ораторы, и почти не соображаю, о чем они говорят. Ясно лишь одно: выступления какие-то скучные – что называется «не вашим, не нашим». Я выхожу из оцепенения, когда секретарь обращается ко мне.
– Может вы добавите что-нибудь, товарищ Природин?
– Да нет, пожалуй, ничего. Я думаю, прав московский товарищ. Прошлой осенью, например, весь наш полк набил хлопком подушки – и ничего. Никого не судили.
Присутствующие разражаются громким хохотом, словно прорвало плотину на горной речке, а Тоня, расширив глаза, смотрит на меня и толкает локтем.
– Ты с ума сошел, Марат! Это же не литературный разговор...
– Может, и вы что-то добавите? – спрашивает секретарь Тоню.
– Мне жалко товарища Лискина,– тихонько произносит она.– Конечно, рассказ не получился, но все равно – жалко.
– Спасибо вам, девушка,– признательно говорит и кланяется актер.
– Вы – мужественный человек, товарищ Лискин! – восклицает секретарь.– Главное, не падайте духом. Все впереди. Между прочим, редактор просил меня узнать насчет какой-то краски.
– Принесу,– недовольно обещает Лискин.– Вот полы в театре покрасят, останется краска – принесу...
Шумной ватагой вываливаемся из редакции на улицу. Все возбуждены, словно после корриды. Кровожадная публика – эти начинающие литераторы! В груди все горит, хочется пива или на худой конец лимонада. Тоня предлагает пойти к кинотеатру, там продают мороженое. Летим как угорелые, будто за спиной крылья. Беру два эскимо и предлагаю:
– Может, не пойдешь сегодня в библиотеку? Сходим в кино?
Тоня задумывается лишь на мгновенье. Она счастлива не меньше моего. Мы берем билеты, смотрим американский фильм «Роз-Мари». Упоительная музыка, волшебная природа и какая прекрасная любовь! Я держу Тонину руку в своей и чувствую – ей тоже хорошо от этой близости. В каком-то колдовском очаровании, то под руку, то в обнимку, идем мы на вокзал. В одиннадцать мой поезд. Я сажусь в вагон и, отъезжая, слышу голос Тони:
– Марат! Марат! Не забудь, завтра же позвони мне!
4.
Я вновь переполнен счастьем. Радуюсь каждому пустяку и невероятно добр с каждым. Чары и Косте я рассказал о встрече с Тоней и о заседании литобъединения.
Несколько раз пытался дозвониться до Тони, но тщетно. Телефонистка односложно отвечала «занято» и отключала телефон.
Утром эскадрилья одевается в рабочие комбинезоны: весь день работа на матчасти. Становлюсь в строй. Вдруг слышу окрик старшины:
– Природин!
– Я!
– В распоряжение замполита!
– Слушаюсь,– нарочно отвечаю недовольно, ибо все уже знают, что я занимаюсь какой-то «писаниной», и помаленьку «мстят». Вот и сейчас слышится чей-то голос:
– Еще один придурок появился! А то без него их было мало!
Механик нашей двойки—второе лицо в экипаже—угрюмо молчит. Но я-то знаю: ему очень хочется, чтобы я поползал с мокрой тряпкой по плоскостям, почистил бы копоть и масляные пятна. Механики всех экипажей в дни матчасти заставляют воздушных стрелков выполнять работу мотористов.
Выхожу из строя и отправляюсь в штаб.
В кабинете замполита тотчас открываю шкаф и достаю папки с фотографиями, газетными вырезками и всевозможными бумагами. Еще в первый день, когда знакомился со всем этим хозяйством, помнится, держал в руках фотокарточку с изображением девушки в шлемофоне и подписью к ней. Отыскав фотографию, внимательно разглядываю: «Не телефонистка ли это наша?». Гордая улыбка, взгляд, устремленный в небо, и подпись: «Воздушный стрелок Маша Михайлова, 1944 год». Надо у кого-нибудь спросить, как фамилия нашей телефонистки. У вошедшего начальника оперативного отдела спрашиваю фамилию телефонистки.
– Михайлова,– ответил он, закрывая дверь.
Взяв фотокарточку, отправляюсь на коммутатор. Маша встречает меня сурово.
– Вы же прекрасно знаете, что сюда посторонним вход воспрещен!
– Но я не посторонний. Мне надо выяснить кое-что.
– Что именно? – спрашивает она.
– Ну, например, какое вы имеете отношение к войне?
– Как это «какое отношение»? Да самое прямое.
Я всю войну служила в полку. У меня шестьдесят боевых вылетов и орден Красной Звезды.
– За что получили орден?
– Послушайте, сержант, вам-то какое дело до моего ордена?
Приходится объяснять. Маша внимательно слушает и лишь после этого начинает рассказывать о том, как спасла жизнь пилоту, вытащив его из кабины горевшего самолета. Рассказывает охотно, волнуется невероятно и в конце концов выясняется, что тот пилот не кто иной, как комэск первой эскадрильи капитан Михайлов, а Маша – его жена. Два года назад она демобилизовалась и вышла замуж. Теперь – вольнонаемная телефонистка.
– Спасибо вам, Маша,– говорю я.– Вы подарили яркую страничку для истории полка.
– Пожалуйста, ничего не стоит. Я всегда с удовольствием. Если потребуется позвонить—заходите.
– А сейчас нельзя?
– Почему же нельзя? Можно.
Я почти полчаса «вишу» на трубке, разговариваю с Тоней. Голос ее удивительно музыкален и нежен.
Вечером, вернувшись в казарму, забираюсь на второй ярус, поближе к электролампочке, достаю записную книжку и перечитываю незаконченное стихотворение. Мне становится противно от того, что я накарябал неделю назад. Я думаю: с какой яростью разнес бы сейчас эту галиматью московский поэт Миша. Слезаю с кровати, достаю толстую тетрадь со стихами и начинаю «взвешивать»: какие стишата представить на обсуждение? «Голуби»? Нет, не пойдет. Разобьют. Не слишком ли смело сказано:
Держал я в детстве голубей,
кормил, хоть сам сидел без хлеба!
Наверное, все-таки смело, даже рискованно. Я вспомнил критика из радио, который придрался к выражению «пошел прогуляться на воле», и представил улыбку его, растянутые губы и счастливые глазки: «По-вашему, товарищ Природин, людям не хватает хлеба? Иными словами говоря, люди голодают?» Баран безголовый! А что скажет московский Миша?! Я подумал, подумал и решил, что Мише, пожалуй, эти стихи понравятся. Он смел и прямодушен...
Положив тетрадь на грудь, смотрю в потолок и думаю, что люди, в сущности, делятся на две категории: на людей злых и добрых. Злу, как правило, сопутствует тупость, трусость и все остальные человеческие пороки. Добро всегда шагает в ногу с отвагой, бескомпромиссностью и доверием. Злой при встрече с незнакомым человеком принимает его с величайшей осторожностью, с предубеждением, что в этом незнакомце, наверняка, затаились «все сто смертных грехов». «Неизвестно еще – кто ты и что,– рассуждает злой.– Может, вор, может бандит, может, контра раскулаченная». Добрый на незнакомца смотрит диаметрально противоположно. Он принимает его с открытой душой, не допуская никаких сволочных мыслей. И меняет свое отношение к новому знакомому, если в процессе познания находит в нем отрицательные качества. Но и тут добрый отличается объективностью. Он не отталкивает нового знакомого, не гонит прочь, но лишь вступает в борьбу с его недостатками. В этом, по-моему, суть доброты. С этой философской позиции я оцениваю все сущее. Вот только непонятно мне: «добро» и «зло» – врожденные качества или они приобретаются в процессе жизни? Я погружаюсь мыслями в далекое детство и нахожу, что среди шести-семилетних сопляков есть злые и добрые. Только качества эти раскрываются чисто по-детски и пока не доставляют огромных хлопот. Хотя долбануть палкой по башке соседского мальчишку уже есть зло. А угостить того же малыша конфеткой или пригласить играть в «классики» – добро. Я размышляю и думаю, что у меня какая-то своя доморощенная философия: философия-эмбрион. Наверное, на эту тему есть целые трактаты поумнее моих открытий...