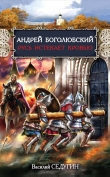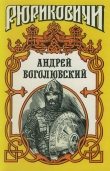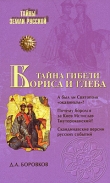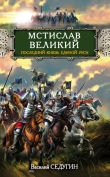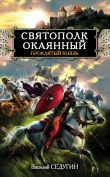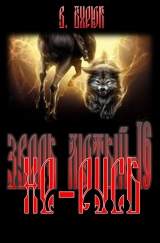
Текст книги "Не-Русь (СИ)"
Автор книги: В. Бирюк
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Глава 339
Кама впадает в Волгу широко – шестью-семью рукавами. Огромное пространство камышей, болот, плоских островов, отмелей. Житница. Выше по Каме и южнее – зона устойчивого мотыжного земледелия. Количество мотыжек, найденных археологами в только одном Биляре приближается к четырём сотням.
Янин лежит напротив самого северного Камского рукава. Местность… дрянь. Для боевых действий.
У реки – узкая полоска галечного пляжа. Галька – где мелкая, а где здоровенные валуны лежат. Бегом не проскочишь – ноги поломаешь.
Сам городок – на косогоре. Широкая ложбина, слегка наклонённая к Волге, разрезается двумя узкими промоинами-оврагами. Метра 4–5 глубины-ширины. И берег между их устьями – такой же обрыв. С трёх сторон – естественные препятствия.
Выше городка по реке береговая стенка уменьшается и через версту совсем исчезает – там водопой для скота и пристань. Здесь наше войско к берегу и причалило. Потому что ещё выше по реке – береговая стенка опять появляется и всё выше поднимается. А ниже городка и вовсе гора стоит.
От водопоя идёт дорога вверх, от берега. У реки – огороды, выше, в обе стороны этой широкой долины – выпасы. Ещё дальше, на высотах, особенно с северной стороны – лес. Лес – хороший. Спелый широколиственный – дуб, липа.
Здесь, в Предволжье, типичный рельеф выглядит так:
«Северные окраины речных поперечных долин круты и представляются более или менее высокими обрывами, а южные отлого спускаются… на профильной линии ряд последовательных перевалов, которые широкими пологими склонами обращены на север, а обрывами на юг…».
Военно-географическое описание Казанского военного округа императорских времён подчёркивает труднопроходимость естественных природных рубежей для противника, продвигающегося с юга или юго-запада.
Но вот тут конкретно – наоборот. И мы сами – пришли с севера, и рельеф – другой. Сама долина широкая – несколько километров, северный борт хоть и высок, но далеко и пологий. А вот с юга от городка у реки такие… здоровенные плоские ступени-террасы. И гора.
Я, естественно, слазил.
Гора называется Лоб или Лобан.
«Место лобное
Для голов ужасно неудобное»
Это, смотря какая голова сюда влезла. Мне вот осмотреться на местности интересно, поэтому моей голове здесь удобно.
«Высоту любят дым и дурак» – старинная японская пословица. «Дым багровый кругами всходит к небесам…» – поскольку я не «всхожу к небесам», то – не «дым». А кто? Мда… Ну и ладно, ну и не новость.
Горка интересная. Большая, крутая, с южной стороны речушка в Волгу течёт. С восточной стороны – высоченная стена обрыва. Но главное – вид с неё. Где-то я такое видел… Вот не бывал же здесь, а… Дежавю? – Нет, русская классика: тут Илья Репин картинки рисовал. Эскизы к «Бурлаки на Волге».
Родители мои не сразу поняли, что я в живописи – как свинья в апельсинах. Максимум – рейсфедером по ватману на кульмане. Успели назаставлять альбомов гениев по-рассматривать. То-то я смотрю – топография знакома…
Только смотреть мне надо с горки в другую сторону – на север, на этот Янин. Как же его брать-то…? Вечером военный совет будет, я теперь там вместо Лазаря. В смысле – самый младший. Сказать чего-то надо. Хорошо бы – умное.
* * *
Городок небольшой: примерно – 100х600 м., рядом, за северным оврагом – посад сходной площади. Но шире и короче.
Посад – неукреплён. Канава – в метр глубиной, забор – жерди в два метра ростом – укреплением не считается.
Забавно: про то, что «русские идут!» уже давно в курсе. А вот укреплять посад, хоть бы канаву почистить от наваленного мусора – не удосужились.
В городке в юго-восточном углу, на краю оврага и речного берега – цитадель, 50х100 м, фактически – отгороженный угол городской стены, только стена – ростом выше.
С напольной стороны (с запада) – укрепления состоят из вала высотой метра полтора (утоптанный суглинок с битым кирпичом и камнем), на нём срубы, засыпанные землёй, шириной и высотой 3.5, длиной 5 метров, ров между оврагами – в 5 метров глубиной-шириной. Верховья оврагов продолжаются дальше ещё на полверсты.
Скверно: крепостная стена из срубов. У булгар в это время должны быть преимущественно более слабые тарасы. Не в смысле Тараса Бульбы, а в смысле конструкции: строят две деревянные параллельные стенки, соединяют их между жердями, пустое пространство заваливают глиной, землёй. Та же кирпичная кладка «американка», но без кирпичей.
В оврагах… что-то течёт. Типа ручейков или цепочки болотцев. Хорошо посмотреть не дают – стрелами со стен кидаются. Но судя по запаху… болото. С оттенком городской канализации и мусорной свалки.
Ров – по глубине, ширине – под стать оврагам. По профилю: треугольный, одинаковый по длине. Профили оврагов… скорее – подпрямоугольные, к реке расширяющиеся. Склоны рва укреплены кольями, вбитыми в шахматном порядке.
Со стороны южного оврага и берега – срубы прямо на земле стоят, без вала, чуть отступя от края.
Так же стоят срубы на грунте и вдоль северного оврага, но…
От пристани на Волге идёт дорога, огибает посад, раздваивается. По одной ветке – караваны идут от берега Волги, переваливают водораздел, там где-то перегружаются в лодки или так топают – уже по среднему течению Свияги.
Другая – загибается влево, обходит посад, огибает верховье северного оврага. После чего ведёт назад. Мост через ров и… приходим в полосу 2–3 метра между оврагом и стеной. Вот же ж… умники! Топать под обстрелом со стены с правой стороны… даже щитом толком не закрыться! Интересно: а как они тут разъезжаются? А, вижу: за мостом – караульная избушка. Такая… «в три наката повышенной прочности». Оттуда махнут – на надвратной башне – отмахнутся. Или – наоборот.
В паре сотен метров от волжского берега дорога упирается в городские ворота. Отсюда – стена уже по краю оврага, без отступа. Над воротами – башенка деревянная. И… точно: аналог перибола. Как это бывает в булгарских крепостях, стены у ворот сделаны «в нахлёст». Метров 6–8, где подобравшегося к воротам противника будут долбить с четырёх сторон: с боков – с обеих стен, спереди – из башенки, ещё и в спину со основной стены издалека наискосок – стрелой достанут.
В северо-западном углу, там, где дорога пересекает по деревянному мосту ров и «уходит под сень стены» – угловая башня. Тоже бревенчатая, в один ярус, под четырёхскатной крышей.
Что ещё хорошенького? Ну хоть что-то приятное для осаждающего найти можно?!
Гласиса перед рвом – нет. Фоссебрея – нет. Это довольно типичное препятствие для Волжской Булгарии и Средней Азии: затрудняет подступ противника непосредственно к самим крепостным укреплениям. Обычная форма: в метр высоты глинобитная стенка шагах в 20–30 перед валом или рвом.
Фланкирующих башен – нет, изломов линии стен – нет, барбакана – нет. Ни «входящих» углов, ни «исходящих. По верху стены – бревенчатый невысокий сплошной парапет.
Великолепно! Большое каменное «дубль-ве с завиточком», как сделано на крутом склоне горы в Великом Стоне – не здесь.
Ещё радует отсутствие стационарных конструкций для «нагадить на голову» Типа желобов, хоботов, поворотных кранов. Для: кипятка выливать, камней бросать, дерьмо помётывать… Зубцов, бойниц нет. По всей стене – двускатная щепяная крыша.
Бойниц в эту эпоху не любят: дырка в стене уменьшает её прочность, очаг гниения для деревянных стен. Ни «подошвенного боя», ни среднего огневого пояса – нет. А то ведь враги и забраться могут. Как несколько ночей подряд лезли тайком в бойницу башни крестоносцы в Антиохии.
Другая причина – отсутствие огнестрелов. Ружьё, пушку можно высунуть дулом наружу. И там уже – снаружи – этим дулом… водить. В смысле – целиться. Лучник же стреляет сквозь бойницу. Ему нужно свободное пространство. Для лука – вертикальное, для стрелы – горизонтальное, для «локоток оттопырить» – вбок. При здешних толстых стенах – очень неудобно. Поэтому и бойницы делают только в башнях. Но здесь и этого нет: бить нас будут с верхних площадок. Оттуда и летит дальше, и выцеливать удобнее.
В булгарских крепостях есть полный набор вариантов триады ров-вал-стена: один ров – один вал – ноль стен, два рва – один вал – одна стена, два рва – два вала – две стены, три-три-одна, четыре-четыре-две… Хотя здесь вряд ли: вторая стена должна быть выше первой. А её не видно.
По классификации Раппопорта: городище с частичным использованием рельефа в оборонительных сооружениях.
Булгары много строят таких – частично использующих или вообще не использующих рельеф – крепостиц. Как и русские. Потом придут монголы со своей стенобитной техникой, и иллюзии защищённости – исчезнут. Дальше будут только «подчинённые окружающему рельефу». Преимущественно мысового или петлевого (на речном мысу или в петле реки) подтипов.
Наверное, поэтому, Янин, после уничтожения монголами, не отстроился заново.
* * *
И как всё это… штурмовать? И – чем? Я ж не Субудей с Батыем! Сам-то я как-то в полиоркетике и параскевастике… в смысле: в искусстве осады городов… не, не очень. «Казань – брал, Астрахань – брал, Шпака – не брал» – сказать не могу. Не из-за Шпака.
Ещё из приятного – наш авангард подсуетился. У нас Муромские впереди идут. Они ещё затемно здесь высадились. Ухитрились и посад почти целым взять и мост с избушкой. Теперь вяло перестреливаются с защитниками крепости. И луки слабые и стрелять снизу вверх неудобно.
Пока войско ставило лагерь, мы с Суханом облазили окрестности. Даже в овраги нос сунул: подглядел из-за угла, как булгары воду из болотца таскают да на стены выливают. Боятся, наверное, что запалим всё это хозяйство.
* * *
Принципиальная особенность средневековых крепостей на Русской равнине – дерево-земляной характер. ДЗОТ – это исконно-посконно, это по-нашему! И даже если по не-нашему, то – всё равно, исконно, по-здешнему.
На Западе, после относительно короткого периода после падения Римской империи, перешли к каменным укреплениям, на Востоке часто глиняные делают. А вот у нас… хоть готы, хоть булгары…
Если дерево внутри, в земле – оно гниёт, если снаружи – сохнет, горит. На линии укреплений древних городищ почти всегда можно найти следы пожара – сгорела вся «защита и оборона».
Интересно: а колодцев у них внутри нет? Раз они воду из оврага ведёрком таскают… Должны быть, просто берегут питьевую воду. Народ из посада в город убежал. А главное – скотину пригнал. На такую ораву – много воды надо.
* * *
Уже ближе к вечеру по лагерю забегали сеунчеи – большой военный совет.
Я, знаете ли, совершенно не торопился. Там всё с молебна начнётся – чего мне там делать? Тем более, после «божьего поля» в Мологе – у меня на 18 лет освобождение. От церкви вообще и от молебнов – в частности.
Да и штуку интересную нашёл. В посаде, пока Николашка у муромских ребят коровку трофейную на ужин торговал, увидел такой… Луноход? Членовоз? Звездо-вагон? Несамоходная многоколёсная платформа. Под юрту. Монстр!
Обычные юрты разбирают и перевозят «россыпью». Но летописцы отмечают и возимые на телегах. Восьмиколёсное чудовище в полтора метра ростом, с площадкой… 6х5 метров. Это ж сколько лошадей сюда запрягать надо?! Хотя… если у каждого кыпчака на походе 10–12… а эта штука, наверняка, для какого-нибудь хана… интересно, а оно катается? – Катается. Тяжело, скрипуче, но… транспорт…
Тут в третий раз прибежал сеунчей, уже с матюками и повизгиванием – пришлось идти.
С накрывшей меня депрессией и апатией я упустил очень важное дело – переподчинение отряда. Тошно мне с людьми разговаривать. Так что, уселся тихонько среди тверских. Володша обернулся, смерил меня презрительным взглядом, хмыкнул. Но тут какой-то боярин, не старый, но с совершенно седой, серебряной, половиной русой бороды, говорить начал:
– Промыслом Божьим и милостью Богородицы дошли мы досюда. Ныне перед нами Янин – городок крепкий. В нём, как языки сказывают, четыре сотни горожан да посадских. Которые за семейства свои, за дома да имение, будут биться крепко. Ещё – десятка три дружины местного владетеля да ещё три – от эмира присланы ныне. Не «белые булгаре», но тоже воины добрые. Припасов у них… довольно. С водой – хуже. Но колодцы и в городе, и в замке – есть.
Мужчина внимательно оглядел собравшихся и продолжил:
– Говорить они не хотят. На подмогу надежду имеют. Толмачей наших шуганули от стен стрелами. Сидеть тут в осаде… нет времени. Лазутчики наши доносят, что эмир собирает два войска. Конное – на низу, у Ага-Базара, лодейное – у Биляра.
Помолчал, оглядел князей. Дождался пока Боголюбский чуть прикрыл глаза, и выдал:
– Есть слух, что эмир, де, в три дня будет здесь. С лодиями. И с десятью тысячами войска. И выкатится сюда они могут резво. Пройдут тишком северными протоками Камы и ночью, через Волгу на огонёк из города, нежданно-негаданно… Прям тут.
Оп-па! Ну ни фига себе!
Народ сразу зашумел, заволновался.
– Откуда?! Откуда столько?! Мы ж их под Бряхимовом в пыль раскатали… Они ж от нас всю дорогу улепётывали! Брехня! Врут твои соглядатые!
Но стоило Боголюбскому кашлянуть, как шум стих. И боярин ответил спрашивающим:
– Откуда?! Оттуда! Под Бряхимовом мы били лесовиков волжских. Бестолковищу дремучую. Теперя эмир своих булгар собирает. Не поганые с чащоб вылезают – идут агаряне безбожные. Ополчения городские, да вятшие с дружинами. Вот они и ударят. В два войска. Одно с востока, другое с юга. А может статься и третье войско заявится – суваши навалятся. С запада.
– Дык… Это что ж получается? Они нас заманывали?! Окружили-обошли?! А мы, аки сопляки желторотые, в самое их гнездо влезли? А теперя они нас… голыми руками со всех сторон… Окромя северу… Бечь надо… Спешно уйти до Казанки… А то – к Свияге… А лучше к Суре и там уж… А на что нам та Сура? Хай там мордва мордуется… И то дело – навоевались и домой… Да что ж мы как медведь в пчелиное дупло…?! Тута – ихние земли… Пожгли-пограбили – пора и честь знать…
Вдруг рядом с Боголюбским вскочил на ноги молодой парень лет шестнадцати:
– Стыдно! Стыдно господа бояре да воеводы! Нам ли об убегании думать? Или не мы крест святой несём? Или не с нами милость Царицы Небесной? Или нет в нас доблести воинской, храбрости русской? Воздвигнем же мечи наши славные да и сокрушим полчища басурманские! С нами господь бог и воинство небесное! Не устоять никаким ворогам!
Наконец-то я рассмотрел старшего сына Боголюбского. Не похож: ни смуглости на коже, ни скуластости, светлые глаза, русые волосы. Скорее – славянин из вятичей. Кровь с молоком. В мать пошёл. А вот убеждённость, напор, такой… религиозный фанатизм… похоже на Боголюбского. То-то он на сына с хоть и скрытой, но – с любовью посматривает.
Командирское собрание дружно начало бурчать:
– Оно конечно… Царица Небесная – само собой… Только ежели они разом… Да хоть и по-очереди… Это ж каждый – впятеро против нас! Ежели и суваши – и поболее… Не, пустое, не сдюжим… А ну как она… за грехи-то наши… Да об чём толкуем?! Их же ж… Полчища! Тьмы! Аки борови! На что нам смерти лютые в земле басурманской?
Ропот нарастал. Конечно, против господствующей идеологии никто не вякнет, но соображение же надо иметь! А Изяслав Андреевич уж больно сразу по христианскому… уелбантурил: «Кто не с нами – тот против нас!». С нами сила божья – кто против?
Ответ очевиден: только собственная наша глупость.
Боголюбский шевельнулся, устраиваясь поудобнее, пристукнул своим посохом, ропот стих. И в мгновения наступившей вдруг тишины неожиданно громко прозвучало моё бормотание, под сурдинку, себе под нос:
– Брать. Брать Янин. Спешно.
– Это кто сказал?!
Боголюбский впился глазами в ряды окружающих его бородатых лиц бояр и воевод.
Вот же попал! «Язык мой – враг мой» – сколько раз сам себе повторял! А всё не выучил.
– Я, княже.
Пришлось встать и посмотреть Боголюбскому в глаза. Тот откинулся назад, смерил полуприщуренным взглядом, взмахом руки оборвал начавшийся, было, ропот и веско произнёс:
– Обоснуй.
Та-ак. И вот я тут – весь из себя такой… «обоснувальник». Теперь давай – делай ему презентацию проекта. В стиле: «не для того – чтобы хорошо», а «потому что – иначе хуже будет». Перебор вариантов надежды в безнадёжном положении.
Нормально – типичная ситуация по первой жизни: делать надо необходимое. Остальное само получится.
– Сидеть здесь под стенами – нельзя. Эмир соберёт столько войска, сколько захочет. Ударит – когда захочет, как захочет. Отдать тактическую инициативу… э… право выбора – бить битыми. Уходить – нельзя. Большое лодейное войско – догонит, прижмёт к берегу. Они-то – свежие, без груза. На берегу соберётся и конное войско, и ополчение сувашей. Раскатают, в землю вобьют.
Я хорошенько подумал и подытожил:
– Мы во всём их слабее. В разы. В лодиях, в воинах, в конях…
– С нами сила господня!
– Это – точно, княжич. Но на Руси говорят: «на бога надейся, а сам не плошай». Давай-ка и мы своим умом малость подумаем. Чтобы не оплошать. Мы во всём булгар слабее. Кроме одного – страха. Они – битые. Не все – верхушка. Эмир, ближники его, гридни – «белые булгары». Они битые, они от нас недавно в страхе бегали. Стало быть, надо страх им – усилить. Убежать или на месте стоять – дать им страх перебороть, осмелеют они. А идти им навстречу, бить их войски порознь… Не потянем, маловато нас. Получается… Надо брать Янин. Брать легко, играючи, быстро. Чтобы лазутчики эмиру донесли: «Богородица и на этой земле русским щастит. Боголюбский только ножкой топнул, а у нас крепость крепкая – сама ему в руку упала». Тогда можно его и дальше пугать: не надейся, де, эмир, на крепости. Мы тебя и поле бивали, мы тебя и в городках побьём.
Я, очень довольный собой, поклонился слушателям и сел ногу на ногу, ожидая, в тайне, криков «браво» и аплодисментов.
Увы, первая реакция зала звучала иначе:
– Шо за придурок?
– А… шпынь мутный… набродь смоленская… у тверских мурло какое-то прирезал – вот и славится.
– А… а то я уж подумал – всерьёз…
Рязанский князь Глеб, до того отрешённо смотревший в сторону, повернул ко мне своё несколько лошадиное, вытянутое лицо, ещё удлиняемое обширными залысинами и, с нескрываемой брезгливостью, обычной по отношению к невежде, к наглому сопляку, влезшему в разговор серьёзных, старших и вятших людей, поинтересовался:
– Ну и как же ты городок брать надумал? Воевода свежевылупленный.
Я?! Брать?! Я не надумывал – «как»! Я надумывал – «нужно» брать. Что нельзя убегать, стоять, ждать. А – как…? Я ж в этой… в полиоркетике… И, кстати, Боголюбский, к примеру – тоже. Уж сколь много есть примеров его кавалерийского геройства, а вот крепости… Даже и ты, Глеб Рязанский – Боголюбскому такой возможности не предоставил: когда братья Андрей да Ростислав (Торец) к Рязани подступили, сам с отцом в Степь сбежал. Сдал город, не дожидаясь штурма. Ещё известны две чётких неудачи. Две осады, Луцка и Чернигова, в которых Андрей принимал участие, проявил героизм, был ранен при отражении вылазок… – обе закончились безуспешно.
Булгары не сдадутся, они подмоги ждут. Штурмовать крепости наши полководцы не умеют… А я… Да я и вовсе никогда…!
– Брать-то? Да как обычно. Залезть на стенку. Попихать сторожу. Открыть ворота. Которые там… с ножиками будут бегать, слова доброго не слушать – прирезать.
Глеб непонимающе мигнул. Ещё раз мигнул. И расплылся в улыбке. По собранию прокатились смешки, перешедшие в общий хохот. Не «аплодисменты, переходящие в овации», но тоже… «порвал зал».
Общее напряжение, дошедшее, после изложения оперативной обстановки, едва ли не до мордобоя между членами этого… княжвоенсовета, рассеялось. Глеб, отсмеявшись, аккуратно вытер уголки рта и, повернувшись к Володше, негромко, но очень отчётливо, спросил:
– Твоё? Бестолочь приблудная. Липнет же… всякое дерьмо к красному сапогу.
Лицо у меня… стало в цвет красного княжеского сапога. Смолчать… да я…! да мы…! попандопулы всех времён и народов…! Эти укреплённые курятники… одним задрипанным авианосцем… да просто доисторической трёхдюймовкой даже с не полным БК…!
Что характерно для 12 века: авианосцы по Волге не шныряют. И всего прочего… даже доисторической трёхдюймовки… даже допотопной трёхлинейки… Из всего… допотопного – имеется одна Ванькина голова. Которая сегодня смотрела и думала. Сваливала на свалку и молотила молотилкой.
Я вскочил на ноги:
– Государь! Дозволь сказать!
Боголюбский вяло отмахнулся ручкой. Ну уж нет! Ты сам меня дёрнул.
– Тогда дозволь сделать!
– Чего? Чего сделать-то?
– Как я сказал: влезть на стену, побить сторожу… Только их там много, помощники нужны.
– Х-ха. Сделаешь. Полезешь. Нынче ночью все полезут. Там и поможете. Друг другу.
Боголюбский медленно осматривал собравшихся.
– Сегодня ночью – общий штурм. После полуночи. Как рог запоёт. Давай, Вратибор, сказывай.
И он кивнул полуседобородому боярину. Похоже, этот Вратибор – типа начштаба. Где же он так бородой-то… фигурно поседел?
Смысл простой плана простой. Ночью, потому что обороняющиеся превосходят нас в стрелках, точнее – в удобстве стрельбы сверху, подойти со всех сторон и дружно полезть на стены. Всем хоругвям иметь по лестнице длиной в семь саженей. Это около 8.5 метра. Не предел: при штурме Измаила в одном месте потребовались лестницы в 12 метров – такой был перепад высот от дна рва до верха стены.
– На передние концы набить крюки. Вон, хоть мотыжки втульчатые из посада. Лестницы кидать на стену, цепляться крюками, лезть дружно. Стрелкам в хоругвях бить ворогов с луков. Как свои влезли – и самим лезть на стену. Передним – тяжёлых щитов не брать.
Дальше пошла разбивка отрядов по направлениям. А я сообразил, что… что не только я в войске умный.
– Дык… эта… дозволь спросить. Это ж ведь… таку лесенку-то можно и с нашего берега прям на стенку-то перекинуть. Ну, в ров-то… выходит, лезть не надо?
– Верно. С южной стороны – через овраг, с западной – через ров. От Волги с востока – кидать снизу от воды прямо на стену. С востока и с запада – иметь лесенки на сажень длиннее. А с северной, где дорога идёт, на нижнем краю – кидать через овраг, а по дороге, щитами покрывшись, идти с короткими лестницами, вполовину. И их на стену закидывать.
Русские воеводы воспользовались очевидным недостатком укрепления: относительно малой шириной рва и оврагов, относительно низкой стеной. С южной стороны, со стороны Лба имеем 5 метров ширины оврага, 3.5 метра – высота сруба, 1.2 – высота парапета.
«Сумма квадратов катетов есть квадрат гипотенузы» – кто сказал?! – Пифагор. – Ну, Пифагор, бери топор и пошли делать лестницу. Как твою гипотенузу, но с запасом.
Народ повалил из-под княжеского полога, почёсывая отсиженные задницы и уточняя между собой разные мелочи. А я подкатился к Муромскому князю Юрию. Князь стоял на берегу великой русской реки и от души отливал накопившееся. На его душе легчало прямо на глазах. Вид на Волгу и простор Камской дельты, также способствовал умиротворению.
Довольно мелкий ростом, очень живой, молодой мужчина, отчего и получивший прозвание «Живчик», только два года, как ставший, после смерти отца, Муромским князем, был постоянно озабочен происками своего двоюродного дяди – Глеба Рязанского. Ещё: тлеющим в Муроме язычеством, которое периодически прорывается даже и в убийствах воевод, священников и членов княжеской семьи, своеволием своих бояр, набегами соседей-мокши и беспорядками подданных-муромы…
Но более всего – необходимостью очень синхронно «уклоняться вместе с линией партии». «Партия», в лице Боголюбского, всякую «рассинхронизацию» рассматривала как измену, и наказывала… без ограничителей. А Мурому, последнему русскому городу на востоке, зажатому погаными, басурманами и противниками со всех сторон – без поддержки Суздаля – не выжить.
Вечно встревоженный, загруженный свалившимися на него после смерти отца проблемами княжества, он, однако, бывал смешлив.
Так и сейчас, когда я пристроился рядом, направив свою струю в ту же сторону, он, оценив высоту и дальность, хихикнул и посоветовал:
– Ты это зря. Ты поберёг бы. Напор-то. Ты ж на стену запрыгивать собрался. Ну. Встал бы к стене спиной, да как вынул бы, да как ливанул бы… Глядишь, отдачей бы прям на башенку и закинуло бы. Ха-ха-ха…
Забавно: ракет на Руси ещё нет, а концепция реактивной тяги в народе присутствует.
Заправляя штаны… со всеми этими тремя слоями завязок… я поддержал княжеское чувство юмора:
– Насчёт струи… поздно, княже. Но у меня другая задумка есть. Мосток самобеглый. Тебе ж южная сторона досталась? От горы? Вот там – очень даже уместно.
– Опять?! Ты уж народ на совете посмешил.
– От того смеха – битых воев не прибавилось. А вот если мою задумку не использовать… Тебе своих людей не жалко?
Ещё продолжая улыбаться, но уже твердея лицом, Живчик напряжённо спросил:
– Ну?
– А чего тут нукать? Бить наших будут на подходе. На подходе к стене. Да на самом залезании на стену. Чем быстрее воины наверх залезут – тем потерь меньше. С лестницами бегать… по тамошним буеракам и колдоё… быстро не получится. Перекладинки перебирать… в сброе, со щитом да с копьём… Всякий лишний миг – кому-то лишняя смерть.
По теории, при разумной организации, русское войско городок должно взять. Потери атакующей стороны втрое больше потерь защитников укрепленных позиций. Их там сотни 4–5. Мы-то крепость возьмём, всех их перебьём. И сами пол-войска положим. А потом придёт эмир и по нам, обескровленным и аморфным, вдарит.
Городок надо взять легко, «весело». С минимальными потерями и разрушениями. «Само упало», Богородица подмогла. Тогда и разговор с эмиром другой будет.
И ещё, уже чисто личное. Четырьмя отрядами, которые будут наступать с четырёх сторон, командуют четыре князя: Рязанский, Муромский, Тверской и брат Боголюбского – Ярослав. Идти в бой под командой Володши… и сам не хочу, и людей вести боюсь. Поставит куда-нибудь так…
«Сладкогласый песнопевец» царь Давид как-то повелел:
«Поставьте Урию в место самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был сражен и умер».
«Повелел» – из-за женщины. Мне Володша… такое повелеет… за всё хорошее по совокупности…
Понятно, что потом Володшу ГБ накажет. Как Давида – в течение шести месяцев его тело было покрыто язвами. Но мне-то от этого…
– Тут, княже, проще показать, чем на словах объяснять.
И я, подобрав палочку, начал рисовать в пыли под ногами. Постепенно отступая от обильно политого нами места.
Как я уже рассказывал, масса серьёзных производственных вопросов в России решается в сортире. Вот почему продвижение женщин по службе вызывает у меня некоторые… сомнения. Или надо переходить к монгольскому туалету – там все вместе.
Мой план не влиял на действия других отрядов: не получится – не существенно. Но, в случае удачи, давал некоторые выгоды. Живчик покрутил носом, похмыкал и пошёл к Володше договариваться о замене в составе отрядов. А я вприпрыжку метнулся к своим: плотницкое дело… оно такое… неторопливое. Поэтому делать его надо быстро!
Пригородные посады надо обязательно выжигать. Макиавели, который настаивает на этом действии защитников города при приближении вражеской армии – абсолютно прав. Куча полезных вещей было взято нами в оставленных жителями домах. «Полезных» – для штурма. Для меня главное – «звездо-вагон». И, конечно, длинные брёвна, жерди и доски.
Супер-телегу разобрали и смазали. Все восемь ступиц. Разобрали саму площадку – тяжелая зараза. Оставили только крайние доски, к которым крепятся оси. И укрепили раму по диагонали. Понаделали легких деревянных щитов, чтобы эту раму в нужный момент накрыть. Поставили на передок – вороток… э-э… портального типа, блоки… типа перекидные, неподвижные, горизонтальные… тормоза… э-э… плугоподобные, одноразовые… Сам мостик, он же – пандус, сделали решётчатым. Будем по нему… как обезьяны. Опыт Бряхимовских оврагов применять. Но решётка густая – можно и и на ногах бегом бегать.
Я очень боялся, что конструкция получится слишком тяжёлой и развалится. В самый неподходящий момент.
Начинало темнеть, когда мы этого монстра покатили из посада, ручками, вокруг, в гору… Далеко, чтобы из крепости не увидели. Потом закатили на склон этого… Лобана.
Когда я тут утром «любовью занимался» – в смысле: «Высоту любят дым и…», обратил внимание на мелочь. Вдоль берега с этой стороны идут плоские террасы-ступеньки. По ним не спуститься толком – только перепрыгивая. С другой стороны, к верхнему концу оврага, идёт отрог горы. Такого… переменного профиля. А вот посередине – ложбина. Довольно ровная. С приличным уклоном к крепостице, к оврагу напротив середины стены. Вот на верхний конец этой ложбины мы монстра и закатили. Туда же притащили всякое чего, что можно россыпью тащить. И уже на месте приладить.
Я ребят распределил, кому чего делать – показал, два раза все подбежали, за верёвки похватались… Как оно в реале будет… Одна надежда – мои смоленские – к совместному труду привычные. Артёмий с Ивашкой их столько строевой долбали…
Сидим-ждём. Когда ж этот… рог хренов – петь начнёт.
Костров – не жечь, железом – не звенеть, громко – не разговаривать.
Соседи подходят из муромских хоругвей:
– Эт цо за хрень? Ты, цо, в Янин въехать собравши?
– А цо? Не видишь? Телега ж. Стало быть – покатаюсь.
– Ну ты… ля, ну ты вооще…
– Не ругайся перед боем. Лучше – молись и кайся.
Сейчас начну воспроизводить ту маленькую девочку, которая бегала за своей бабушкой по квартире и довела старушку до сердечного припадка. Своим криком:
– Молись и кайся!
Потом пришла мама, и объяснила:
– У ребёнка – дефект дикции. Она просила включить телевизор – там идёт «Малыш и Карлсон».
Нервничаю. Жду.