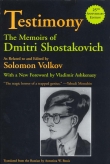Текст книги "Мастера советского романса"
Автор книги: В. Васина-Гроссман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)

«стр. 99»

На заключительном этапе повествования, в рассказе о том, как
На дальней заставе боец молодой
Один задержал четверых…
мелодия, ранее сжатая в тесном диапазоне, как бы «выпрямляется», звучит торжественно и уверенно.
Декламационность свойственна и мелодии «Колыбельной» (также на слова Лебедева-Кумача), хотя такие мелодии, интонационно капризные, упруго изгибающиеся, обычно связывают с инструментальным мелосом (иногда это принимает оттенок упрека). Но с нашей точки зрения, здесь имеет место художественный прием, весьма характерный для Прокофьева, прием, который мы назвали бы расширением, распеванием речевых интонаций. Тот же прием, но еще более свободно трактованный, мы позднее встретим в «Колыбельной» из оратории «На страже мира».
*
Таким образом, и в балладе «Брат за брата», и в «Колыбельной» Прокофьев шел к «новой простоте» и к современному русскому интонационному языку через декламационную выразительность, стремясь как можно выпуклее передать в музыке поэтическое слово. Иным путем, путем «обобщения через жанр» (пользуясь термином А. Альшванга), пошел он в песне «Через мостик» (на слова А. Пришельца), по жанру близкой очень многим советским песням 30-х годов, в особенности песням на оборонную тематику. Не только жанр, но и некоторые интонационные обороты связывают песню Прокофьева с «Комсомольской прощальной» Дм. и Дан. Покрасс, с «Казачьей кавалерийской»
«стр. 100»
В. Соловьева-Седого и с многими другими песнями того же типа, вплоть до «Катюши» М. Блантера. Отметим, например, очень характерный мелодический «занос» в конце фразы: широкий восходящий «шаг» мелодии с последующим ходом вниз:

Но от родственных советских массовых песен опыт Прокофьева отличается своим назначением для массового слушания , определившим и особенности музыкального языка, очень простого для самого Прокофьева, но довольно сложного для массовой песни. Простая мелодия звучит очень свежо благодаря смене тональностей при повторении и введении нового тематического материала перед последним куплетом. Подчеркнем, что этим последним приемом композитор оттеняет самую важную и самую серьезную мысль поэтического текста:
А быть может, скоро, скоро
Будут новые дела…
без которой весь стихотворный текст мог бы восприниматься только как лирический и немного шутливый. Таким образом, Прокофьев здесь не только уловил характерные особенности одного из популярных жанров советской массовой песни, но и обогатил этот жанр.
Все же несмотря на отдельные очень яркие удачи «Песни наших дней» в целом не относятся к лучшим сочинениям Прокофьева. В ряде случаев намеренное упрощение музыкального языка лишило музыку индивидуальных черт, сделало ее вялой и бледной. Совсем не случайно наименее удачными оказались песни на народные слова, трактованные композитором как-то отвлеченно, вне связи с народно-песенными интонациями («Будьте здоровы», «Золотая Украина»). В этот период Прокофьев еще далек от современного народно-песенного языка, использование его элементов еще остается нерешенной задачей.
К ее решению Прокофьев приближается в песне «Растет страна» (на слова А. Афиногенова), хотя она
«стр. 101»
вовсе не является «песней в народном духе». Основной принцип ее строения – противопоставление одноименных мажора и минора – больше всего напоминает Шуберта и никак не связан с русской народной песней. Но взаимоотношение музыки и слова, замысловатая игра словесными повторами, затушевывающими ритмическую (в широком смысле слова) структуру текста и подчиняющими ее структуре музыкальной, на наш взгляд, отражает, хотя и очень опосредованно, особенности русской народной песни. Проследим взаимоотношение музыки и слова на примере первой поэтической строфы. Приводим ее текст:
Растет страна ступеньками,
Растут года, товарищи,
Мы сами по строительству
Меняем жизни срок.
Но молодость, товарищи,
Уходит вниз по лестнице
И на прощанье дарит мне
Седеющий висок.
Строфа– восьмистишие имеет лишь одну рифму; тем важнее ее композиционная роль. Рифмующиеся строки четко делят строфу на две части. Эти части в данной строфе [1] контрастируют: в первой идет речь о радостном росте молодой строящейся страны, во второй -об уходящей молодости человека-строителя. В соответствии с этим строит Прокофьев музыкальную композицию, придает самостоятельность и законченность каждой половине поэтической строфы [2]. Основное средство противопоставления – контраст лада (мажор – минор) – не является, однако, единственным. Первая часть изложена быстрой скороговоркой, передающей веселый, торопливый ритм созидательного труда. Отсюда естественность и даже необходимость словесных повторов, без которых эта часть слишком быстро промелькнула бы:
[1] Во второй строфе тот же смысловой контраст распределен не так четко по ее половинам, в третьей контрастирующие образы меняются местами.
[2] Музыкальная форма каждой строфы представляет собой двухчастность типа AB, а форма всей песни может быть представлена схематически как АВАВВА.
«стр. 102»

Во второй, минорной, части стихи интонируются вдвое медленнее (слог – четверть), а в мелодии многократно повторяется жалобная интонация, несколько напоминающая интонации народных причетов: в основе здесь лежат квартово-квинтовые интонации с секундовым опеванием сверху:

Приводим для сравнения аналогичную интонацию из народного плача невесты-сироты[1]:

Разница, как видим, главным образом заключается в ритме, упорядоченном в композиторской мелодии и свободном в народном плаче.
В третьей строфе контрастирующие элементы, в соответствии с содержанием поэтического текста, переставлены, что придает замкнутость всей композиции.
[1] Пример заимствован из сборника В. Г. Захарова «Тридцать русских народных песен». М.-Л., 1939.
«стр. 103»
Таким образом, прокофьевские «песни для массового слушания» очень отличаются, при всей своей простоте, от обычных массовых песен. По средствам выразительности они приближаются к романсам, предвосхищая ту тенденцию к сближению жанров, которая очень четко обозначается в советской вокальной музыке в годы Великой Отечественной войны.
Нельзя не упомянуть и песен Прокофьева, написанных для детской аудитории, в особенности, одну из них – «Болтунью».
Непритязательную песенку для детской эстрады Прокофьев превратил почти в арию-скороговорку из комической оперы, в живой портрет веселой, озорной девчонки. Маленькая героиня «Болтуньи» воспринимается нами как младшая сестра Фроськи из «Семена Котко». В этой песне совсем нет нейтральных интонаций, каждая фраза раскрывает какую-то черту характера, какую-то особенность поведения. Здесь сосредоточена целая энциклопедия ребячьих интонаций: задорных и хвастливых («У меня еще нагрузки: по-немецки и по-русски»), лукаво-вкрадчивых («я тебе ирису дам!»), обиженных («это Вовка выдумал!») и т. д. Создавая свою комическую сценку, Прокофьев не лишает маленькую героиню и обаятельной детской восторженности, которая слышится, например, в ее словах о полете на стратостате…
Конечно, здесь, как и во многих других случаях, отчетливо слышны влияния Мусоргского (его «Детской»). При этом мы смело можем говорить о творческом развитии традиции: в отличие от «Детской», изумляющей взрослого слушателя своим тонким психологизмом, но далеко не всегда доходящей до детской аудитории, «Болтунья» превосходно воспринимается и взрослыми, и детьми. Причина в том, что индивидуально-характеристические интонации подчинены здесь обобщающей силе музыкального жанра песни-арии.
Поиски живых современных интонаций, точнее – интонаций, присущих советским людям, столь очевидны в песнях Прокофьева (немаловажную роль играет здесь и обращение к советской поэзии), что на их фоне три его пушкинских романса, относящихся к тому же периоду, на первый взгляд кажутся далекими от этих поисков. И действительно, это несколько иная линия твор-
«стр. 104»
чества. Если в песнях мы можем отметить тенденции, роднящие их с оперой «Семен Котко», то в пушкинских романсах, безусловно, есть зерна, которые прорастут в центральном произведении позднего периода – опере «Война и мир».
Первый романс – «Сосны» («Вновь я посетил») – это сосредоточенное размышление, рожденное знакомой картиной природы. Прокофьев не иллюстрирует поэтический текст и не пытается раскрыть подтекст, как это он делал в своих ранних камерных произведениях. Он только «вокализирует» пушкинские стихи, «читая» их медленно и размеренно. А фортепианная партия создает очень тихий, прозрачный фон – как звенящий шорох тех сосен, которые упомянуты в названии романса (и в тех строках стихотворения, которые остались неиспользованными) [1].
Романс этот не стал популярным и, вероятно, никогда не станет. Надо многократно вслушиваться и «впеваться» в него, чтобы его «услышать». Но самый факт обращения именно к этому стихотворению Пушкина знаменателен. Есть все основания предполагать, что стихи Пушкина, говорящие о возвращении в родные края, для Прокофьева ассоциировались с его собственными переживаниями и размышлениями. Романс этот – как страница из дневника; потому-то так скупы, предельно самоограничены его выразительные средства.
Совсем в другом духе два других романса, в которых Прокофьев стремится воссоздать самую атмосферу пушкинской эпохи. Заметим, что в годы, предшествовавшие столетию со дня рождения великого поэта, Прокофьев, без преувеличения, жил в этой атмосфере. Одно за другим создавались его «пушкинские произведения»: музыка к предполагавшимся драматическим постановкам «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», к фильму «Пиковая дама», в которых композитор ставил себе задачей «как можно глубже проникнуть в истинный дух Пушкина». И тем не менее романс «Румя-
[1] Инструментальный «фон» романса кажется нам звуковой аналогией пушкинских строк:
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал.
«стр. 105»
ной зарею покрылся восток» нельзя признать удачей. Стилизованная пастораль, нарочито наивная, но с угловатостями и «зазубринками», тоже нарочитыми, она не соответствует духу поэзии Пушкина (кстати, и самое стихотворение лишь приписывается поэту).
Зато романс «В твою светлицу» оказался одним из шедевров вокальной лирики Прокофьева. В поэтическом прощании с возлюбленной композитор различает два образа: лирического героя и той, к которой обращены скупые слова прощания. Два образа слышны «в музыке: тема задумчивого вальса, вызывающая в памяти многочисленные «женские портреты» в русской музыке, и декламационная тема, интонации которой полны суровой решимости. Вот первая из них:

Нежная и целомудренная, проходящая в партии фортепиано тема начинает собой целую серию лирических вальсов Прокофьева, тоже чаще всего связанных с лирическими женскими образами в его балетах и опере («вальс Наташи» в «Войне и мире», вальсы в «Золушке»).
*
Таким образом, романсы Прокофьева оказываются тесно связанными с его крупными сочинениями, они рождены теми же творческими устремлениями, в них преодолеваются те же трудности. Но проблема самого камерно-вокального жанра в эти годы интересует Прокофьева гораздо меньше, чем в ранний период.
«стр. 106»
Очень важное место в творчестве Прокофьева занимает сборник народных песен [1], вызвавший много споров при своем выходе в свет.
Свобода творческого подхода к народной мелодии, например соединение двух разных песен в одном произведении, неожиданные ладотональные сдвиги, довольно сложно написанное сопровождение, связи которого с народным первоисточником не всегда легко ощутимы, – все это заставляло ревнителей чистоты русского музыкального языка отнестись к обработкам Прокофьева с некоторой осторожностью. Однако, несмотря на сложность музыкального языка, они удержались в концертной практике и вошли в репертуар наиболее передовых исполнителей (З. Долуханова, Л. Мельникова).
Прокофьев создавал свои обработки не как музыкант-этнограф, а как современный композитор. Его точка зрения на этот вопрос отражена в воспоминаниях Д. Кабалевского, которого Прокофьев уговорил принять участие в конкурсе на лучшую обработку русской народной песни, организованном Всесоюзным Радиокомитетом. «Занятый другими сочинениями, – пишет Д. Кабалевский, – я отговаривался тем, что никогда не писал таких обработок и не знаю, как к ним приступить, чтобы получилось интересно. «А Вы сделайте как я, – советовал Прокофьев, – возьмите мелодии народных песен и развивайте их так, как будто это Ваши собственные мелодии», – и он подробно разобрал за роялем обе свои обработки» [2].
Совершенно прав В. В. Протопопов, считая, что «к прокофьевским обработкам нельзя подходить с мерками предшествующих стилей: здесь все полно индивидуального своеобразия, и если его не учитывать, то зна-
[1] Семь песен опуса 104 заимствованы из собрания Е. В. Гиппиуса («Зеленая рощица», «Кари глазки», «За лесочком», «Я нигде дружка не вижу», «.Сашенька», «Дунюшка», «Чернец»), три – из записей А. В. Рудневой («В лете калина», «Катерина», «Сон»). В сборник вошли две упоминавшиеся выше обработки, напечатанные в 1931 году парижским издательством С. и Н. Кусевицких: «Снежки белые» и «На горе-то калина». Подробнее об этом сборнике см. в книгах: И. Heстьeв . Прокофьев, стр. 378-383 и «История русской советской музыки», т. III, стр. 76-90 (автор В. В. Протопопов)
[2] «С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания», стр. 269.
«стр. 107»
чительность прокофьевского вклада в рассматриваемый жанр понять невозможно» [1]. На страницах «Истории русской советской музыки» В. В. Протопопов подробно говорит и о своеобразии отражения народных диатонических ладов в гармонии Прокофьева, и о связях оригинальнейших музыкально-стилистических приемов с русской музыкальной классикой (Бородин, Мусоргский). Обработки Прокофьева могут и должны быть исследованы с самых различных точек зрения. Для настоящей работы наиболее интересным и существенным представляется вопрос о путях превращения народной песни в камерно-концертный жанр.
Два способа применяет Прокофьев: расширение музыкальной формы и обогащение звучания мелодии развитым и индивидуализированным в отношении гармонии и фактуры сопровождением. И, конечно, и то, и другое направлено не только к стилистическому обогащению песни, но прежде всего к более яркому и выпуклому выявлению ее образов . Народная песня для Прокофьева – это прежде всего живой образ : иногда это музыкальная характеристика определенного персонажа («Чернец», «Катерина»), иногда – выражение очень живого и конкретного чувства («Зеленая рощица», «Сашенька»), иногда – воссоздание картины народного обряда («В лете калина»). Такое отношение к песне исключает подход к ней как к памятнику прошлого и естественно рождает «осовременивание» песни новыми выразительными средствами.
В цитированной главе «Истории русской советской музыки» В. Протопопов указывает на ряд моментов, связывающих обработки Прокофьева с творчеством Мусоргского, и в частности на родство песни «Чернец» с «Семинаристом» Мусоргского. Действительно, конфликт, лежащий в основе песни-сценки Мусоргского, является типичным для многих народных песен, героем которых является молодой чернец или черница. Но суть дела даже и не в сходстве сюжета, а в том, что жанр обработки народной песни Прокофьев приближает к жанру песни-сценки в манере Мусоргского. Он обрабатывает песню, передавая в музыке характер
[1] «История русской советской музыки», т. III, стр. 90.
«стр. 108»
чернеца, скрытую под черной его рясой жажду жизни и молодецкую удаль. Отсюда моторность сопровождения, отсюда неожиданные модуляционные сдвиги [1], тоже усиливающие динамику музыкального развития, отсюда «упрямые», настойчивые повторы взлетающего пассажа в фортепианной интерлюдии и, наконец, отсюда же весело и привольно звучащие возгласы в коде песни.
Сходную трактовку народного первоисточника мы находим и в песне «Катерина». Эта обработка несколько недооценена И. Нестьевым, который писал в монографии о Прокофьеве, что у композитора получилась «полушуточная миниатюра с плясовым сопровождением». А в тексте песни говорится про то, как «отдавали молоду на чужую сторону не за ровнюшку»: ее истинный смысл – скорбный, отнюдь не веселый» [2].
Нам кажется, что Прокофьев, наоборот, не только раскрыл «истинный смысл» песни, но и усилил его звучание. В народном искусстве мы найдем немало примеров парадоксального, на первый взгляд, выражения скорбного и даже трагического содержания в жанре плясовой или хороводной песни. А что касается именно хороводной песни, то в ней тема неравного брака – одна из самых распространенных (см. песни «Во лузях», «Отдавали молоду», «Выходили красны девицы»). В них, как пишет исследователь русского музыкального фольклора Т. В. Попова, «нередко проявляется резко критическое, оппозиционное отношение молодежи к темным, отрицательным сторонам старого быта, к патриархальному деспотизму» [3]. Усиливая этот критический смысл старой песни, Прокофьев продолжил и традицию Мусоргского, создавшего в своих песнях-сценках («По грибы», «Гопак») замечательные образы бабьего отчаянного веселья, образы молодости, рвущейся на волю из подневольных семейных пут. Нечто подобное слышно и в музыке «Катерины» Прокофьева, песни, в которой плясовой ритм и частый «говорок» соединяется с неожиданными возгласами:
[1] Из ля-бемоль мажора в ре мажор и соль минор.
[2] И. Нестьев. Прокофьев, стр. 380.
[3] Т. В. Попова. Русское народное музыкальное творчество, вып. II. М., 1956, стр. 81.
«стр. 109»

«Катерина», как и «Чернец», тоже песня-сценка, характеристический портрет. В ином плане трактованы композитором лирические песни, в них меньше характеристического, единичного и больше обобщенного.
Превосходным образцом преломления народной лирики в творчестве Прокофьева может служить песня «Зеленая рощица». В ней народная песня того же на-
«стр. 110»
звания соединена с другой, тоже лирической, девичьей – «Сказали, не придет», выполняющей функцию «трио» трехчастной формы.
Соединение это отнюдь не произвольно, оно тоже образует своего рода драматизированную «сценку», хотя и в ином плане, чем в рассмотренных выше песнях, то есть вне конкретной бытовой ситуации.
Печальная девичья песня «Зеленая рощица» звучит очень сдержанно, строго. Ее удивительно выразительную, при всей простоте, «говорящую мелодию с характерным распевом-«вздохом» на слове «рощица» композитор не только не заслоняет сопровождением, но и удваивает (а местами утраивает) ее, придавая особую весомость каждому отдельному звуку:

А во второй песне («Сказали, не придет») чувство вырывается наружу. В словах ее уже сказано о причине печали, мелодия распета шире и вольнее. Прокофьев присоединяет к ней контрапунктирующие голоса в со-
«стр. 111»
провождении. Противопоставление двух песенных образов подчеркивается и тонально: ре минор – фа минор.
«Зеленая рощица» с ее глубоким психологизмом – это уже почти лирический романс или, во всяком случае, песня-романс, где сопоставление двух лирических образов обогащает каждый из них (при очень осторожном авторском вмешательстве).
Это вмешательство гораздо активнее в обработке песни «Сашенька», с очень характерным «рисунком» фортепианной фигурации (которую В. В. Протопопов метко сравнил с «поездом Голицына»). Здесь действительно много общего, и не только в деталях, а и в общем характере музыки – скорбном, сумрачном. Народную мелодию, основанную на многократном варьировании нисходящего гексахорда ре – фа [1] Прокофьев очень сильно динамизирует, создавая посредством «раздвигания» регистра сопровождения и усиления звучности большую эмоциональную «волну», нарастающую к концу строфы.
И здесь, как в песнях-сценках, Прокофьев, применяя современные средства, как бы «сгущает краски» народного первоисточника, заостряет его рисунок.
Так же поступает он и в величальной песне «В лете калина», гиперболизируя присущую ей несколько тяжеловесную торжественность, настойчиво подчеркивая ритмические сдвиги и перебои.
Во всех упомянутых песнях, да, в сущности, и во всем сборнике в целом, отражены лучшие черты творчества Прокофьева: ярко национальный характер, цельность и яркость образов и, наконец, та высочайшая ступень мастерства, которая позволила композитору добиться «новой простоты», оставаясь самим собой.
Далеко выходя за пределы жанра обработок, вырываясь то в сферу романса, то в сферу оперных образов, песни эти завершают собой путь Прокофьева как камерно-вокального композитора, подытоживая его многолетние разносторонние искания.
Что же в этих исканиях является основным, ведущим? Конечно, прежде всего, поиски живой интонации,
[1] Иногда расширяемого вверх до октавы.
«стр. 112»
могучего средства для передачи человеческого характера, человеческих эмоций. Именно это проходит красной нитью через все вокальное творчество Прокофьева, сближая столь разные его произведения, такие, как ахматовские романсы и «Болтунья», «Гадкий утенок» и обработки народных песен.
Именно это и оказалось наиболее перспективной тенденцией творчества Прокофьева, нашедшей продолжение в камерно-вокальной музыке советских композиторов последующего поколения – Шостаковича, Свиридова, а за ними и более молодых. Романс-портрет, романс-сценка привлекают к себе все большее внимание. И творчество Прокофьева, таким образом, оказывается звеном, связующим традицию Мусоргского с «песнями наших дней».
«стр. 113»
AH. АЛЕКСАНДРОВ
В предшествующих главах, посвященных творчеству Мясковского и Прокофьева, анализ романсов раскрывал лишь одну, хотя и существенную, грань их творческого облика. Сколь ни типичен путь Мясковского как вокального композитора, все же в истории музыки он остается прежде всего симфонистом. Так же и Прокофьев: его камерные вокальные произведения – это либо «этюды» к крупным вокальным формам – операм, ораториям, – либо своего рода «осколки» этих крупных форм.
Иначе обстоит дело с творчеством Анатолия Николаевича Александрова. Самый склад камерной музыки особенно соответствует характеру дарования композитора, сочетающего в себе пленительный лиризм, тонкий и взыскательный вкус, отточенное мастерство. Часто и каждый раз с новым интересом обращаясь к лаконичным формам камерной музыки, композитор как бы «раздвигает их изнутри». Превращение романса в драматический монолог, в вокальную поэму для композитора столь же типично, как и симфонизация фортепианной сонаты или квартета. А вместе с тем он всегда остается мастером выразительнейшей, «говорящей» детали.
Среди всех разновидностей камерной музыки Александров питает особенное расположение к музыке вокальной, сохраняя эту склонность от первых юношеских опытов до последнего времени. Вокальные произведения отражают развитие творческой индивидуальности композитора, отмечая все изгибы его пути (в целом достаточно ровного и органичного).
«стр. 114»
Путь Александрова как вокального лирика можно считать типичным для композиторов его поколения, начавшего свою деятельность еще в дореволюционные годы. От самодовлеющего эстетизма – к ясности и простоте стиля, соответствующего выражению чувств нашего современника, к опоре на традиции русской классики и поискам современного интонационного строя – так можно представить себе этот путь, близкий пути целого ряда советских композиторов: Мясковского, Шебалина, Щербачева. Но эта общая линия развития представлена в творчестве Александрова в индивидуальном варианте.
И как бы ни изменялась музыкальная стилистика романсов Александрова, одно качество, проявившееся уже в ранних произведениях, остается неизменным. Это – очень большая чуткость композитора к поэтическим особенностям выбранного текста, тонкий, изысканный художественный вкус в отборе музыкально-выразительных средств. Именно это и позволило ему стать одним из крупных мастеров советской вокальной музыки.
*
Свой путь вокального композитора Александров начал еще будучи учеником консерватории, которую он окончил в 1915 году как пианист (класс К. Игумнова) и в 1916 году – как композитор (класс С. Василенко). Первыми опубликованными вокальными сочинениями молодого композитора были три романса на слова Фета (ор. 2, 1915 год). Это уже вполне профессиональные по своему уровню произведения, хотя, конечно, в них еще нельзя искать полной зрелости и самостоятельности. Все же и в этом раннем опусе есть известная оригинальность, хотя и проявившаяся только в выборе образца для подражания. Напрасно мы стали бы искать здесь влияний творчества учителя Александрова, Василенко, оно сказалось может быть только в выборе стихотворений Фета («Из Гафиза»)-подражаний восточной лирике, к которой Василенко, как известно, имел большую склонность. Но это могло произойти и независимо от влияний учителя – «музыка о Востоке» издавна была одной из самых ярких традиций в творчестве русских композиторов. Кстати, одно из выбранных Александровым стихотворений Фета («В царство розы и» вина») получило воплощение в романсе Римского-Корсакова,
«стр. 115»
Однако в романсах начинавшего свой путь композитора гораздо сильнее сказались влияния современной русской фортепианной музыки. В гармонии, в фактуре, в самой форме очень ясно слышны влияния Скрябина. Это особенно чувствуется в первом романсе опус 2 («О, как подобен я»), с его характерными повторами кратких, напряженно звучащих мотивов в партии фортепиано, с явными «скрябинмзмами» в гармонии:

Уже в этом раннем романсе проявилось характерное для композитора стремление передать в музыке последовательно все образы текста, обусловившие многие как сильные, так и слабые стороны вокального творчества Александрова.
В данном случае это стремление отразить все частности поэтического текста приходит в противоречие с логикой музыкального развития: переходы из одной тональности в другую совершаются на слишком малом протяжении, равновесие между словом и музыкой еще не найдено. Не найдено и соотношение между вокальной и фортепианной партией, романс воспринимается почти
«стр. 116»
как фортепианная прелюдия с приписанной к ней партией голоса.
Гораздо большая уверенность чувствуется в третьем романсе из того же опуса – «В царство розы и вина». На первом плане здесь вокальная партия, очень гибкая, декламационно выразительная и, вместе с тем, достаточно обобщенная, так что в репризе основная тема вокальной партии вполне естественно проходит в партии фортепиано. «Пианистичность» преобладает в средней части, где голос контрапунктирует широкой, полнозвучной мелодии, проходящей в партии фортепиано. Влияния ощутимы и здесь, но кроме Скрябина слышатся и отголоски Вагнера: нарастание перед кульминацией строится на характерных «вагнеровских» восходящих хроматизмах. При всем этом романс «В царство розы и вина» – уже подлинно художественное произведение, имеющее все права, чтобы и сейчас, через пятьдесят лет после его сочинения, звучать в концертных программах.
В начале своего творческого пути Александров нередко обращался к современным поэтам, принадлежавшим к различным модернистским направлениям, не утрачивая, однако, интереса к классической поэзии. Бальмонт, Игорь Северянин чередуются с Фетом и Баратынским… Интерес к Бальмонту и Северянину оказался преходящим, но один из поэтов-модернистов – Мих. Кузмин – надолго привлек симпатии композитора. К его «Александрийским песням» Ан. Александров обращался на протяжении более чем десяти лет, и уже один этот факт заставляет внимательнее присмотреться к творчеству Кузмина и попытаться раскрыть секрет его привлекательности для композитора.
Сейчас, из почти полувекового отдаления, все разновидности модернизма представляются нам почти одинаковыми, мы ясно видим их чуждость, а порой и враждебность по отношению к передовым идеологическим движениям эпохи, ретроспективизм, субъективность – все болезни дореволюционной русской интеллигенции, особенно характерные для десятилетия перед революцией.
Но внутри модернизма шла своя борьба, лучшие, наиболее талантливые его представители ясно ощущали ущербность своего общественного и художественного мировоззрения, что и позволило затем Блоку и Брюсову занять столь видное место в советской поэзии.
«стр. 117»
M. Кузмин не принадлежал к этим лучшим. Но чувство ущербности модернизма он разделял с ними, как, впрочем, и со многими другим» представителями своего поколения.
Кузмин вышел на видное место в русской поэзии начала XX века вместе с группой поэтов-акмеистов [1], декларативно противопоставившей мистике символистов любовь к миру реальных вещей. Лучше всего свидетельствует об этом статья самого Кузмина «О прекрасной ясности».
«Есть художники,– писал Кузмин,– несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа. И есть другие – дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить насколько вторые, при равенстве таланта, выше и целительнее первых» [2].
Протест Кузмина против «отсутствия контуров, ненужного тумана и акробатского синтаксиса» символистов не был протестом с реалистических позиций. Только в очищении синтаксиса, по сути дела, и реализовались декларативные призывы к «прекрасной ясности». В идейном отношении акмеизм был даже ограниченнее символизма, поскольку и не стремился к философскому осмыслению мира. Сам Кузмин остался эстетом, влюбленным в прошлое– в эпоху заката античности, в XVIII век, который он воспевал в своих стихах и рассказах.
Присущая Кузмину влюбленность в краски, звуки, запахи окружающего мира, видимо, и привлекла внимание Александрова к стихам этого поэта. На протяжении четырнадцати лет (1915-1929) Александров написал четыре тетради «Александрийских песен» [3].
[1] В нее входили, кроме М. Кузмина, Н. Гумилев, А Ахматова, С. Городецкий, В. Нарбут и другие.
[2] М. Кузмин. О прекрасной ясности. «Аполлон», 1910, № 2, стр. 5-6.
[3] «Из Александрийских песен М. Кузмина». Тетрадь первая (ор. 8): «Вечерний сумрак», «Когда я тебя в первый раз встретил», «Ты, как у гадателя отрок», «Разве не правда?». Тетрадь вторая (ор. 20): «Как песня матери», «Что ж делать», «Солнце, солнце», «Ах, покидаю я Александрию». Тетрадь третья (ор. 25): «Когда мне говорят: Александрия», «Когда утром выхожу из дома», «Весною листья меняет тополь», «Их было четверо», «Как люблю я…». Тетрадь четвертая (ор. 34): «Адониса Киприда ищет», «Не напрасно мы читали богословов», «Сладко умереть», «Сегодня праздник».
«стр. 118»
То, что романсы эти писались в течение столь длительного промежутка времени, разумеется, сказалось на их музыкальной стилистике. На примере «Александрийских песен» очень ясно прослеживается эволюция вокального письма Александрова. Заметно меняется самое отношение к форме романса: из камерной миниатюры он превращается в вокальную поэму, с широко развитой партией голоса, с полнозвучной, симфонизированной партией фортепиано. Этот путь естественно приводит к созданию оркестровой редакции двух песен («Как песня матери» и «Солнце, солнце») [1].