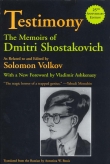Текст книги "Мастера советского романса"
Автор книги: В. Васина-Гроссман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Да другу трудно будет без меня.
( Перевод Б. Пастернака )
Сонет – лучшее произведение в цикле. В отличие от других эпизодов, основное музыкальное содержание сосредоточено здесь в вокальной мелодии, простой и благородной, сочетающей декламационную выразительность и напевность. Продолжая линию, наметившуюся в «Стансах» из пушкинского цикла, она в еще большей степени связана с классической традицией музыкальных монологов-размышлений, с традицией элегии Бородина «Для берегов отчизны дальной» или «Бессонницы» Метнера.
Большую простоту трудно себе и представить; вся мелодия возникает из начального сопоставления широкого, восклицательного секстового хода и мягкого «опевания» тоники соседними звуками:

«стр. 260»

Это сопоставление развивается далее: секста то развивается до октавы (такт 7-й), то заполняется промежуточными звуками (такты 11 -12), а мотив «опевания» получает развитие в средней части «Сонета».
Очень велико здесь значение ладотональных красок, кульминацией (но не вершиной) мажорной мелодии служит минорная терция (си-бемоль). И это служит началом дальнейшего проникновения минорных звуков в мажор, что реализуется чаще всего путем простого наложения гармоний одноименного минора на почти непрерывно звучащий тонический бас. Так, в предрепризной кульминации (на словах «И видеть мощь у немощи в плену») на тонический бас накладывается гармония второй низкой ступени, а в коде, на доминантовый бас – «темная» гармония квартсекстаккорда шестой низкой минорной ступени, после которой переход к заключительной тонике соль мажора воспринимается особенно светло и ярко.
Между тремя трагическими романсами помещены две лирических интермедии: «В полях под снегом и дождем» и «Дженни». Первый романс – это очень тихая, целомудренная песнь о любви, мелодия которой как бы «впитала» в себя выразительные речевые инто-
«стр. 261»
нации, но совсем иного рода, чем в «Сонете». Там все же ощутим элемент декламации, хотя и очень строгой, без всякой преувеличенности и патетики. Здесь – тихая, задушевная речь, обращенная к самому близкому другу. В манере этой песни есть нечто предвосхищающее более поздний лирический цикл на слова Е. Долматовского. Очень тонкими, незаметными штрихами композитор придает музыке национальный колорит; в песне преобладает минор с дорийской секстой, а фактура фортепианного сопровождения с ее двухголосьем, выдержанными квинтами в басу имитирует звучание народных инструментов.
Надо еще отметить, что в этой песне, как и в «Сонете», большое выразительное значение имеет гармония: третья строфа (выполняющая функцию середины) выделена сменой тональности. Слова «пускай сойду во мрачный дол» подчеркнуты модуляцией в си-бемоль минор – тональность шестой низкой ступени.
В песне «Дженни» мелодия интонируется почти говорком, очень тихо, «по секрету», и лишь заключительная фраза-рефрен каждой строфы распета шире:

A фортепиано передает и легкие, осторожные, крадущиеся шаги юной влюбленной, и звон капель летнего дождя:

«стр. 262»
По лаконизму и тонкой выразительности эта песня может быть отнесена к лучшим в цикле.
Так чередуются в «Шести романсах» страницы суровые и скорбные со страницами нежной и трепетной лирики. Завершает цикл шуточная песня «Королевский поход» -едва ли не самый миниатюрный образец «батального» музыкального произведения. Между двумя строчками английской детской песенки:
По склону вверх король повел полки своих стрелков.
По склону вниз король сошел, но только без полков -
помещена крошечная инструментальная «сцена боя»:

Как ни интересны отдельные вокальные произведения Шостаковича, созданные в 30-40-х годах, все же рубеж 40-х и 50-х годов воспринимается как начало нового, более высокого этапа в его вокальном (и не только вокальном) творчестве. Отмеченное нами выше сближение линии высокого обобщения и характеристичности связано, с нашей точки зрения, с очень важной особенностью этого периода: с усилением положительных образов в творчестве композитора. Конечно, положитель-
«стр. 263»
ные образы жили в творчестве Шостаковича и раньше: в лирических раздумьях медленных частей его симфоний, в его остроумнейших скерцо, в превосходных песнях, как, например, «Песня о встречном», распевавшаяся и бойцами Интернациональной бригады в Испании, и участниками французского Сопротивления, и делегациями демократической молодежи на фестивалях. Исполняясь с самыми различными вариантами текста, она всегда звучала как песня, передающая новое отношение к жизни, к труду, к людям.
Однако далеко не во всех случаях положительная идея произведений Шостаковича могла дойти до слушателя. Лирический герой его музыки – герой со сложным, исключительным душевным миром, в который не легко и не просто войти другому человеку.
Прежний герой не исчез из творчества Шостаковича, но рядом с ним появились другие – люди с простыми, цельными и сильными чувствами. Найти их, увидеть в их жизни подлинно поэтические черты (а не только бытовые, повседневные) под силу только очень большому художнику-реалисту. Образы простых людей с их горестями и радостями в вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии», образ восставшего народа в «Десяти поэмах» для хора – зерне, из которого выросла замечательнейшая одиннадцатая симфония, – все это свидетельствует о полной зрелости реалистического метода Шостаковича, а в частности – о его умении видеть поэтическое в самых разных жизненных явлениях: в героическом и будничном, трагическом и смешном.
Этот общий эстетический процесс реализуется в ряде процессов частных, стилистических. Совсем не случайным, имеющим глубокие эстетические корни представляется нам то, что весь этот период отмечен особо интенсивной работой Шостаковича над музыкально-речевой интонацией, которую композитор понимает как основу для выразительности и вокальной музыки, и инструментального тематизма нового для Шостаковича типа. Это особенно ярко проявилось в одиннадцатой симфонии. В творчестве Шостаковича возрождаются принципы реализма Мусоргского. Эпиграфом ко многим сочинениям нашего современника можно было бы поставить известные слова Мусоргского: «И если возможно самым простым способом, только строго подчиняясь
«стр. 264»
художественному инстинкту в ловле человеческих голосовых интонаций, – хватать за сердце, то не следует ли заняться этим? – а если при этом можно схватить и мыслительную способность в тиски, то не подобает ли отдаться этому занятию» [1]
В цикле «Из еврейской народной поэзии», как и в самых своих больших и значительных произведениях, Шостакович проявил себя как композитор-гуманист, музыка которого несет в себе глубокое сочувствие человеческим страданиям и протест против всего, чем эти страдания вызваны. Но гуманизм, всегда присущий творчеству Шостаковича, нашел здесь новое выражение. Композитор предстает перед нами как мастер реалистического портрета, как прямой продолжатель традиции Мусоргского, смело сочетающий в своем произведении лирику, трагедийность, юмор.
Особенно поражает в этих песнях мастерство интонационной характеристики, что заметнее всего в песнях-диалогах, где противопоставляются человеческие характеры , одновременно индивидуализированные и типические. Живые люди, очень разные, непохожие друг на друга, предстают перед нами в песнях этого цикла.
В беседе с автором настоящего очерка Шостакович рассказал, что в маленькой, случайно попавшей к нему в руки книжечке переводов из еврейской народной поэзии его больше всего поразила удивительная конкретность героев «с именами и фамилиями», как он выразился. Эту конкретность он еще более усилил в музыке, выявив в то же время и обобщенное значение каждой бытовой сценки.
Одиннадцать песен на народные слова [2] рассказывают о прошлом и настоящем еврейского народа. В первых восьми отражена нищая, бесправная жизнь обитателей еврейского местечка, их большие печали и маленькие радости. В последних трех – показана новая
[1] «М. П. Мусоргский. Письма и документы». М.-Л., 1932, стр. 147.
[2] «Из еврейской народной поэзии» (ор. 79). Цикл для сопрано, контральто и тенора: «Плач об умершем младенце», «Заботливые мама и тетя», «Колыбельная», «Перед долгой разлукой», «Предостережение», «Брошенный отец», «Песня о нужде», «Зима», «Хорошая жизнь», «Песня девушки», «Счастье».
«стр. 265»
жизнь и новые люди, выходящие из тесного, душного мирка на широкий простор свободной трудовой жизни.
Принцип контраста, положенный в основу общей композиции цикла, находит выражение и в сопоставлении соседних песен, в особенности песен, родственных по сюжету. Одна и та же тема как бы раскрывается с разных сторон.
Первые три песни посвящены теме детства. Цикл начинается «Плачем об умершем младенце», сразу вводящим в трагедийную атмосферу. Столкновение предельно противоположных образов – детства и смерти – относится к острейшим трагедийным приемам, не раз использованным в музыке. Можно привести ряд примеров, начиная от «Лесного царя» Шуберта – Гете до «Песен об умерших детях» Малера – Рюккерта в западном искусстве. В русском нельзя не вспомнить, опять-таки, Мусоргского с его трагической колыбельной из цикла «Песни и пляски смерти». Шостакович в своей песне ближе к Мусоргскому, он рисует трагедию не только психологическую, но и социальную.
«Плач об умершем младенце» – это дуэт контральто и сопрано, музыка которого вырастает из выразительной интонации стона, развивающейся с первых тактов фортепианного вступления и обретающей речевую конкретность в репризе, в кульминации, завершающей этот короткий и печальный рассказ.
Очень ярким контрастом к первому дуэту является второй – «Заботливые мама и тетя». Это забавная колыбельная-прибаутка, с комически преувеличенными интонациями сочувствия воображаемым болезням ребенка. Начинаясь ходом по тонам мажорного трезвучия, мелодия (на словах «привези нам яблочко, чтоб не болеть глазочкам») приобретает минорный оттенок благодаря появлению шестой пониженной ступени, соответствующим образом гармонизованной. Это дуэт-диалог, голоса звучат поочередно, соединяясь только в припеве, но и там они не сливаются, двигаясь параллельными квартами.
А затем снова возвращаются образы скорби. Грустная «Колыбельная» – один из самых замечательных эпизодов в цикле. Мать рассказывает маленькому сыну о его отце-революционере, сосланном в Сибирь. Рассказ ее полон боли и страдания, но в музыке звучит и
«стр. 266»
бесконечная нежность, побеждающая страдания и боль. «Колыбельная» – один из самых прекрасных образов материнства в нашем искусстве.
Мелодия «Колыбельной» вырастает из очень простых интонаций «баюканья» и лишь в средней части приобретает характер декламации-рассказа:

Отметим, что интонация припева – соскальзывание по ступеням так называемой «венгерской гаммы» (встречающейся в музыке ряда восточных народов, в частности также и в еврейской) – приобретает в цикле лейтмотивное значение, получая в различных песнях различный выразительный смысл в зависимости от контекста, а также от ритмического и гармонического освещения.
В следующей группе песен (№№ 4-8) мы видим такое же чередование ансамблей и сольных песен, но здесь нет уже опоры на народные жанры (народного плача, колыбельной). За исключением «Песни о нужде», – это песни– сценки , в которых Шостакович проявляет удивительное мастерство точной музыкальной характеристики, умение раскрыть в сжатой форме правдивые, острые жизненные конфликты.
«стр. 267»
В песне– дуэте «Перед долгой разлукой» перед нами возникают два различных человеческих характера, по-разному переживающих горе расставанья. Девушка полна отчаяния, юноша еще живет счастьем любви. Этот психологический контраст отражен в музыке -прежде всего и ярче всего в интонационном рисунке вокальных партий. Совсем различно звучит в устах каждого из героев прощальная, почти тождественная в звуковысотном отношении фраза:

Еще острее музыкально-психологический контраст в песне-диалоге «Брошенный отец». Трагический конфликт выражен с предельным лаконизмом; интонациям мольбы и отчаяния покинутого отца противопоставлены отрывистые, презрительные и гневные интонации жестокой дочери.
Таким образом, в основе обоих дуэтов лежит контраст (во втором – даже конфликт), развивающийся в каждом случае по-разному. В песне «Перед долгой разлукой» острота контраста постепенно смягчается, что находит тонкое отражение в музыке: интонации, принадлежавшие только партии сопрано, проникают и в партию тенора; сливаются чувства героев, сливаются и их голоса.
По– иному, все более и более обостряясь, развивается конфликт в песне «Брошенный отец». Партия отца основана на повторении одной и той же скорбно молящей фразы, в партии дочери гордость, презрение и гнев получают все более сильное выражение. В кульминации песни конфликт достигает наибольшей остроты, а завершается эта песня-сцена монотонным, безнадежным повторением все той же мольбы: «Вернись ко мне…».
Интермедией между двумя диалогическими сценками служит песня «Предостережение». Старшая сестра
«стр. 268»
поучает младшую, и в степенных, убеждающих интонациях ее речи раскрыт душевный облик рассудительной девушки. А легкое, ритмически упругое движение партии фортепиано как бы рисует портрет беззаботной и ветреной младшей сестры – молчаливой участницы этой сценки.
Сольный эпизод, предшествующий терцету «Зима»,– отчаянно веселая «Песня о нужде», написанная на слова еврейского рабочего-поэта Б. Шафира. Тема нужды и горя нашла здесь парадоксальное выражение в форме плясовой песни. Это заставляет особенно отчетливо вспомнить Мусоргского и созданные им образы хмельной пляски с горя («Гопак» на слова Шевченко, «Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти»). Плясовой ритм в сочетании с хроматизмами, звучащими и в последовательности, и в одновременности, создает острохарактерный музыкальный образ:

Отметим, что начальная интонация песни тоже имеет лейтмотивное значение. Она уже появлялась, например, в дуэте (№ 4).
Терцет «Зима» – самый яркий из трагических эпизодов цикла. Это не только рассказ о холодной и голодной зиме, но и высоко поднятое над бытом, трагическое завершение скорбной повести о безрадостном, бесправном прошлом. Музыка здесь далеко выходит за пределы камерного жанра, приближаясь по силе драматизма к оперному ансамблю. Как и в «Плаче об умершем младенце», интонации плача, стона, мольбы здесь как бы вплавлены в скорбно-повествовательную мелодию, достигающую потрясающей силы обобщения в кульминации:
«стр. 269 »

«стр. 270 »
Три последние песни цикла («Хорошая жизнь», «Песня девушки» и терцет «Счастье») посвящены теме обретенного счастья. Приходилось не раз слышать мнение, что эти светлые песни не дают достаточно яркого разрешения конфликтов первой части цикла – упрек, часто адресуемый Шостаковичу и в данном случае не лишенный основания. Песни очень хороши сами по себе (особенно «Счастье»), но в них нет такой обобщающей силы, какой отмечен «Плач об умершем младенце», «Колыбельная» или «Зима».
Но и здесь есть великолепные творческие находки. Таково, например, переосмысливание отмеченных выше лейтмотивных интонаций в «Песне девушки». Оба лейтмотива объединяются, к ним присоединяются «открытые» интонации кварты или квинты, и музыка получает совсем иной, гораздо более светлый характер. В ней как будто звучит простодушный наигрыш пастушеской дудочки, передавая радостное ощущение природы, широту открывающихся взору ясных, просторных далей. Таково фортепианное заключение песни:

Заключительный терцет «Счастье» очень ярко контрастирует терцету «Зима». Это сочная жанровая картинка: жена старого сапожника рассказывает о счастье и довольстве, пришедшем в ее семью. Рассказ лишен какой бы то ни было значительности, он подчеркнуто прост, житейски будничен. Облик старой женщины, ее простодушная радость, характерная торопливость речи переданы композитором с почти сценической яркостью.
«стр. 271»
Отметим, что наряду с явной и преобладающей тенденцией – приближения к оперному стилю – в цикле есть и ряд приемов, типичных в большей мере для инструментальной музыки. Таков, прежде всего, прием объединения частей цикла общим тематическим материалом, получающим всякий раз новое выразительное значение благодаря контексту, ритмическому или гармоническому варьированию. Но здесь мы имеем дело именно с синтезом вокального и инструментального начала, а не с простым перенесением уже хотя бы потому, что сами-то лейтмотивы имеют вокальное, иногда даже вокально-речевое происхождение.
Вызвавший огромный интерес цикл Шостаковича «Из еврейской народной поэзии» несколько заслонил (и не вполне справедливо!) последующие работы композитора в камерно-вокальном жанре: цикл испанских песен» (на народные мелодии) и «Пять романсов» опус 98 на слова Е. Долматовского.
Цикл «Испанских песен» стоит несколько в стороне от темы настоящей работы. Однако он, как появившиеся в годы войны обработки Шостаковичем английских народных песен, имеет значение для всего творчества композитора как свидетельство его интереса к народно-песенному искусству и пример очень бережного, строгого отношения к его образцам. Отметим еще, что Испания, представленная в сборнике песен Шостаковича, – совсем не традиционная Испания: без болеро и хабанер, без кастаньет и тамбуринов. Это лирика Испании, и в каком-то смысле обработки IIIостаковича можно сравнить с циклом «Испанских песен» Гуго Вольфа.
В «Пяти романсах» на слова Долматовского заметна тенденция к нарочитому самоограничению не только в отношении фактуры (что имелось и в английском» цикле в сочетании с очень большой утонченностью интонационного и гармонического языка), но и в мелодии, гармонии, форме.
«Пять романсов» – это пять страниц лирического дневника, простой рассказ о любви. В музыке этих романсов нет широкого разлива эмоций, лирическое высказывание отмечено необычайной сдержанностью, за которой угадывается большая сила и чистота чувства. Форма, гармония, фактура предельно просты, лишь
«стр. 272»
кое– где отдельные острые «зазубринки» нарушают непривычную для Шостаковича гладкость музыкальной речи, давая почувствовать индивидуальный почерк композитора.
Так, например, в широко напевную, «шубертианскую» мелодию романса «День радости» неожиданно вторгается тихий, торопливый любовный шепот:
Все сбудутся мечты! Конечно, сбудутся!
А наши горести? А горести забудутся!
Самое большое достоинство цикла – это удивительная естественность интонации, на которой сосредоточено основное внимание композитора. Некоторые фразы «сказаны» так, что их музыкальное решение представляется единственно возможным. Так, например, в первом же романсе внимание невольно останавливается на фразе, возникшей из широко распетой «речевой» мелодии:

Эта же интонация повторяется и в романсе «День признаний» (на словах «Большая дорога пред нами открылась»), а в романсе «День обид» мы также слышим ее вариант (на словах «да будут священными чистые чувства»).
Нельзя пройти мимо привлекательного своей особенной скромностью и чистотой романса «День воспоминаний». В соответствии со словами («была такая песенка одна»), в партии фортепиано все время звучит простенький и наивный мотив, придающий ей особенную, хрупкую и трогательную прелесть;
«стр. 273»

В сущности, здесь повторен прием, использованный в «Песне девушки» из цикла еврейских песен. К сожалению, этот романс, как и весь цикл, очень проигрывает благодаря неуклюжему, непоэтическому тексту Е. Долматовского, не давшего себе труда довести до настоящего художественного уровня интересный замысел.
Вслед за циклами опус 79 и 98 появился вокальный цикл «Сатиры» на слова Саши Черного (опус 108), стилистически продолжающий линию музыкально-речевых исканий, но в то же время совсем новый, неожиданный по своим заостренным, пародийно преувеличенным интонациям.
Цикл вызвал много споров: самое обращение к сатирическим стихам дореволюционного поэта-«сатириконца», злободневным в свое время и именно потому устаревшим, казалось многим по меньшей мере дискуссионным. Жанр сатиры исключает ретроспективность, и потому естественно встает вопрос: против чего направлены «Сатиры» Шостаковича? Верное решение этого вопроса дал, с нашей точки зрения, М. Сокольский в статье «Шостакович смеется» [1].
Если не понимать содержание сатир слишком прямолинейно (против чего автор предостерегает в первом номере цикла – «Критику»), то обобщенное его
[1] См. «Известия» от 3 сентября 1962 года.
«стр. 274»
содержание, направленное против мещанства и пошлости, остается актуальным и поныне.
Мишенью сатирических стихов Саши Черного является мещанство в худшем своем виде – интеллигентное мещанство, олицетворенное в разнообразных типах пошляков: пошляка-«эпикурейца», презрительно отвергающего мысли о счастье грядущих поколений («Потомки»), пошляка-«эстета» (дама-поэтесса в «Недоразумении»), пошляка-«народника», потрясенного первозданными прелестями прачки Феклы («Крейцерова соната»). Обобщающая сила музыки делает эти сатирические портреты еще более меткими и злыми, выделяя не конкретные приметы времени создания стихов [1], а то, что делает их интересными и пятьдесят лет спустя. Лишь «Пробуждение весны» является не сатирой, а всего лишь озорной шуткой.
Шостакович, в предыдущих своих опусах пользовавшийся очень тонкими приемами, иногда требовавшими очень активного вслушивания, здесь применяет приемы нарочито лапидарные, «лобовые». К ним относится, например, использование музыкальных цитат из известных произведений, цитат, вводимых в музыку по принципу «контрастной аналогии». Так, патетическая фортепианная тема из романса Рахманинова «Весенние воды» служит началом для нарочито прозаического повествования о городской весне с ее грязью, слякотью и кошачьими концертами на крышах:

[1] Таких «примет» в стихах Саши Черного очень много – в них фигурирует старьевщик-«князь», «думские речи министра» и т. п.
«стр. 275 »

А в дальнейшем рахманиновская тема сменяется темой «Чижика» и «Ах вы, сени, мои сени» [1]:

[1] Не связана ли эта тема, сопутствующая словам о дворниках, скалывающих грязный лед, с темой конюхов в «Петрушке» Стравинского?
«стр. 276»
Тема бетховенской «Крейцеровой сонаты», которую Лев Толстой воспринимал как символ непреодолимой страсти, вводит в рассказ о скучающем интеллигенте-«народнике» и его романе с Феклой. А сам рассказ идет на фоне фальшивой, шарманочной мелодии.
Можно долго спорить о допустимости такого цитирования классических произведений, о возможности столкновения образов высоких и благородных с нарочито банальными, пародийными. Но нам кажется, что такое столкновение, помимо прямого комического эффекта, служит еще средством раскрытия фальшивой природы интеллигентных мещан, на словах преисполненных высоких идеалов, а по существу – совершеннейших обывателей.
Иногда вместо цитирования композитор гиперболизирует особенности каких-либо типичных музыкальных образов. Так, в мелодии и в акцентированной ритмике песни «Потомки» есть нечто напоминающее «Куплеты Мефистофеля» Гуно:

А в «Недоразумении» чтение модной поэтессой ее преглупых эротических стихов явно пародирует романтические «интонации томления»:
«стр. 277 »

Такая мелодия – это уже «интонационный портрет», и слушатель ясно «видит» перед собой нелепо-манерную героиню песни. Столь же выразительны интонации в «Крейцеровой сонате»; кажется, лучше и нельзя передать настроение беспросветной обывательской скуки:

Линия «Сатир» получила продолжение в цикле на слова из журнала «Крокодил» (опубликованном в «Советской музыке», 1966, № 1). Тексты эти были напечатаны в отделе курьезов, автор которых – сама жизнь (отдел носит название «Нарочно не придумаешь»). Ту-
«стр. 278 »
поумные заявления, письма в редакцию, неуклюжие опыты «художественной прозы» – все это стало материалом для создания сатирических «интонационных портретов», разоблачающих тупость, хамство, пошлость… Основное средство характеристики здесь – вокально-речевая интонация (подчас поражающая своей «фотографической» точностью). Но как и в «Сатирах», немаловажное значение имеет и выбор жанра, и применение музыкальных цитат. Портрет бездельника, ищущего богатую невесту («Трудно исполнимое желание»), трактован в ритме вальса, а унылый рассказ о полученных побоях звучит на фоне «Dies irae».
И снова мы вспоминаем Мусоргского, на этот раз его музыкальную сатиру «Раек». Так же, как и в «Раек» Мусоргского, сатиры Шостаковича обладают силой обобщения и нацелены глубже и дальше примитивно-злободневного текста.
Книга эта уже находилась в корректуре, когда был впервые исполнен цикл Шостаковича «Семь романсов на слова Александра Блока» [1]. Поэтому приходится ограничиться, буквально, несколькими словами об этом значительном явлении в современном камерно-вокальном творчестве.
Так же как в свое время «Сатиры», он оказался неожиданностью, шагом в совершенно новом направлении. От характеристических, а иногда публицистических песен-сценок – к лирике, на этот раз особенно чистой и высокой. Неожиданным было самое обращение к поэзии Блока. Очень разные стихи поэта, не складывающиеся в сюжетное единство, но внутренне объединенные личностью «лирического героя», еще более сближены музыкой: единством интонационного строя, «прорастанием» мелодий из сходных, очень простых, по каждый раз по-новому осмысленных, тематических «зерен».
Хотя в цикле есть и драматические страницы, хотя в стихотворении «Гамаюн – птица вещая» слышна тяжкая поступь беды народной, а в «Буре» – бушевание стихий, все же, думается, что основа цикла – лирика. Лирика такой чистоты и проникновенности, какой композитор
[1] «Семь романсов на слова Александра Блока» (ор. 127). Для сопрано, скрипки, виолончели и рояля. «Песня Офелии», «Гамаюн – птица вещая», «Мы были вместе», «Город спит», «Буря», «Тайные знаки», «Музыка».
«стр. 279»
достигал ранее только в инструментальных «темах-монологах» симфоний и квартетов. Но теперь они «обрели речь», слились с поэтическим словом.
И манера интонирования – очень простая, без аффектации – и преобладающий тип изложения – прозрачный «дуэт» голоса с инструментом – определены уже в начале цикла, в «Песне Офелии»:

Это «русская Офелия», такая же как в музыке Шостаковича к фильму «Гамлет». Да и весь цикл очень и очень русский. Как поэзия Блока, как музыка Шостаковича в ее глубинной эстетической сущности…
Путь Шостаковича как вокального композитора неуклонно идет вверх, горизонт его расширяется.
И уже сейчас ясно видно, что многое, впервые найденное Шостаковичем (и иногда казавшееся слишком непривычным), прорастает и развивается в творчестве других композиторов. И лаконизм выразительных средств, и интонационно-характеристические искания, и выход камерной вокальной музыки за пределы жанра сольного романса, включение в камерные циклы ансамблей– все это нашло продолжение в вокальном творчестве Свиридова, и ряда композиторов молодого поколения: А. Петрова, В. Чистякова и других. Роль Шостаковича в развитии советской вокальной музыки постепенно становится столь же значительной, как роль его в развитии советского симфонизма.
«стр. 280»
Г. СВИРИДОВ
Видное и очень своеобразное место в советской музыке Георгий Васильевич Свиридов занял в 50-х годах, когда одно за другим стали появляться его вокальные сочинения: циклы на слова А. Исаакяна, Роберта Бернса, Есенина, оратории «Памяти Есенина» и «Патетическая». В них он проявил себя как крупный мастер именно вокальной музыки, как композитор с ясным и четким взглядом на пути и задачи ее развития. Начало 50-х годов воспринимается как перелом в творчестве Свиридова, поскольку до этого времени он был известен главным образом как автор инструментальных произведений. Но перелом этот был подготовлен длительной и интенсивной работой в области вокальной музыки. Она лишь частично попадала в сферу внимания исполнителей и критиков, поскольку лишь немногие сочинения 30-х и 40-х годов были изданы. Так, например, из лермонтовского цикла был опубликован и получил известность только романс «Соседка», остальные же шесть оставались в рукописи до 1960 года.
Поэтому выступление Свиридова в 50-х годах с очень яркими и зрелыми вокальными произведениями было многими воспринято как неожиданность, и даже внимательный исследователь творчества композитора Л. Полякова писала: «Новое, свое пришло как внезапное откровение, когда в 1949 году Свиридов заинтересовался поэзией замечательного армянского поэта Аветика Исаакяна и страстно увлекся ею» [1].
[1] Л. Полякова . Некоторые вопросы творческого стиля Свиридова. Сборник «Музыка и современность», Музгиз, М, 1962, стр. 185.
«стр. 281»
Однако вряд ли можно утверждать это столь категорично. Ведь и в ранних, очень скромных опытах пробивалось свое собственное, творческое и свежее отношение к поставленным задачам.
А задачи эти были, на первый взгляд, весьма общими и типовыми. Кто из композиторов не обращался в 30-х годах к элегической лирике Пушкина, к его песенным стихотворениям?
В предыдущих очерках уже не раз говорилось о положительном значении обращения советских композиторов к заветам Пушкина и Глинки, что было особенно важно для представителей старшего поколения. Но наряду с ярким, подлинно творческим обращением к классическим традициям создавалось и великое множество перепевов давным-давно известного или даже забытого.
Пушкинские романсы Свиридова [1] не принадлежат ни к вершинам советской вокальной лирики, ни к перепевам. Они заняли скромное, но очень «свое», самостоятельное место. Не выделяясь ни особо тонкой музыкальной декламацией, ни какими-либо гармоническими или фактурными находками, они все же привлекают к себе внимание свежестью и образностью интонаций.
Здесь уже чувствуется будущий мастер интонационной характеристики, который в зрелых своих произведениях с одинаковой уверенностью станет черпать средства выразительности и из музыкально-речевого и из песенного источника.
В 30– х годах все это было еще впереди. Но и в пушкинских романсах интонация уже определяет собой весь образ, становится основным средством характеристики. Интонация эта в большинстве романсов песенна , связана и с народной песней, и с городской бытовой песенно-романсной лирикой. Обращение к этому источнику определило наибольшие удачи композитора в этом цикле в таких романсах, как «Зимняя дорога», «Зимний вечер», «Подъезжая под Ижоры». В первом из названных композитор не побоялся очень-очень бы-