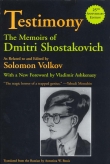Текст книги "Мастера советского романса"
Автор книги: В. Васина-Гроссман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
[1] Сам по себе «Гадкий утенок» не очень приспособлен для восприятия детьми. Но мы имеем в виду прежде всего те его качества, которые «прорастают» в сочинениях позднего периода.
«стр. 75»
очень многое зависит от ритма: вспомним, например, Фроську в «Семене Котко» или старого Болконского в «Войне и мире».
Эти примеры – вершина прокофьевской музыкальной характеристичности, первый же шаг в этом направлении был сделан уже в раннем «Гадком утенке», произведении, которое можно было бы назвать «оперой в миниатюре».
Повествовательный текст сказки, включающий лишь несколько фраз прямой речи, давал мало возможностей для создания музыкально-речевых характеристик. Но и эти немногие возможности использованы композитором, и ритм имеет здесь немаловажное значение. Стоит, например, сравнить восторженные восклицания птенцов «Как велик светлый мир!», размеренную речь рассказчика и тревожный вопрос соседки-утки «Уж не индюшонок ли?», чтобы отчетливо представить себе всех «действующих лиц»:

«стр. 76»

Но Прокофьев чуток не только к ритму персонифицированной речи, но и к ритму повествования, сказа. Прозу Андерсена композитор читает как ритмическую прозу, последовательно (хотя, разумеется, не без исключений) проводя структурный принцип суммирования, точнее – чередования двух кратких, равных между собой построений и одного более протяженного. Приведем несколько примеров:
«стр. 77»
Солнце весело сияло, (4 такта)
рожь золотилась, (4 такта)
душистое сено лежало в стогах. (5 тактов)
В зеленом уголке (2 такта)
среди лопухов (2 такта)
утка сидела на яйцах. (3 такта)
Или далее:
Над ним все смеялись, (3 такта)
гнали его отовсюду, (3 такта)
желали, чтобы кошка съела скорее его. (5 тактов)
Можно привести пример и более сложного построения, а именно дробления в третьей четверти:
Однажды солнышко пригрело землю (4 такта)
своими теплыми лучами, (4 такта)
жаворонки запели. (2 такта)
кусты зацвели: (2 такта)
пришла весна. (6 тактов)
Таким образом, выбор прозаического текста отнюдь не означал разрушения музыкально-структурных закономерностей. Но задача «омузыкаливания» такого текста была труднее, чем при обращении к стихам. Там – ритмическое членение, а часто и общая композиция подсказываются текстом, здесь же надо было найти это членение, услышать ритмическую пульсацию в свободном течении повествовательной речи.
Не отказывается Прокофьев и от упорядоченности в сопоставлении более крупных частей музыкальной формы. При первом прослушивании музыкальная сказка Прокофьева производит впечатление «сквозной композиции», последовательно передающей образы текста. И действительно, этот принцип главенствует, но он гибко сочетается с принципом музыкальной повторности и даже симметрии, скрепляющими всю довольно большую композицию.
Композиция вокальной сказки Прокофьева симметрична, хотя реализация принципа симметрии осуществляется здесь своеобразными средствами, непохожими на обычно применяемые в камерной вокальной музыке.
Первая фраза («Как хорошо было в деревне!») выполняет функцию вступления. Экспозиция основных образов начинается с Allegretto, рассказа о появлении на свет гадкого утенка и о его раннем детстве. Здесь
«стр. 78»
преобладает повествовательная интонация; фоном же к рассказу служат выразительные инструментальные темы. Из них особенно важна первая, которую можно назвать «темой лета»:

В первом же разделе появляются и жалобные хроматические интонации, типичные для музыкально-речевой характеристики гадкого утенка, но еще не оформившиеся в его тему .
Раздел Animato («Плохо пришлось только бедному некрасивому утенку») начинает собой среднюю часть сказки, многотемную, многоэпизодную. Это рассказ о злоключениях утенка. Повествовательная интонация насыщается характеристичностью, многочисленные персонажи, о которых идет речь (индейский петух, птички, дикие утки, охотники), обрисованы и инструментальными мотивами и музыкально-речевой интонацией. Пожалуй, ярче всего в этом отношении «диалогическая сцена» диких уток и утенка, где противопоставлены резкие, крикливые восклицания уток и молчаливые, неуклюжие «поклоны» утенка:
«стр. 79»

Здесь же, в средней части, кристаллизуются две темы, имеющие, как и цитированная выше «тема лета», лейтмотивное значение. Первая из них – вокальная интонация с характерным полутоновым соскальзыванием, впервые появляющаяся на словах «Это оттого, что я такой гадкий»:
«стр. 80»

Вторая – инструментальная острая и жесткая тема с уменьшенной октавой, которую можно назвать «темой злоключений утенка»:

Из эпизодических, неповторяющихся тем наиболее выразительна тема наступления зимы с ее хрупкими, «ломкими» уменьшенными гармониями:

Многотемность средней части могла бы превратиться в мозаичность, рыхлость, если бы не скрепляющие повторения вокального лейтмотива утенка, а затем – инструментальной темы, сопутствующей повествовательным (недраматизированньгм) моментам (ср. фортепианную партию на словах «так начались его странствования» и «было бы слишком грустно рассказывать»).
Третья часть сказки начинается репризой «темы лета», проходящей в той же тональности, что и в начале [1].
[1] Этим подчеркивается ее значение как общей репризы. «Частные» репризы тем Прокофьев предпочитает проводить в других, большей частью далеких тональностях (отстоящих, например, на малую секунду или на тритон от тональности первоначального проведения темы).
«стр. 81»
Но здесь возникают и новые темы, например, тема радости утенка, где типичные для его характеристики хроматизмы звучат совсем по-иному благодаря почти плясовому ритму. Венчает всю композицию широкая и напевная тема, появившаяся как тема трех лебедей, а затем ставшая темой утенка, превратившегося в прекрасную царственную птицу:

«стр. 82»

Между двумя ее проведениями – «предварительным» и «апофеозным» – проходят как воспоминание о былых несчастиях две темы-лейтмотива, вокальный и инструментальный. И в последний раз характерная хроматическая интонация (см. пример 18) появляется на заключительных словах сказки: «Мог ли он мечтать о таком счастье, когда был гадким утенком?»
Таким образом, общая композиция сказки очень ясна и логична. Но отмеченная нами симметричная трехчастность не похожа на трехчастность романса или инструментальной пьесы. Прежде всего она, как уже говорилось, усложнена вторжением новых, эпизодических тем, затем тематические повторы лишь в редких случаях совпадают с тональными. И наконец, сами повторяющиеся элементы не являются законченными, замкнутыми построениями. В большинстве случаев это краткие, лаконичные темы-характеристики, близкие по типу к оперным лейтмотивам или лейтинтонациям. Это. а главное – сосредоточенность внимания композитора на проблеме характеристической музыкально-речевой интонации позволяют считать вокальную сказку Прокофьева своего рода «оперой в миниатюре», концентрированным выражением его музыкально-драматических принципов.
Это раннее произведение Прокофьева отличается от других его вокальных опусов того же периода особой законченностью, последовательностью проведения определенных эстетико-стилистических принципов. Очень самобытное, оно в то же время совершенно явно связано с традицией Мусоргского, продолжая линию его «Детской». Связь эта не только в стилистике (вспомним, например, сценку «Кот Матрос»), в обращении к
«стр. 83»
прозе, интересе к музыкально-речевой интонации, но и в самом отношении к миру детства, о чем уже говорилось выше.
Другие вокальные произведения раннего периода не столь значительны, как «Гадкий утенок», хотя круг образов в них шире. Наибольшей цельностью отмечен цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой» (op. 27), что же касается «Пяти стихотворений» op. 23, то здесь наиболее ярко проявилось разнообразие исканий молодого композитора, лишь в одном случае приведших к яркому художественному результату («Кудесник»).
В самом деле, трудно представить себе более различные художественные произведения, чем романс «Под крышей» (на слова В. Горянского) и «Серое платьице» (на слова З. Гиппиус). Характерен самый выбор текстов. В первом стихотворении слышны гуманистические ноты, слышно сочувствие к «маленькому человеку», к детям, задыхающимся в каменном лабиринте большого города. Во втором – тоже возникает образ ребенка, но злого, жестокого, с пустыми глазами. Это страшный и уродливый символ, смысл которого раскрывается в последних строчках стихотворения:
Девочка в сереньком платьице,
девочка с глазами пустыми,
скажи мне, как твое имя?
«А по своему зовет меня всяк,
хочешь этак, а хочешь так.
Один зовет разделеньем,
А то – враждою.
Зовут и сомнением
или тоскою.
Иной зовет скукою,
иной мукою…
А мама Смерть -
Разлукою…
Основные художественные устремления молодого Прокофьева были, в сущности, далеки и от наивного либерализма длинного и довольно неуклюжего стихотворения Горянского и от страшной опустошенности стихотворения Гиппиус. Выбор этих стихотворений можно объяснить только тем, что композитор еще не вполне «нашел себя». Ни то, ни другое стихотворение не получило яркого художественного выражения, хотя интересные штрихи есть в обоих.
«стр. 84»
В романсе «Под крышей» Прокофьев шел по тому же пути, что и в «Утенке», отражая в музыке «каждое движение души и чувства, вытекавшие из текста» [1], как писал сам композитор. Можно заметить даже и близость некоторых образов: так, интонация, появляющаяся на словах «и что дети мои такие уроды», напоминает лейтинтонации гадкого утенка, а певучая тема «нет, мне знакома улыбка природы» близка «лебединой» теме. Но в романсе «Под крышей» нет и не могло быть пленительной непосредственности «Утенка», нет в нем и обличительного пафоса, который мог бы оправдать выбор текста. Все же это произведение заслуживает быть отмеченным как одно из ранних проявлений психологизма у Прокофьева.
Романс «Серое платьице» сам композитор ценил довольно высоко, считая его даже «передовее» «Гадкого утенка». Действительно, в нем много изобретательности, очень тонкой отделки всех декламационных и фактурных деталей, выразительно передающих содержание стихотворения-диалога, в котором противопоставлены ласковые обращения к девочке Разлуке и ее ответы – таинственные и страшные. Музыкальная речь здесь чрезвычайно детализирована, каждый образ предельно лаконичен, иногда сведен к одной «лейтгармонии» или остинатно повторяемой фигуре сопровождения (например, в эпизоде рассказа о страшных играх девочки Разлуки).
Но не случайно самым жизненным произведением из опуса 23 оказался «Кудесник». Самое стихотворение (Н. Агнивцева) нисколько не выше по своим поэтическим качествам, чем, например, «Под крышей», к тому же в нем нет даже и попытки затронуть сколько-нибудь значительную тему. Это всего лишь забавный анекдот о волшебнике, создавшем женщину, лишенную недостатков, но именно поэтому столь скучную, что ее творцу и супругу осталось только повеситься.
Интерпретируя это стихотворение, Прокофьев создал своего рода «комическую балладу», идя несколько иным путем, чем в рассмотренных выше произведениях. Это уже не путь детализации, а путь обобщения, при-
[1] «С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания», стр. 37.
«стр. 85»
чем иногда при помощи приемов, ставших уже традиционными. Так, например, повторяющиеся неоднократно слова «Так поется в старой песне» интерпретированы в традиционном былинно-эпическом складе. Традиционен и общий «балладный тон» вокальной партии. Но композитор использует эти приемы иронически, пародийно гиперболизируя их. Преувеличена таинственность рассказа о колдовстве, преувеличен драматизм вокальных интонаций, особенно в финале баллады:

«стр. 86»
От «Кудесника» прямая дорога ведет к иронии и веселой фантастике оперы «Любовь к трем апельсинам».
Все произведения, рассмотренные выше, свидетельствуют о том, что поиски новых средств выразительности в камерной вокальной музыке Прокофьева неуклонно вели его к выходу за пределы традиционного понимания жанра. Наиболее индивидуальные произведения («Гадкий утенок», «Кудесник», «Под крышей», «Серое платьице») трудно даже назвать романсами; во всяком случае это понятие каждый раз требует какого-то уточнения: романс-повествование, романс-монолог, романс-диалог. Те же произведения молодого Прокофьева, которые легче укладываются в традиционные рамки жанра, малопримечательны.
Новаторство в четких границах жанра – черта, отмечающая собой цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой», новую ступень в развитии Прокофьева как вокального композитора. Цикл этот был написан в течение четырех дней (31 октября – 4 ноября 1916 г.), что свидетельствует не только об увлеченности композитора, но и о ясности замысла и уже о полном владении «тайнами» вокального письма. Напомним, что цикл написан уже после «Игрока».
Вспоминая впоследствии работу над ахматовскими романсами, Прокофьев находил в них, как и в фортепианных «Мимолетностях», «некоторое смягчение нравов» [1]. Однако оно проявилось не в отказе от новаторства, а в подчинении изобретения ярких деталей общему ясному и четкому замыслу.
Цикл ор. 27 поражает своей цельностью, продуманностью, зрелостью, сказавшейся во всем, начиная от выбора поэтического материала, что особенно заметно, если сравнить его с опусом 23, очень пестрым в этом отношении. Из лирики Ахматовой отобраны действительно превосходные, очень поэтичные и тонкие лирические миниатюры.
Конечно, и в них, как и во многих других стихах талантливой поэтессы (особенно ранних), есть некоторая
[1] «С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания», стр. 38.
«стр. 87»
ущербность (совсем, однако, иного плана, чем в «Сером платьице» З. Гиппиус!), но в человечности, в настойчивом стремлении передать поэзию простых и глубоких чувств Ахматовой никак нельзя отказать.
Поэтому тяготение композитора к психологизму, отмечавшееся нами в связи с романсом «Под крышей», могло теперь реализоваться гораздо ярче и полнее, чем при обращении к «прекраснодушным» стихам В. Горянского.
Но, видимо, стихи Ахматовой привлекли Прокофьева и незаурядным поэтическим мастерством, сказавшимся не в узко-версификаторской технике (по сравнению, например, с Бальмонтом и даже Северянином, «инструментовка» стихов Ахматовой может даже показаться бедной), а в точности и тонкости выражения мысли и чувства.
Цикл Прокофьева на слова Ахматовой – это именно цикл, а не сборник романсов на слова одного поэта. «Пять стихотворений» складываются в сюжетное и музыкальное целое. Правда, о «сюжете» здесь можно говорить лишь условно, ибо если в первых четырех романсах последовательно рассказывается история любви, сначала счастливой, а затем приводящей к трагической развязке [1], то последний романс («Сероглазый король») – это как бы новая вариация на ту же тему, второй эпилог цикла, трактованный в более примиренных тонах, что ощутимо и в стихах и – особенно – в музыке.
В ахматовском цикле композитор применяет тот же метод, что и в рассмотренных выше произведениях: он использует лаконичные музыкальные темы-образы, вокально-интонационные и инструментальные. Но если в таких вещах, как «Гадкий утенок», этот метод приходил в некоторое противоречие с масштабами произведения, создавал многотемность и некоторую мозаичность, то в каждом из миниатюрных «Пяти стихотворений» сопоставлены всего два – три музыкальных образа и потому такой метод, наоборот, способствует ясности и «направленности» формы.
[1] Своего рода «Любовь и жизнь женщины», но совсем освобожденная от бытовых деталей, в отличие от аналогичного цикла Шумана – Шамиссо.
«стр. 88»
Стремление к ясности ощутимо во всех элементах музыкальной речи: в мелодике, очень гибкой, пластической, сочетающей декламационную выразительность и певучесть, в предпочтении диатонических гармоний, в фортепианной фактуре, очень прозрачной и, как правило, единой на довольно большом протяжении. Смена фактуры, как и смена характера музыкально-речевых интонаций, отмечает в ахматовских романсах крупные грани формы, в то время как для предшествующих произведений была характерна частая смена интонационного строя, тональности, фактуры.
Как уже говорилось выше, развитие цикла ведет к трагической развязке, которая назревает постепенно, от романса к романсу. Только первый романс – «Солнце комнату наполнило» – светел и безмятежен до конца. Его широкая, плавная мелодия, парящая на фоне хрустально-звенящей фортепианной партии, может служить типическим примером прокофьевской лирики, характеризуя которую, все исследователи нередко отмечают отсутствие излюбленных приемов романтической лирики. Так, например, И. В. Нестьев пишет о лирических темах Прокофьева следующее:
«Прокофьев редко пользуется интонациями романтической лирики с ее излюбленными «опеваниями», стонущими секундами, задержаниями и подчеркнутыми секвентными повторениями. Более заметную роль приобретают терцовые, секстовые интонации, а то и квартово-квинтовые либо пентатонические попевки…» [1]. Приводимый ниже пример относится к мелодиям именно такого типа:

«стр. 89»

Конечно, это несходство с романтической лирикой объясняется не просто «духом противоречия», а иным – в самом своем существе – тоном лирического высказывания, который Асафьев очень метко сравнивал с «источником чистой ключевой воды, холодной и кристальной, вне чувственности и всякого рода накипи «измов…» [1].
Во второй романс («Настоящую нежность…») уже прокрадывается предчувствие развязки. Нежная задумчивая мелодия резко и неожиданно сменяется возгласом, полным боли и отчаяния, в котором появляются те самые «стонущие секунды», которых обычно избегает Прокофьев.
Едва ли не лучший романс из опуса 27 – «Память о солнце». Родство поэтических образов третьего и пер-
[1] Б. В. Асафьев. Прокофьев (из неизданной книги «Портреты советских композиторов»). Цит. по книге: И. Нестьев . Прокофьев, стр. 493.
«стр. 90»
вого романсов определило и родство некоторых музыкальных деталей, в особенности заметное в партии фортепиано: двухголосие, репетиции и т. д. Вообще детализация выразительных приемов доведена здесь до предела: так, например, поэтический пейзаж:
Ветер снежинками ранними веет
Едва, едва -
выражен в лаконичнейшей музыкальной фигурке шестнадцатых, легкой, как дуновение:

В основе композиции этого романса лежит контраст первой части и середины. Середина эта очень лаконична, всего восемь тактов; в ней нет никакой вспышки чувств, как это было в заключении второго романса, никакой мелодической кульминации. Наоборот, мелодия здесь никнет и превращается в произносимые вполголоса, как бы «про себя», декламационные фразы, фортепианная партия уходит в низкий регистр. И все же эти восемь тактов воспринимаются как психологическая кульминация романса, раскрывающая подтекст его в словах, полных скорби и раскаяния:
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.
Два интонационных элемента особенно важны в средней части: интонация нисходящей секунды (в вокальной партии) и интонация нисходящей большой терции (партия фортепиано перед репризой). Эти элементы «прокрадываются» и в репризу, меняясь местами: речевая интонация нисходящей секунды звучит теперь в партии фортепиано, а терцовый мотив становится интонацией возгласа:
«стр. 91»

Романс «Память о солнце» воплощает лучшие и типичнейшие черты всего цикла – очень тонкий психологизм, значительность, весомость каждой детали и то, что можно назвать скрытым драматизмом, угадывающимся в простых словах и совсем не патетических интонациях.
Четвертый романс («Здравствуй!») тесно связан с предыдущим. Он начинается с той же (хотя и усложненной) гармонии ля минора, которой заканчивался
«стр. 92»
романс «Память о солнце», взлетающая вверх фигура тридцатьвторых тоже является модификацией упоминавшегося «мотива снежинок». Здесь она мотивирована словами «легкий шелест слышишь?». А терцовая интонация возгласа – «что это?» – стала (теперь в виде малой терции) основой для тревожной, таинственной коды [1]:

Эти интонационные связи между романсами убедительно свидетельствуют о единстве музыкального замысла всего цикла.
Последний романс «Сероглазый король» стоит несколько особняком. Он не связан сюжетно с первыми четырьмя романсами, хотя посвящен той же теме любви и смерти. И в нем тоже обнаруживается стремление
[1] Отметим, что сходные интонации возникают и в романсе «Сероглазый король» на словах «Жаль королеву!» и «А за окном шелестят тополя».
«стр. 93»
к скрытому драматизму, полностью соответствующему тону стихотворения Ахматовой.
«Безысходная боль» повествования о смерти возлюбленного скрыта глубоко, о гибели сероглазого короля рассказано спокойными словами постороннего человека, а значение этой гибели для «лирической героини» раскрыто не столько в тексте, сколько в подтексте стихов:
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля!»
Не будь этой детали – «серые глазки» – не был бы ощутим и подтекст. И не случайно именно эти слова Прокофьев выбирает для звуковысотной и эмоциональной кульминации романса. Эта кульминация (звучащая pianissimo) да траурные гармонии вступления и заключения, в которых как будто слышны отголоски православной панихиды (фригийские обороты, характерные для церковного пения),– вот и все скупые средства, которые использованы композитором в этом эпилоге, принадлежащем к лучшим страницам цикла.
После романсов опус 27, относящихся к наиболее ярким выражениям лирического начала в творчестве Прокофьева, композитор надолго расстается с камерной вокальной музыкой. В годы пребывания его за границей написаны лишь пять романсов на стихи К. Бальмонта (опус 36), пять мелодий (без слов) для голоса с фортепиано и две обработки русских народных песен, впоследствии вошедшие в сборник 1944 года. Отчасти эта малочисленность объясняется тем, что вокальная музыка Прокофьева, очень тесно и конкретно связанная с интонациями русской речи, значительно проигрывает при переводе текста на другой язык, даже если этот перевод сделан при ближайшем участии самого композитора. Этим, видимо, объясняется и появление пяти мелодий без слов, которые советский исследователь справедливо считает продолжением линии ахматовских романсов [1].
Романсы на слова Бальмонта явились данью недолгой близости композитора и поэта во время пребы-
[1] И. Нестьев . Прокофьев, стр. 195.
«стр. 94»
вания их во французской Бретани (летом 1921 года). Прокофьев работал тогда над третьим фортепианным концертом, вызвавшим восторженный поэтический отклик Бальмонта [1].
Весь этот опус вызывает в памяти ранние (еще до «Утенка») вокальные произведения Прокофьева: та же изысканность и утонченность, хотя, разумеется, здесь ощутимы гораздо большие зрелость и мастерство. Из пяти романсов наиболее интересны «Бабочка» и «Столбы». Стихотворение «Бабочка» было, по свидетельству композитора, написано Бальмонтом именно в данный период; оно очень точно передает внутреннюю сломленность и опустошенность поэта, оторвавшего себя от родины. Знакомый с детства образ пестрой бабочки неожиданно рождает в его душе острую боль:
О, как тягостны ночи людские и черные!
О, как больно душе, рассеченной мечом!
Прокофьева, видимо, привлек именно этот контраст безмятежности и отчаяния (как во втором из романсов ахматовского цикла). Но не чужд ему был и психологический подтекст стихотворения: чувство одиночества на чужбине.
Последний из романсов опуса 36 – «Столбы» – одна из мрачнейших страниц творчества Прокофьева. Мистический образ черных столбов, отмечающих последнюю грань бытия, нашел очень яркое, экспрессивное выражение в музыке, в особенности в трагическом заключении романса:

[1] Приводится в книге: И. Hестьeв . Прокофьев, стр. 207.
«стр. 95»

Трудно поверить, что эти романсы созданы почти одновременно с третьим концертом. Если концерт выразил собой главное, ведущее в творчестве Прокофьева, связав собой ранние блистательные творческие опыты композитора с его зрелыми достижениями, то романсы на слова Бальмонта, наоборот, стали выражением временного, преходящего этапа его творческой биографии.
Совсем иное значение имели его первые опыты обработки народных песен, изданные в Париже в 1931 году, то есть уже почти на рубеже заграничного и советского периодов его творчества. В них Прокофьев обращается к очень старой традиции русской вокальной музыки, соединив две народные песни – протяжную и скорую – в двухчастный цикл для концертного исполнения [1]. Этим циклом Прокофьев еще раз заявил о себе как о русском композиторе и положил начало не только серии произведений, непосредственно связанных с русской народной песней, но и ряду свободных преломлений народно-песенных образов, что весьма характерно, например, для музыки к «Александру Невскому» и «Ивану Грозному».
Никак нельзя согласиться с И. Нестьевым, утверждающим, что «парижские» обработки, сделанные «между делом», оказались «наименее удачными в сборнике» 1944 года [2]. В этой оценке сказалось господствовавшее
[1] Широко известен, например, цикл А. Варламова: «Ах ты время, времечко» и «Что мне жить и тужить».
[2] И. Нестьев. Прокофьев, стр. 379.
«стр. 96»
одно время (да и сейчас не изжитое) стремление наших музыковедов слишком уж противопоставлять заграничный период Прокофьева советскому.
На самом же деле уже в этих обработках отчетливо проявился характерный для Прокофьева подход к народной песне, без нарочитой архаизации, без стилизации народного языка, но при свободном и творческом использовании его элементов. Именно поэтому он и счел возможным включить «парижские» обработки в сборник опус 104, где этот метод выражен очень ярко и концентрированно. При этом он почти не изменил песни, лишь транспонировав в другую тональность и слегка отретушировав некоторые детали сопровождения. Ниже этот сборник будет рассмотрен в целом, здесь же мы отмечаем начало работы над песней как очень важный шаг на пути к новому интонационному строю, поиски которого определяют собой все творчество композитора 30-х годов, то есть начало советского периода.
*
Проблема нового интонационного строя и трудность ее решения ясно осознавалась самим композитором. Так, уже в своем балете «Стальной скок» Прокофьев отмечал «поворот к русскому музыкальному языку, на этот раз не языку сказок Афанасьева, а такому, который мог бы передать современность» [1]. Правда, по отношению к данному балету это осталось лишь намерением композитора, но намерением, сформулированным предельно ясно и точно.
Поиски современного русского языка естественным образом вновь привели Прокофьева к вокальным жанрам и, в частности, к жанрам песенным .
Интерес к песне – чаще всего массовой – был весьма характерен в 30-х годах для советских композиторов самых разных поколений и индивидуальностей. Во времена РАПМ’а массовая песня считалась ее деятелями своего рода панацеей от всех болезней и тем зерном, из которого должна вырасти чуть ли не вся советская музыка всех жанров. Но, разумеется, не влия-
[1] «С. С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания», стр. 57.
«стр. 97»
ниями РАПМ’а можно объяснить обращение к массовой песне таких композиторов, как Мясковский и Прокофьев, а тем, что в советской массовой песне, в лучших ее образцах действительно откристаллизовывались многие важные элементы «интонационного словаря» советской эпохи. А овладеть этим словарем, развить наиболее жизненные его элементы в индивидуальном творчестве и тем самым сделать его «общительным», доступным – было задачей первостепенной важности.
Для Прокофьева решение этой задачи было совсем не легким. Его музыкальное мышление не было простым, и он вовсе не хотел идти на чрезмерное «облегчение» своей музыки. Об этом он очень четко писал и в своей «Автобиографии» и в некоторых статьях. Так например, мысли, высказанные им в статье, напечатанной в «Известиях» (16 ноября 1934 года) и затем процитированной в «Автобиографии», можно считать своего рода программой творчества:
«Музыку прежде всего надо сочинять большую , то есть такую, где и замысел и техническое выполнение соответствовали бы размаху эпохи… Не так просто найти нужный язык для этой музыки. Она должна быть прежде всего мелодийной, притом мелодия – простой и понятной, не сбиваясь ни на перепевку, ни на тривиальный оборот… То же самое и о технике письма, о манере изложения: оно должно быть ясным и простым, но не трафаретным. Простота должна быть не старой простотой, а новой простотой» [1].
Обращение Прокофьева к песенному жанру соответствует этой программе. Отметим, кроме того, что его песни написаны для массового слушания , а не для массового исполнения. Такова и песенно-хоровая сюита «Песни наших дней», и песни опус 66, и детские песни опус 68. Далеко не во всех этих опытах найдена «новая простота», но и немногие удачи здесь весьма примечательны, а в каком то смысле примечательны и неудачи. Для нашей темы, естественно, особое значение имеют произведения сольные, приближающиеся к камерному жанру, на которых мы и остановимся.
[1] « С. С. Прокофьев . Материалы, документы, воспоминания», стр. 73-74.
«стр. 98»
К таковым относятся некоторые эпизоды из сюиты «Песни наших дней», написанные для солиста с хором и чаще всего звучавшие именно в сольном исполнении: «Брат за брата», «Через мостик, через речку», «Колыбельная». В них, пожалуй, яснее, чем в других эпизодах цикла, реализуется замысел цикла, сформулированный в его заглавии: намерение создать песни наших дней, о наших людях, их жизни и делах. Этот замысел воплощен в цикле в разных аспектах – героическом, лирическом, жанровом. Названные три песни и являются наиболее «чистыми» образцами каждого из них.
В песне «Брат за брата» (на слова В. Лебедева-Кумача) Прокофьев одним из первых советских композиторов обращается к жанру баллады, ставшему столь популярным позднее, в годы войны. Взволнованный, романтически-приподнятый «Balladen-Ton» оказался вполне уместным для рассказа о подвиге советского пограничника и о решении его младшего брата сменить погибшего на посту. Очень выразительна основная тема баллады. Она насыщена хроматизмами, что связано не только с общим настроением скорби и тревоги, но и с тем, что мелодия эта основана на речевых интонациях. Однако эти речевые истоки мелодии не сразу улавливаются слухом, так как ритм музыкально-поэтической речи, обычно очень свободный в мелодиях декламационного склада, здесь четко скандирован, причем трехдольность амфибрахия (классического размера русских баллад!) подчинена здесь двухдольности маршевого ритма, чем создается большая ритмическая острота: