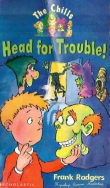Текст книги "Индеец с тротуара (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Соавторы: Мириам Мортон,Кристин Хантер,Мелвин Ричард Эллис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
А чего я не мог делать, так это уроков. Большей бессмыслицы, чем уроки, я не знаю. Раньше, если мне до чертиков надоедал какой-нибудь предмет, мне всегда удавалось пустой болтовней пустить пыль в глаза учителю; но теперь мне осточертела сама математика, а уж в математике на пустой болтовне далеко не уедешь. Я перестал выполнять задания и завалил контрольные работы. Курс высшей математики в школе короткий, и учитель, раскусив меня, попытался наставить на путь истинный; я в ответ кивал головой и бормотал невнятное. Что тут учителю оставалось делать?
С другими предметами было проще: поскольку все привыкли к тому, что я учусь хорошо, а на уроках я прилежно присутствовал, никто из преподавателей ничего не заподозрил: считали, что я все такой же, хотя я уже далеко не был прежним хорошим учеником. Я почти не прогуливал. Вообще-то я был бы не прочь, потому что школа действовала мне на нервы, и не столько уроки, сколько перемены со всей их толчеей, дурацким трепом, со взглядами вслед тебе, и все в том же роде; но куда мне было деваться, кроме школы? Оставаться дома – там мать, а таскаться весь день по городу – увольте!
Так прошел март и почти весь апрель. В тумане. В тумане и в кино.
Как-то днем я возвращался по одной из моих многочисленных дорог домой и проходил мимо церкви индепендентов. У входа в нее висело объявление о том, что в ближайшую пятницу состоится концерт городского оркестра. Лейла Бон, сопрано, исполнит произведения Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Антонио Вивальди и Натали Филд.
Что за прелесть это имя – Филд. Я вижу поле в ярком летнем уборе на изгибе холма, поле, а над ним – небо. А зимой поле – это бесконечные темно – коричневые борозды, отбрасывающие тени под низким солнцем.
Как больно. Как невообразимо больно, особенно потому, что наполовину это боль от зависти, самой подлой зависти. Но дело даже не в глубине моего падения – мне самому не верилось, что я так низко пал, – дело в том, что я не мог не пойти на первое публичное исполнение сочинений Натали Филд.
Так что, миновав церковь, я уже точно знал, что пойду на концерт. И в то же время мысль о том, что я пойду на концерт и пойду совсем один, доставляла мне боль. Казалось, тут и наступит конец. Конец всему тому, что еще имело какое-то значение, смысл для меня, что связывало меня с прошлым. И тогда мне не останется ничего, мне нечего будет делать на этом свете. Нечего.
Я вернулся домой и обнаружил письмо. Письмо было из приемной комиссии Массачусетского института. Мать отложила его в сторону – мол, хватит заниматься всякой чепухой. Я взял его к себе наверх и прочел. В нем сообщалось, что я принят и что мне назначена полная стипендия. Мне бы хоть чуточку проникнуться уважением к себе, или, как бы это лучше сказать, – почувствовать себя вознагражденным, но ничего подобного я не почувствовал. Стипендия лишь в незначительной мере покрывала расходы, связанные с поступлением в Массачусетский институт: в них входили плата за учебу и стоимость проживания, – но главное: я не собирался туда поступать. Ответить на письмо я должен был в течение десяти дней, но я запихнул его в ящик стола и тут же забыл о нем. Я именно забыл о нем. Мне было абсолютно безразлично.
Джейсон позвал меня на спектакль в пятницу, но я сказал ему, что буду занят по дому, а родителям сказал, что пойду с Джейсоном на спектакль. Теперь я довольно часто поступал подобным образом. Так, мелкая ложь, которая никого не ранит и ничего не меняет. Просто легче солгать, чем сказать правду. Если бы я сказал Джейсону, что идти на спектакль не хочу, он бы стал меня уговаривать. А признайся я ему или родителям, что собираюсь послушать концерт в церкви, они бы наверняка сочли это моим очередным чудачеством, а я устал, меня тошнило от того, что все считают, будто я вечно выпендриваюсь. Да и потом – они могли увидеть афишу и имя Натали на ней, а вот это было бы совсем уже ни к чему. Да и Джейсон мог увязаться со мной, потому что его одолевала такая скука, что ему лишь бы было с кем, а куда и на что идти, все равно. Так что мне было проще солгать. А уж если вы лжете достаточно часто, окружающие вовлекаются в мир вашей лжи, как в туман, где вас не только тронуть – разглядеть-то невозможно.
Странно чувствовал я себя в тот вечер, в пятницу, отправляясь на концерт. Был конец апреля, один из тех первых теплых вечеров, когда все цветы выставлены в сад, когда из-за мчащихся облаков остро мигают звезды. У меня кружилась голова, пока я шел к церкви. Знакомо вам такое ощущение, будто что-то подобное с вами уже происходило прежде? Так вот, у меня было совершенно противоположное ощущение. Мне казалось, что я впервые вижу эти улицы, хотя пять дней в неделю дважды в день я проходил их из конца в конец. Все было неузнаваемо. Будто я, чужой здесь человек, иду поздно вечером по незнакомому городу. Это и пугало и нравилось. Мне представилось, что никто из жителей этого города там, в домах, мимо которых я проходил, в машинах, которые проносились мимо, не говорит по-английски, что все они говорят на неизвестном мне языке, что это город другой страны, и никогда раньше я его не видел, и что мне только кажется, что я прожил в нем всю свою жизнь.
Как заезжий турист, смотрел я на все вокруг – на деревья, дома – и мне самым серьезным образом казалось, что никогда прежде я не видел их. Ветер настойчиво дул мне в лицо.
Когда я подошел к церкви и увидел, как публика входит внутрь, я разволновался. В зал я проник чуть не на карачках. Если бы можно было, я бы и в самом деле опустился на четвереньки, чтобы только никто меня не заметил. Это была старая большая церковь, деревянная, без особых украшений, высокая и темная. Поскольку я никогда раньше не был в ней, мое чувство, будто я здесь совсем чужой, иностранец, усугубилось. Публики собралось довольно много, и она все прибывала, но никого я не знал, не знал и где будет сидеть Натали – скорее всего где-то в первых рядах, – так что я занял место в самом последнем ряду, подальше от входа в церковь, за колонной – словом, отыскал самое укромное местечко. Мне не хотелось никого видеть, не хотелось, чтобы видели меня. Я хотел быть один. Среди публики я заметил только двоих, кого знал в лицо, – двух девочек из школы, возможно, подружек Натали. Церковь наполнилась народом, но никто не разговаривал громко, находясь в церкви, и звук голосов напоминал легкий шум волны на берегу океана, ровный, успокаивающий шум волны. Я сидел, читал отпечатанную на ротапринте программу, чувствовал легкое головокружение и отрешенность, полную отрешенность от всего земного.
Песни по программе шли последними. Оркестр, насколько я мог судить, был довольно приличный – я не очень внимательно слушал, продолжая свое «парение», но музыка помогала мне парить, и это доставляло мне смутное наслаждение. Объявляли перерыв, но я не выходил. Наконец перед оркестром появилась певица. Аккомпанировал ей струнный квартет, в котором Натали исполняла партию альта. Я не ожидал увидеть ее в квартете. Она сидела рядом с крупным пожилым виолончелистом, он загородил ее почти полностью – я видел только ее волосы, гладкие и черные как смоль. И тогда я нырнул за спины впереди сидящих. Дирижер, порядочный, видно, трепач, какое-то время распространялся о музыке в нашем городе, о многообещающем юном даровании – исполнительнице и композиторе, которой только восемнадцать… Но наконец он умолк, и зазвучала музыка.
Певица оказалась хорошая. У нее был сильный голос, и она понимала смысл и слов и музыки. Первая песня называлась «Любовь и дружба» – простенькая такая – о том, что любовь – это дикая роза, а дружба – рождественская елка. Очень милая мелодия, публике песенка понравилась. Когда она закончилась, раздались бурные аплодисменты. Но аплодировать полагалось не каждой песне, а в конце, после исполнения всех трех. Певица явно растерялась и неуверенно склонялась в полупоклоне, пока наконец аудитория не сообразила, в чем дело, и не перестала аплодировать. Тогда она спела вторую песню. Слова написала Эмилия Бронте, когда ей было двадцать два года.
Что мне богатство королей,
Что мне дары Харит,
Что власть, что слава – их елей Меня не усыпит.
Но заклинание одно Уста мои твердят:
«Пусть сердце го, что мне дано,
Оковы не стеснят!»
Хоть близко дней закатных мгла, Хочу, свой век верша,
Чтоб жизнь и смерть превозмогла Свободная душа!
Скрипки и виолончель, словно дрожащая волынка, мягко и трепетно выводили плавные ноты, и была вторая тема, ее вели певица и альт, сливаясь и споря друг с другом: суровая, пронзительная, скорбная мелодия. На последней строке она одерживала верх, и песня на ней обрывалась.
Зал не аплодировал. То ли не поняли, что песня кончилась, то ли она им не понравилась, может быть, даже испугала. Так или иначе, воцарилась тишина. Тогда они исполнили третью песню «Тает дымка в горах», очень нежно. У меня потекли слезы, и я не мог унять их. Когда песня кончилась и все стали бурно аплодировать, и Натали пришлось встать и поклониться, я поднялся и ощупью, держась за спинки скамей, потому что слезы застилали глаза, стал пробираться к выходу и наконец выбрался из церкви в ночной город.
Я направился к парку. Светильники на улице выглядели мыльными пузырями в разноцветных нимбах, ветер холодил мокрое от слез лицо. В голове пылал огонь, и была легкость, и звучал голос певицы. Я не чувствовал асфальта под ногами и не замечал прохожих. И меня нисколько не заботило, видят ли они, как я, обливаясь слезами, бреду по улицам города.
Господи, что это было за упоение! Слишком много на меня свалилось, слишком много для одного раза, но что за упоение! И это была любовь. Я увидел Натали в ее песне, настоящую Натали, и я полюбил ее. Не от эмоций, не от желаний это шло, это было как возвращение к жизни, как упоение от лицезрения звезд. Узнать, что она сумела, смогла создать песню, слушая которую люди застывают в молчании, а я плачу: узнать, что это Натали, настоящая Натали, в истинном ее облике… Но как же это было больно! Я не мог совладать с собой.
Когда я миновал два квартала, слезы высохли. Я шел, шел и оказался на окраине парка, почувствовал, что ужасно устал и повернул назад, к дому. До дому было примерно пятнадцать кварталов – не помню, чтобы, пока я их одолевал, я о чем-нибудь думал или что-то чувствовал. Я просто шел в ночи, и мог бы так идти до бесконечности, всю жизнь. Исчезло чувство отчужденности. Все теперь было знакомо, весь мир, даже звезды. Я был дома. То тут, то там я ощущал запах влажной земли или цветов из темного сада. Это я запомнил.
Я вышел на свою улицу. В тот момент, когда я подходил к дому Филдов, перед их подъездом остановилась машина, и из нее вышли мистер и миссис Филд, какая-то молодая женщина и Натали. Они разговаривали между собой. Я застыл на месте. Я оказался на довольно большом расстоянии от обоих уличных фонарей, поэтому удивительно, как Натали рассмотрела меня в темноте. И она прямо направилась ко мне. Я по-прежнему не двигался с места.
– Оуэн?
– Да. Привет, – откликнулся я.
– Я видела тебя на концерте.
– Да, я слушал тебя, – сказал я и почему-то усмехнулся.
Она держала в руке альт в футляре. На ней было длинное платье, волосы все такие же черные и гладкие, а лицо сияло. Само исполнение ее музыки и, видимо, последовавшие затем поздравления взволновали ее, она была возбуждена, огромными казались глаза.
– Ты ушел после исполнения моих песен.
– Да. Тут ты меня и заметила?
– Я заметила тебя еще раньше. Ты сидел на задней скамье. Я искала тебя.
– Ты думала, что я приду?
– Я надеялась… Нет. Я думала, что ты придешь.
Отец позвал с крыльца:
– Натали!
– Он гордится тобой? – спросил я.
Она кивнула.
– Мне нужно идти, – сказала она. – Сестра приехала специально на мой концерт. Может быть, зайдешь?
– Не могу.
Я хотел сказать, что именно не могу, а не то, что мне кто-то там мешает.
– Приходи завтра вечером, хорошо? – попросила она меня с неожиданной страстностью в голосе, настойчиво.
– Приду, – сказал я.
– Хочу тебя видеть, – все с тем же чувством в голосе сказала она.
Она повернулась, пошла и скрылась за дверью, и я пошел мимо ее дома к себе.
Отец смотрел телевизор, мать сидела рядом с ним и вышивала. Она спросила: «Что, короткое кино?» Я сказал: «Короткое», она спросила: «Тебе понравилось? О чем оно?» – «Ох, не знаю», – ответил я и поднялся к себе, потому что с ночного свежего ветра окунулся в липкий туман. А в тумане я не мог говорить, не мог вымолвить ни слова правды.
Мои родители вовсе в этом не виноваты. Если вы думаете, что эта книга – одна из тех, где всю вину валят на голову старшего поколения, а подобные книги пишут, между прочим, даже некоторые психологи, то ошибаетесь. Это вовсе не их вина. Да, они сами жили отчасти в тумане – принимали ложь за правду и не пытались докапываться до истины, – ну и что? Из этого совсем не следует также, что они – сильные. Как раз наоборот.
Я зашел к Натали на другой день вечером. Все было как и в первый раз: миссис Филд впустила меня, и я услышал, что Натали занимается. Я подождал в темном холле, музыка прекратилась, и Натали спустилась ко мне. Она предложила:
– Пойдем пройдемся.
– Дождь идет.
– Ну и пусть, – сказала она. – Мне хочется на улицу.
Она надела пальто, и мы пошли в парк.
По лицу ее видно было, что вся она еще далеко, в высших сферах, в музыке. Должно было пройти какое-то время, пока она спустится на землю.
– Что с тобой было? – спросила она, когда мы прошли уже с полквартала.
– Да так, ничего.
– Что-нибудь слышно из колледжей?
– Да, из одного.
– Из какого?
– Из Массачусетского.
– И что?
– О, они готовы принять меня.
– А стипендия?
– И стипендию дадут.
– Полную?
– Да.
– Ого! Здорово. Ну, и что ты решил?
– Ничего.
– Ждешь ответа из других колледжей?
– Нет.
– Как это?
– Да я, пожалуй, в Штат пойду.
– В Штат? Зачем?
– За дипломом.
– Но почему в Штат? Ты же хотел поработать с тем человеком из технологического.
– Это не для новичков – пришел, понимаешь, в институт и, пожалуйста, работай с лауреатом Нобелевской премии.
– Но не вечно же новички остаются новичками, верно?
– Ну да, но я решил не идти туда.
– Мне показалось, ты сказал, что ты ничего не решил.
– Да нечего тут решать.
Она сунула руки в карманы пальто, вздернула нос и застучала каблучками по тротуару. Она казалась взбешенной. Но, миновав еще квартал, произнесла:
– Оуэн!
– Да.
– Мне, право, неловко…
– Отчего?
Не знаю, как у нее хватало сил продолжать этот разговор: я говорил с нею холодно, тупо, безразличным тоном. Но она все-таки продолжала:
– Я про Джейд Бич и про то, что было…
– А, ты об этом! Да ерунда, не стоит.
Не хотел я ворошить прошлое. Слишком огромное, важное и тяжкое выпирало из тумана. И мне захотелось отвернуться, чтобы не видеть.
– Я много думала об этом, – сказала она. – Понимаешь, мне казалось, что мне все ясно тут. Я считала, что, по крайней мере, никого мне не нужно, никаких таких отношений. Полюбить там, или закрутить роман, или выйти замуж… Я еще достаточно молода, и мне еще надо очень многое сделать. Все это довольно глупо звучит, но это правда. Если бы я могла, как другие, относиться легко к сексу, все было бы в порядке, но, по-моему, я не могу. Мне ни в чем не нужна эта легкость. Видишь ли, в наших с тобой отношениях было прекрасно то, что мы были друзьями. Можно любить по-разному: любить и быть любовниками, любить и быть друзьями. И мне казалось, что мы с тобой именно друзья. Я поверила в это и думала, что все вокруг не правы, когда утверждают, что мужчина и женщина не могут быть просто друзьями. Но теперь я думаю, что они правы. Я была слишком… теоретиком, что ли.
– Не знаю, – пробормотал я. Мне больше вообще не хотелось говорить, но дернуло меня за язык, и я сказал: – А мне кажется, ты была права. Притянул я этот дурацкий секс, когда в нем и нужды-то не было.
– Нет, была, – произнесла она каким-то усталым, разбитым голосом. Потом резко: – Нельзя же чувству сказать: поди прочь и возвращайся через два года, потому что я сейчас очень занята!
Мы миновали еще один квартал. Дождь был мелкий, как туман, – мы едва ощущали его на своих лицах, но капли стекали уже с воротника мне за шиворот.
– Я впервые пошла на свидание, – стала рассказывать она, – когда мне было шестнадцать лет. Ему было восемнадцать, он был гобоистом, а все гобоисты сумасшедшие. У него была машина, он ее припарковывал так, чтобы из окон открывались прекрасные ландшафты, а потом, представляешь себе, буквально набрасывался на меня. И говорил: «Натали, это сильнее нас!» Меня это бесило, и в конце концов я сказала ему: «Может быть, это сильнее вас, но не меня!» Ну, на том все и кончилось. Дурачок он был. Да и я тоже. Но тем не менее… Теперь я знаю, что он имел в виду.
Она помолчала какое-то время, потом добавила:
– Но все равно…
– Что?
– Нам-то это не нужно, правда?
– Что?
– Ну, нам с тобой ни к чему это. Верно?
– Да, – сказал я.
Тут она взбеленилась. Остановившись, взглянула на меня исподлобья, с яростью.
– То ты говоришь «да», то ты говоришь «нет»; то тебе «нечего решать»… Нет, есть что решать! И думаешь, я знаю, правильно я решила или нет? Почему я должна принимать решения? Если мы друзья – а в это упирается все: можем мы быть друзьями или нет? – так вот, если мы друзья, то и решать мы должны вместе. Так?
– Верно. Мы так и делаем.
– Так чего же ты тогда злишься на меня?
Мы уже были в парке и стояли под высоким каштаном. Ветки защищали нас от дождя и бросали глубокую тень на нас. Над нами в свете уличного фонаря кое – где как свечи сияли цветы каштана. Пальто и волосы Натали сливались с тьмою, и я видел только ее лицо, ее глаза.
– Да не злюсь я, – сказал я. И показалось мне вдруг, что земля сдвинулась подо мной, что мир перевернулся, – землетрясение и не за что ухватиться. – У меня все перепуталось. Вот в чем дело. Все потеряло для меня всякий смысл. Не могу справиться с этим.
– Но почему же, Оуэн? Что с тобой стряслось?
– Не знаю, – сказал я, положил ей руки на плечи, она прижалась ко мне, обхватила меня руками.
– Я испугался, – признался я.
– Чего? – спросила она глухо, уткнувшись лицом мне в пальто.
– Я испугался, оставшись в живых.
Она еще крепче прижалась ко мне, я обнял ее.
– Я не знаю, что мне делать. Понимаешь, считается, что я должен жить еще годы и годы, а я не знаю как.
– Ты хочешь сказать – не знаешь, для чего.
– Ну да, вроде того.
– Вот для этого, – сказала она, обнимая меня. – Для этого. Для того, чтобы осуществить все, что тебе положено, для того, чтобы было время подумать, для того, чтобы слушать музыку. Ты сам знаешь, как жить. Только ты веришь людям, которые в этом ничего не смыслят.
– Да, да, я понимаю, – сказал я.
Меня трясло. Она предложила:
– Холодно. Пойдем к нам, заварим крепкого чаю. Я купила зеленого китайского. Он, кажется, успокаивает и продлевает жизнь.
– Продлевает жизнь – это хорошо, это как раз то, чего мне сейчас недостает.
Мы повернули к дому. Не думаю, что мы много говорили по пути и потом, на кухне, пока закипала вода. Мы взяли чайник и чашки в комнату Натали и уселись там на восточный ковер. На вкус китайский зеленый чай оказался отвратительным. По языку будто прошлись наждаком, правда, потом, когда привыкнешь, чай начинает даже нравиться. Я едва очухался от первого впечатления, но постепенно стал к нему привыкать.
– Ты закончила квинтет Торна? – спросил я.
В общем-то, прошло всего восемь недель с тех пор, как мы последний раз виделись с нею, но они показались мне восемью годами, и мы были теперь будто совсем в другом мире.
– Нет еще. Я написала медленную часть. Сейчас у меня родилась идея, какой должна быть последняя.
– Послушай, Нат, вчера вечером, когда исполнялись твои песни… Они меня довели до слез. Вторая особенно…
– Я знаю. Вот поэтому я и решила поговорить с тобой. То есть я поняла, что разговор получится. Ну, потому…
– Потому что по-настоящему ты говоришь там, своей музыкой. Все остальное – слова.
– Оуэн, ты чувствуешь тоньше всех знакомых мне людей. Никто, кроме тебя, этого не понимает. Даже среди знакомых музыкантов никто не понимает этого. Я не умею говорить. Я не умею выразить себя. Только в музыке. Может быть, позднее. Потом, когда я стану хорошим музыкантом, когда я освою эту профессию, может быть, тогда я так же хорошо буду делать и остальное. Может быть, я даже стану похожа на человека. Вот ты – человек.
– Я обезьяна, которая пытается поступать по-человечески.
– У тебя это хорошо получается, – сказала она. – Лучше, чем у кого-либо другого.
Я лег на живот и стал разглядывать чай в своей чашке. Он был какого-то непонятного желто-коричневого цвета, в нем плавали китайские чаинки.
– Если эта штука успокаивает, то интересно, на что именно она действует – на центральную нервную систему в целом, или на лобные доли, или на затылочные, или еще на что-нибудь…
– На вкус он напоминает металлическую мочалку, – сказала Натали. – Интересно, металлические мочалки – это успокоительное средство?
– Никогда их не пробовал, не знаю.
– На завтрак, с молоком и сахаром.
– Обеспечивает железом рацион взрослого человека минимум на пять тысяч процентов.
Она рассмеялась и вытерла слезы.
– Как бы мне хотелось уметь говорить! – сказала она. – Как ты.
– А что я такого сказал?
– Не могу объяснить, потому что не умею говорить. Но могу сыграть.
– Я хочу послушать.
Она встала, подошла к роялю и сыграла пьесу, которую я никогда раньше не слышал.
Когда она кончила играть, я спросил:
– Это из Торна?
Она кивнула.
– Знаешь, если бы я там жил, – сказал я, – там царил бы полный бедлам.
– Но ты там живешь. Именно там ты и живешь.
– Один?
– Возможно.
– Я не хочу быть один. Я устал от самого себя.
– Ну что ж, ты можешь позволить, чтобы к тебе приезжали гости. В маленьких лодках.
– Я больше не хочу играть короля в замке. Я хочу жить среди людей, Нат. Я думал, что дело не в людях, оказывается – в них. Без них хана.
– Ты поэтому решил идти в Университет Штата?
– Очевидно.
– Но зимой ты говорил, что не можешь мириться с существующим в школе порядком, когда всех, и способных, и тупиц, приводят к общему знаменателю. Разве не то же самое ожидает тебя в Штате, только масштабы покрупнее?
– Весь мир – то же самое, что и школа, только масштабом покрупнее.
– Нет. Неправда. – Она упрямо сжала губы и очень тихо наигрывала на рояле очень противные аккорды. – Школа – это мирок, в котором ты еще ничего не решаешь. Весь остальной мир
– это мир, где ты должен решать. Ведь ты же не намерен никогда не принимать решений, подлаживаться ко всем, нет ведь?
– Но пойми, мне надоело идти против всех, быть чужаком. Это заведет в тупик. А будь я такой, как все…
Она прогрохотала по клавиатуре: БР-Р-А-Н-Г!
– Другие поступают как все другие, и все они ладят друг с другом и не действуют в одиночку,
– продолжал я. – Человек – животное общественное. Так какого еще черта мне надо?
– У тебя же из этого ничего не получается.
– Так что мне делать? Возвращаться в свой Торн и, как психованному термиту, остаток своей жизни посвятить писанию идиотского хлама, который никто никогда не будет читать?
– Нет, ты пойдешь в МИТ и покажешь им, на что ты способен!
– Это слишком дорогое удовольствие.
БР-Р-Р-А-А-НН-Г!
– Ему дали три тысячи долларов, и он еще хнычет! – воскликнула она.
– Но первые четыре курса там будут стоить шестнадцать, а то и все двадцать тысяч долларов!
– Займи. Продай, наконец, свою глупую машину!
– Я ее уже разбил, – заявил я и засмеялся.
– Разбил? Машину? В дорожной катастрофе?
– Вдребезги, – сказал я, как сумасшедший покатываясь со смеху. Она тоже захохотала. Не пойму, что нас так развеселило. Неожиданно все случившееся стало выглядеть ужасно забавным. Все было до сих пор таким несуразным, все, включая меня самого, а тут я вдруг будто выскочил из этой несуразности и оглянулся назад, посмотрел на все как бы со стороны.
– Отец получил всю страховую сумму, полностью, – сказал я. – Сразу.
– Так все в порядке.
– Что «в порядке»?
– На первый год тебе хватит. А о следующем побеспокоишься в следующем году.
– Каждый вечер гориллы строят себе новые гнезда, – сказал я. – Они спят в этих гнездах высоко на деревьях. Строят свои гнезда они наспех, кое-как. Им приходится строить новые гнезда каждый вечер, потому что они без конца в них прыгают, а, кроме того, оставляют в гнездах банановую кожуру и всякую вонючую гадость. Для приматов существует, по-видимому, правило – никогда не оставаться в покое и постоянно строить гнезда – по одному в вечер, пока не научатся делать это как следует. Или, по меньшей мере, не научатся выбрасывать из гнезд банановую кожуру.
Натали все сидела за роялем и вот уже секунд шесть играла «Революционный этюд» Шопена, который она разучивала в декабре.
– Хотела бы я понять… – сказала она.
Я поднялся с пола, сел рядом с ней у рояля на табурет и обеими руками исполнил какой-то сумбур.
– Вот видишь, я не понимаю, как надо играть на рояле. Но когда играешь ты, я слышу музыку.
Она посмотрела на меня, я – на нее, и мы поцеловались в губы. Но скромно: максимум шесть секунд.
Конечно, можно было бы рассказать еще очень многое, но, пожалуй, это все, что я хотел рассказать. В «многое» входит то, что произошло – и продолжает происходить – потом горилла каждый вечер строит новое гнездо.
На следующий день я вытащил из ящика стола то самое извещение и показал родителям, добавив, что страховую сумму за машину я внесу за первый курс в Массачусетском технологическом институте. Мать расстроилась, даже разгневалась, будто я сыграл с ней подлую шутку. Не знаю, как бы я с нею справился вообще, если б отец не принял мою сторону. Мы всегда забываем неписаное правило: ты думаешь, что знаешь, чего тебе ждать, а на самом деле ничего ты не знаешь, и все выходит не так, как ты полагал, а как раз наоборот. Отец заявил, что, если я буду работать в летние каникулы и получать стипендию, остальные расходы он берет на себя. Мать увидела во всем этом сплошное предательство и отказалась по доброй воле принять наши планы. Но ей пришлось принять их, потому что, хотя она и держала в своих руках весь дом, право решать она уже давно признала за мужчиной, тем самым лишив себя возможности принимать решения, кроме, правда, тех случаев, когда решения не принимаются, а подворачиваются – что, кстати, она всегда предпочитала. И поскольку у нее не было даже права выбора, ей оставалось одно: обидеться. Если бы не поддержка отца, мне было бы безумно тяжело такой ценой отстоять свое решение. А так, хотя и больно было, но терпимо. К тому же мама – слишком добрый по натуре человек, чтобы дуться на нас неделями. Уже в середине мая она стала забывать о своей обиде. А еще недельки через две купила мне несколько очень изысканных галстуков в полоску, потому что была убеждена, что классовую принадлежность Студента Восточного Колледжа определяет качество его галстука.
Я стал снова добросовестно заниматься в школе и окончил семестр впервые за все время круглым отличником. Если уж решил стать умником, засучи рукава. В то лето я стажировался как техник-лаборант в «Байко Индастрис».
В мае и июне мы с Натали виделись по нескольку раз в неделю. Порою возникали трудности, потому что не удавалось удерживаться в пределах шестисекундного максимума. Как говорила Натали, ни один из нас не умел легко смотреть на жизнь. Бывали у нас и ссоры: оба мы были взвинчены, и свое раздражение вымещали друг на друге. Но продолжались эти ссоры от силы минут пять, не больше, потому что для нас обоих было совершенно очевидно, что пока ни о каком законном союзе речи быть не может, а секс вне закона – это нехорошо. Так что нам оставалось одно – ничего не менять и быть вместе. И это был самый лучший для нас выход.
В конце июня Натали уезжала в Тенглвуд. Она ехала поездом. Я провожал ее, а так как ее провожали и ее родители, я был не в своей тарелке. Но я чувствовал, что право за мной, несмотря на то, что мистер Филд был приветлив со мной настолько же, насколько может быть приветлив тарантул. Я вроде бы околачивался там, на платформе, так, без всякого дела. Миссис Филд иногда отклонялась немного в сторонку, чтобы я хотя бы частично мог войти в состав провожающих и видеть Натали. В руках у Натали были футляры со скрипкой и альтом, а за спиной еще и рюкзак, так что повернуться ей было не так-то просто. Уже стоя на ступеньках своего вагона, она поцеловала мать и отца. Меня она не поцеловала. Она посмотрела на меня, сказала:
– Увидимся на Востоке, Оуэн, через год, в сентябре.
– Или в любой момент на Торне, – сказал я.
Когда поезд тронулся, она махала нам со своего места за грязным оконным стеклом. Я не вел себя как обезьяна. Я стоял и изо всех сил старался вести себя как человек.