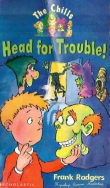Текст книги "Индеец с тротуара (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Соавторы: Мириам Мортон,Кристин Хантер,Мелвин Ричард Эллис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Когда она мне ответила «Да ну…», по ее тону я понял, что он-таки развел баланду вокруг нашей прогулки на взморье и что ей неприятно об этом говорить и впредь лучше этого не касаться. Но что у нас с ней было такого, из-за чего стоило подымать волну? Ну, едет она на пляж, съедает там свой ланч, находит агат и возвращается домой. Что же в этом дурного? Какой тут грех? Что там еще мистер Филд выдумал?
Впрочем, было совершенно очевидно, что мог «выдумать» мистер Филд.
Для мистера Филда не имело никакого значения то, что у нас с Натали ничего подобного даже в мыслях не было. «Вы же знаете эту молодежь. В голове у них одни шашни…»
Ну, положим, не навязчивые идеи мистера Филда развратили меня. Они бы мне и в голову не пришли, если бы я уже не был «развращен» до этого. Забавное словечко «развращенный», не правда ли? В моем словаре о нем сказано: «сошедший с пути истинного». Только так я это слово и понимаю. Все очень просто – в своих мыслях я «сошел с пути истинного».
Дело в том, что везде и всегда – в обычных ли разговорах, в кино, в рекламе, в книгах, в различных ли справочниках по половой жизни – научных или коммерческих – вам твердят одно и то же: Мужчина плюс Женщина равняется Секс. Уравнение без неизвестных. И кому они нужны, эти неизвестные?
А если у вас нет никакого опыта и секс для вас действительно «неизвестное», у вас создается впечатление, будто каждый встречный – поперечный только о том и толкует, что, если и есть что стоящее на этом свете, так это секс.
И вот одолела меня мыслишка – что же это я делаю? Встречаюсь с девушкой, целый день провожу с нею на пляже, а спроси меня кто-нибудь: «Эй, парень, ну и что же у вас там было?», я отвечу: «Она подарила мне черный камень, а я ей – агат». – «Ну да? Ну, ты даешь!»
И стал я думать, что по этому поводу будут думать другие.
Все это почти не поддается объяснению, потому что все гораздо сложнее. Конечно же, гораздо сложнее. Уже сам по себе факт, что ты проводишь время наедине с девушкой, с женщиной – а Натали была женщиной! – не мог не возбуждать. Наверное, это глупо, можете смеяться надо мной, но именно так оно и было. Физически, умственно, духовно, ее присутствие возбуждало меня.
И я думал, что, по-видимому, это и есть любовь. Все говорят, что секс – это вещь стоящая, что он-то и есть любовь, что всякий, кто хоть немного культурнее гориллы, называет его любовью. Спросите-ка об этом у продавца зубной пасты, или в табачном киоске, или у распространителя порнографических открыток, у киношника, у поп – музыканта или, наконец, у самого мистера Фил-да.
В результате этих размышлений, когда мы встретились в следующий раз, все было совсем по-другому. Тогда я уже решил, что люблю Натали. Заметьте, я не полюбил Натали, я этого не говорю, – я решил, что я ее люблю.
С точки зрения людей, которые пишут о разуме и мозге и интересуются главным образом различиями между задней и передней, а не левой и правой долями головного мозга, мой случай был бы примером того, как передняя доля взяла на себя «постановку» всей «пьесы» и одурачила старушку заднюю долю. Многим «умникам» свойственно подобное самоодурачивание, во всяком случае, таким вот запутавшимся недотепам, как я.
Сначала все шло нормально, потому что на деле я большой трус. Пока возле меня не было Натали, я только и мечтал о том, как я ее буду любить. Но стоило нам оказаться рядом, я забывал обо всем, и мы как прежде, словно психи, принялись наперебой говорить о всякой всячине.
Главной темой разговоров на этот раз были наши планы на будущее, что совершенно естественно, так как оба мы учились в школе последний семестр. Ее планы уже вполне определились. Летом она отправится в Тэнглвуд, на Восток, где ей предстоит встретиться с музыкантами – профессионалами – на их поддержку в будущем она рассчитывала, и с такими же, как она, ребятами – «чтобы потягаться силами», как сказала она: она рвалась в бой, жаждала сравнить себя с другими. Осенью она вернется домой и будет преподавать в музыкальной школе, давать частные уроки музыки, чтобы поднакопить денег, кроме того, будет дальше отрабатывать технику игры, писать музыку, будет посещать класс теории и гармонии в Штате – она сказала, что есть там один человек, у которого она занималась, и он может оказаться очень полезен для нее, она уже работала с ним прошлым летом в школе. Потом она поедет в Нью-Йорк, в Истмен, Мьюзик Скул со всеми своими сбережениями в расчете получить какую-нибудь стипендию, и будет учиться у двух композиторов – «столько времени, сколько понадобится», сказала она.
Похожие соображения побуждали и меня поступить в Массачусетский технологический: там один человек работал над проблемами физиологической психологии, которые больше всего занимали меня. Какой-то странный разговор получился у нас с нею: она объясняла, в чем суть новаторства этих ее двух композиторов, а я пытался объяснить, что такое сознание, и удивительно, как эти две совершенно разные темы часто сближались одна с другой и тесно переплетались. Тонкая штука, эти идеи и эта их способность к взаимосвязи.
В апреле городской оркестр собирался дать концерт в одной из самых больших церквей города, и в его программу были включены три песни Натали. Но она сказала, что это немногого стоит: их включили потому, что она знакома с дирижером, и помогает ему, когда нужен опытный исполнитель, чтобы не дать его скрипачам-любителям сбиться с такта; и все-таки это было первое публичное исполнение ее произведений. Труд композитора – самый худший из всех видов искусства, сказала она, потому что на девяносто процентов успех зависит от того, есть у тебя «рука» или нет. Хочешь, чтобы твои произведения исполнялись, заводи знакомства. На это она смотрела здраво и говорила, что не собирается повторить судьбу Чарлза Айвса. Айвсу едва ли пришлось услышать хоть одно публичное исполнение своих произведений, он просто сидел, писал их и складывал в ящик, а работал то ли маклером, то ли еще кем-то. Натали не одобряла этого. Она утверждала, что добиться публичного исполнения почти так же важно, как создать само произведение. Но в своих рассуждениях Натали была не очень последовательна, потому что ее идеалами был Шуберт, который так никогда в жизни и не услышал исполнения своих самых крупных произведений, и Эмилия Бронте, не простившая своей сестре Шарлотте публикацию ее стихов и даже их чтение. Три песни, которые должны были прозвучать в концерте в апреле, были написаны на слова Эмилии Бронте.
Роман «Грозовой перевал» был любимой книгой Натали. И она все знала о семействе Бронте, четырех гениальных детях, живших в доме своего отца – священника, в заболоченной пустоши вдали от всех и вся, в Англии сто пятьдесят лет назад. А я толкую о своем одиночестве! Я прочитал их жизнеописание, которое дала мне Натали, и понял, что мое «одиночество» по сравнению с их – это нескончаемая оргия общения. Но их было четверо, и они принадлежали друг другу. Самое страшное, однако, в том, что именно мальчик, единственный сын и брат, не вынес этого, сломался – он стал пить, принимал наркотики, попался на мошенничестве и вскоре умер. Потому что все надежды возлагались на него, потому что он был мальчик. Девочки, от которых не ждали ничего, были всего лишь девочки, – выросли и написали «Джен Эйр» и «Грозовой перевал». Тут поневоле задумаешься. Может, мне как раз повезло, что мои родители ждут от меня меньше, чем я надеюсь успеть в своей жизни. И, может быть, не такое уж это счастье – родиться мужчиной.
Многие годы дети Бронте писали рассказы и стихи о выдуманных ими странах. Со своими картами, войнами, приключениями, всем, всем. У Шарлотты и Бренуэлла это была страна Энгрия, у Эмилии и Анны – Гондал. Эмилия сожгла все свои рассказы о Гондале, когда узнала, что умирает от чахотки, но Шарлотта заставила ее сохранить стихи. Они учились писать, они набивали себе руку, они писали эти длинные, сложные романтические истории о несуществующих странах, писали из года в год. Это меня потрясло, потому что в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет я сам делал нечто подобное, но у меня не было сестры, которой я мог бы показать свои труды.
У меня тоже была своя страна, она называлась Торн. Я рисовал ее карты и тому подобную чепуху, но рассказов о ней я не писал. Вместо этого я описывал ее флору и фауну, пейзажи, города, писал об ее экономике, образе жизни ее населения, о ее правительстве, сочинил историю государства. Когда я начинал – мне тогда было двенадцать лет, – это была монархия, но позднее, когда мне стукнуло пятнадцать, а потом шестнадцать, в этой моей стране уже было нечто вроде свободного социалистического общества, и мне пришлось придумывать, какому повороту истории Торн был обязан тем, что от автократии он сразу шагнул к социализму, и как у него сложились отношения с другими странами. Это была крошечная страна, всего шестьдесят миль в поперечнике, расположенная на острове в Южной Атлантике – далеко – далеко отовсюду. И все время на Торне дул ветер. А берега были крутые и скалистые. Редко удавалось проплывающим мимо кораблям пристать к ним; когда-то греки или финикийцы открыли остров, и с тех пор пошли легенды об Атлантиде, но до 1810 года об острове практически не помнили. И по сю пору на Торне умышленно не строят ни причалов для больших кораблей, ни аэродромов для самолетов. К счастью, остров оказался настолько мал и беден, что Великие Государства не проявили к нему никакого интереса, и не включили его в сферу своего влияния, и не превратили его в ракетную базу. Словом, оставили его в покое. На Торне я провел уйму времени – четыре года! Но вот уже больше года прошло, как я там не был, и теперь все это кажется мне таким далеким детским бредом. И все-таки теперь, когда я снова вспомнил о Торне, я словно воочию увидел его крутые скалистые берега, поднимающиеся из моря, услышал беспрерывное завывание ветра над стадами овец, увидел свой любимый город Баррен на южном берегу, построенный из гранита и кедра; поверх продуваемых ветром скал он смотрит на Антарктический океан, на Южный полюс.
Я отобрал кое-что из «Истории Торна» и показал Натали. Ей понравилось.
– Я могла бы написать их музыку. Ты ничего не рассказал об их музыке.
– А там все инструменты духовые, – попробовал я отшутиться.
– Годится, – сказала она. – Квинтет для духовых инструментов. Никаких кларнетов – они назойливые. Флейта, гобой, фагот… ну и рожок? Английский рожок? Или тромбон? Да, у них непременно должны быть тромбоны.
Она не шутила. Она написала-таки «Квинтет государства Торн» для духовых инструментов.
Четкость ее планов захватила меня. Теперь и я серьезно задумался, чем бы я хотел заняться, если бы передо мною открылись такие возможности. Пойти ли мне в медицину, или заняться биологией и разрабатывать проблемы в той области, где психология стыкуется с биологией, или же остановиться на чистой психологии? Все эти науки взаимосвязаны, но невозможно разрабатывать все их одновременно – запутаешься. Поэтому прежде всего нужно было решить, с чего начать. Какая из этих наук может стать тем незыблемым фундаментом, на котором впоследствии можно будет развивать свои идеи? Благодаря Натали я понял то, что можно строить далеко не скромные и даже весьма честолюбивые планы при условии, что будешь упорно, систематически трудиться.
И как же здорово нам было, когда мы говорили о наших планах, о музыке и науке, о Торне и Гондале! Иногда она исполняла новые отрывки из «Квинтета государства Торн». У нее был старый, приобретенный по случаю за доллар кларнет, и, когда она дула в него, стараясь донести до меня очередную тему квинтета, щеки у нее багровели, а глаза выпучивались. Когда я был в шестом классе, я год играл на кларнете в школьном оркестре – вот и вся моя музыкальная карьера! – но на ее кларнете у меня получалось не хуже, чем у нее. Мы с нею дурачились, заставляя бедный кларнет пищать, визжать, пукать, а как-то я даже исполнил что-то вроде «Собачьего вальса» на нем. В одну из суббот я подвез ее к музыкальной школе и околачивался поблизости, пока она давала ребятишкам урок по системе Орфа – и это тоже было здорово. У каждого из ее четырнадцати шестилетних малышей было по ксилофону, колокольчику или по паре кастаньет, и когда они все вместе устраивали на всем этом инструментарии трам-та-ра-рам, это, ей-богу, трогало. Она утверждала, что дети таким образом усваивают теорию музыки. Я же считал главным то, что они таким образом получают удовольствие, но если они долго будут так заниматься, то рискуют получить еще и заболевание среднего уха. Потом я повез ее обратно, по дороге мы съели по куску мяса с жареной картошкой и, подъехав к ее дому, обнаружили возле калитки ее отца.
Он мне даже «здрасьте» не сказал. Он сказал «здрасте» ей, а смотрел при этом на меня.
И я покраснел, и полезла мне на физиономию эта моя дурацкая улыбка, которую я готов был растоптать. И тут я вспомнил, что влюблен в Натали. И не мог ни слова выдавить ни ей, ни ему. Будто у меня кляп во рту, будто аршин проглотил. Я поскорее отправился восвояси, где мне было куда легче и приятнее предаваться своей любви.
В течение двух недель после этого мы с Натали виделись каких-нибудь три-четыре раза. И теперь наши встречи доставляли мне гораздо меньше радости, чем прежде. Теперь я только и раздумывал о таких вещах, как, например, был ли у нее еще дружок и какое место в ее планах занимают мужчины, и что она думает в связи с этим обо мне, но спросить ее ни о чем таком не решался. Самое большее, на что я пошел однажды, это, когда мы в очередной раз прогуливали в парке жирного Орвилла, спросил у нее:
– Как ты думаешь, можно ли совместить любовь и карьеру?
Слово выскочило и повисло между нами, как дохлая кошка. Подобные вопросы часто встречаются на страницах журнала «Для домохозяек».
Помолчав, Натали ответила:
– Конечно же, можно, – и посмотрела на меня как-то странно.
Но тут Орвиллу повстречался датский дог, который чуть не слопал его. Когда баталия кончилась, глупый вопрос сам собой отпал. Но я сохранял вид неприступный и замкнутый. Прощаясь со мной у своего дома, Натали, как мне показалось, с тоской спросила:
– А почему ты больше никогда не изображаешь обезьяну?
Это меня доконало. То есть окончательно доконало. Я пришел домой в отвратительном настроении. Подумать только, я хочу сжать в объятиях эту девушку, целовать ее, признаваться ей без конца в любви, а она только того и ждет, что я схвачу банановую кожуру, запрыгаю вокруг нее, как обезьяна, и буду выискивать на себе блох!
В общем, я довел себя до соответствующей кондиции. Я обозлился на нее за дружеское отношение ко мне и заставил себя думать о том, какими у нее бывают волосы после мытья, какие они блестящие и мягкие, и какая у нее кожа – белая, нежная. И довольно скоро мне удалось постичь ее «истинную сущность»: таинственная женщина, жестокая красавица, желанная, но недоступная богиня – так все это, кажется, называется. И вот она уже не мой первый, лучший, единственный, настоящий друг, теперь она – нечто такое, чего я желал и что ненавидел. Ненавидел, потому что желал, желал, потому что ненавидел.
В феврале мы снова поехали на побережье.
Обычно со дня рождения Вашингтона начинается у нас совершенно фантастическая неделя. Прекращаются дожди. Солнышко начинает пригревать. На деревьях проклевываются первые почки, появляются первые цветы. Это первая неделя весны, и, пожалуй, это лучшая пора, потому что первая и потому что такая быстротечная.
Это время, когда можно рассчитывать на успех, и я все запланировал заранее. Я уговорил ее найти себе замену в музыкальной школе и отложить уроки, чтобы нам в субботу поехать на Джейд Бич. Если вдруг отец начнет чинить препятствия, плюнуть на него, мы не маленькие, и пора ей научиться обходиться без отцовского благословения на каждый чих. Все это я собирался выложить ей, если она начнет ссылаться на отца, но она не стала этого делать. Не очень ей улыбалось это наше путешествие, но, видно, она поняла, как мне хочется поехать, и, как друг, пошла навстречу моим желаниям.
Когда около одиннадцати утра мы приехали на пляж, было время отлива, и там толклись какие-то типы. На этот раз под джинсы мы поддели шорты, и снова мы играли в салочки с прибоем, но теперь все было не так. Над берегом стелился туман, не густой и не холодный, а такая легкая дымка, будто воздух был перламутровый, а волны, какие-то утихомиренные, накатывались с ленцой, закручиваясь вокруг самих себя в длинные, зеленоватые ряды, апатичные, правильные, навевающие сон. Мы держались в отдалении друг от друга – разбрелись в разные стороны, одолевая волну. Когда я оглянулся, Натали была уже на солидном расстоянии от меня, медленно ступала в морскую пену, поднимая брызги. Она шла, чуть пригнувшись, держа руки в карманах, и казалась такой маленькой и хрупкой между туманным берегом и туманным морем.
Типы удалились, как только начался прилив. Примерно через час прибрела обратно Натали. Волосы у нее на голове перепутались, и она без конца шмыгала носом: он у нее все время подтекал от свежего морского ветерка, а салфеток мы с собой не взяли. Она была далекой и безмятежной, как ее мать. Она собрала горсть гальки, но большинство камешков были хороши, пока оставались мокрыми, а высохнув, не представляли никакого интереса.
– Давай поедим, – сказала Натали. – Умираю с голоду.
Я разжег костер из плавунов в том же месте, что и в прошлый раз – в расщелине около большого бревна. Она села возле самого костра. Я пристроился рядом. Обнял ее за плечи. И тут сердце, словно молот, жутко забилось у меня в груди, и закружилась голова, и я прямо-таки почувствовал, что схожу с ума, и я крепко обнял ее и стал целовать. Мы целовались, и у меня перехватило дыхание. А ведь я и не собирался так вот схапать ее, я думал – поцелую и скажу: «Я люблю тебя!» – и мы с нею станем об этом говорить, о любви то есть. А больше я ни о чем и не думал. Я не знал, что со мною может такое случиться, что будет так, как если бы ты вдруг оказался на глубине, и большая волна накатила на тебя, перевернула раз, другой; плыть ты не в состоянии, дыхания не хватает, и ты совершенно беспомощен, совершенно без сил.
Она почувствовала, когда волна захлестнула меня. И ее это напугало, но не захватило, как меня. Потому что чуть погодя она высвободилась и отодвинулась от меня. Но руку мою не отпускала, – видела, что я тону.
– Оуэн. Ну, Оуэн, любимый… Оуэн, не надо, – говорила она, потому что я заливался слезами. Плакал ли я, или это просто от того, что перехватило дыхание, не знаю.
Постепенно я отходил. Я слишком был потрясен, и еще не чувствовал ни стыда, ни замешательства, и я схватил ее вторую руку, и оказалось, что мы оба стоим на коленях лицом друг к другу, и я говорю ей:
– Натали, ну почему нельзя?… Мы же не дети… Неужели ты…
А она говорит:
– Нет, Оуэн, нет. Не могу я… Не могу. Я люблю тебя. Но нельзя…
Не правила морали имела она в виду. Она хотела сказать, что это как с мыслями и музыкой, что они хороши, когда в них есть ясность, гармония. По-видимому, это относится и к морали. Не знаю.
И это она сказала: «Я люблю тебя». Не я. Я так ей этого и не сказал.
Запинаясь, я все повторял и повторял ей одно и то же, я не мог остановиться, и все крепче прижимал ее к себе. Вдруг глаза ее вспыхнули, она отпрянула и вскочила на ноги.
– Нет! – воскликнула она. – Не хочу я таких отношений! Мне казалось, мы обойдемся без них, ну а если нет, так и никаких не надо, вот и все. Все. Если тебе недостаточно того, что у нас есть, то забудь, забудь обо всем. Потому что выше этого ничего нет. И ты это знаешь! И знаешь, как это хорошо! Но если тебе этого мало, тогда оставим это. Забудь все!
И она повернулась и пошла к морю, заливаясь слезами.
Я долго еще сидел там. Костер погас. Я встал и пошел вдоль берега, ступая по морской пене, пока не увидел ее, – она сидела на камне прямо над приливом у подножия северных скал.
Нос у нее покраснел, ноги покрылись мурашками, и были они такие тонкие и бледные на фоне темной, шершавой скалы.
– Вон там, под большим анемоном, притаился краб, – сказала она.
Мы посмотрели в заводь. Я спросил ее:
– Ты не умираешь с голоду? Я умираю.
И мы пошли обратно вдоль линии прибоя, снова развели костер, натянули на себя джинсы и съели ленч. На сей раз он не был таким обильным. Мы не разговаривали. Ни я, ни она не знали, о чем еще говорить. Какие только мысли не приходили мне в голову, но ни одной я не мог произнести вслух.
После ленча мы сразу же заторопились домой.
Где-то на перевале возле Хоуст Рендж я вдруг сообразил, что есть одна вещь, о которой я должен ей сказать. Я сказал:
– Знаешь, а для мужчин все ведь совсем иначе.
– Да? – откликнулась она. – Может быть. Тебе лучше знать. Решай сам.
Она взглянула на меня отчужденно. И больше ничего не сказала.
Меня затрясло от злости, и я прошипел саркастически:
– Насколько мне известно, решали всегда женщины, разве не так?
– По-настоящему такие вещи решаются вместе, – ответила она. Необычно тихим и низким был ее голос. Она замолчала и отвернулась, будто увидела что-то интересное за окном.
Я вел машину, следил за движением на дороге. Мы проехали семьдесят миль, не проронив ни слова. Возле своего дома она сказала: «До свидания, Оуэн», все тем же тихим, низким голосом, вышла из машины и направилась к дому.
Это я помню. А после этого – ничего. Ничего – до следующего вторника.
Это называется «специфическая потеря памяти», – явление обычное после несчастных случаев, серьезных травм, родов и прочих подобных факторов. Так что не могу объяснить вам, что я сделал. По-видимому, находясь в полном смятении чувств, да и было еще не поздно – не было четырех, – я не захотел возвращаться домой и покатил по городу, чтобы остаться одному и додумать все до конца.
К западу от города между двумя предместьями дорога вдруг круто взмывает вверх, образуя довольно высокий склон. Что меня занесло туда, не знаю, верно, я, не разбираясь, поехал по первой попавшейся дороге. А там я, видно, слишком резко свернул на этот подъем.
В машине, которая шла следом за мной, заметили, как я сорвался с дороги и скатился вверх тормашками вниз по склону, они бросились мне на помощь. Вызвали «Скорую» и все такое – они нашли меня совсем холодным. Сотрясение мозга, вывих плеча и множество ужасных, потом позеленевших ушибов. Говорят, я счастливо отделался: машина моя разбилась вдребезги.
Пришел в себя я уже в городской больнице, а через два дня смог вернуться домой.
Из своего пребывания в больнице я помню только, как мама сидела возле меня и рассказывала, что дважды звонил Джейсон и заходила Натали Филд.
– Какая прелестная девушка! – сказала моя мать.
Все это казалось в порядке вещей, но не интересовало меня. Честно говоря, я был полностью погружен в какой-то туман. И там я пребывал совсем один и не знал, есть ли кто-нибудь или что-нибудь вне тумана. Ничто меня не интересовало. Это были, конечно, последствия сотрясения, но не только.
Тяжко пришлось моему отцу. Во – первых, когда незнакомый голос по телефону сообщает: «Ваш сын в больнице с сильнейшим сотрясением, а может быть, и повреждением мозга» – миленькое дело, не правда ли, особенно если происходит это в самый разгар телевизионной передачи о субботнем футбольном матче. Затем, когда становится известно, что мальчик поправляется, наступает просветление и приходит чувство благодарности. Затем он должен заплатить за буксировку сломанной машины, и тут обнаруживается, что машина-то разбита вдребезги! А жена начинает убеждать: «Ну кому какое дело до машины – слава богу, Оуэн жив». А ему «есть дело до этой машины», но он даже себе не смеет в этом признаться. Он не смеет признаться и в том, что чувствует себя униженным: его сын машину повернуть не может без того, чтобы не свалиться вместе с нею с кручи! Он обязан благодарить сына за то, что тот остался жив. Что ж, он и благодарит. Хотя временами он, кажется, своими руками прибил бы собственного сына. Но он поднимается к нему и просит его не волноваться, потому что машина застрахована, нет проблем. Не волнуйся, только вот получение страховки прямо сейчас, сразу после случившегося, обойдется чертовски дорого, поэтому, может, не надо спешить…
А сын лежит и говорит на это: «Да, отец, конечно, хорошо».
Две недели пришлось проторчать дома, потому что врач сказал, что, пока не нормализуется зрение, лучше никуда не выходить. Было очень скучно, – я не мог даже читать, все двоилось перед глазами, – но мне было все равно. Я не хотел читать.
Заходила Натали, это было, по-моему, в пятницу, сразу после несчастного случая. Мама поднялась ко мне, чтобы сказать об этом, но я заявил, что никого не хочу видеть. В субботу или в воскресенье зашли Джейсон и Майк, посидели, порассказывали анекдоты. Ушли разочарованные, потому что я ничего не рассказал им о катастрофе.
Когда я вернулся в школу, избегать встреч с Натали мне не составляло никакого труда. Раньше-то нелегко было устроить встречу с ней из-за ее жуткой занятости. А теперь я просто стал чуть позже ходить на ленч и не появлялся на автобусной остановке в два тридцать, и я ни разу не видел ее.
Мне бы, наверное, следовало объяснить, почему я так поступал, почему не хотел видеть ее, но не могу. Отчасти это само собой разумеющаяся вещь, не правда ли? Мне было стыдно, я был обескуражен, ну и так далее, и тому подобное. И я раскаивался, и переживал свой крах, и прочее, и прочее. Но все это из мира эмоций, я же не размышлял ни о чем, все чувства у меня притупились. Кажется, все потеряло для меня значение. Главное, чтобы ничего не болело. А искать сочувствия – дело пустое. Я был одинок. Я всегда был одинок. Пока я был с нею, я делал вид, что не одинок, но я был одинок даже тогда, и в конце концов я заставил и ее в это поверить, и она отвернулась от меня, как и все остальные. Ну и пусть, какое это имеет значение, в самом-то деле. Если я один – ладно, тем лучше, примем к сведению и не будем притворяться. Наверное, я та самая личность, которая никак не может ужиться с данным обществом. Ждать, что кто-то меня полюбит, глупо. За что меня любить? За мозги мои? За сотрясенный мой, крупнокалиберный, неповторимый мозг? За это никто не любит. Гадкая это штука, мозг. Некоторые любят мозги, обжаренные в масле, но только не американцы.
Для меня вроде бы оставалось место только на Торне. Правительства в обычном смысле слова на Торне не существовало, но были там кое – какие организации, в которые можно было по желанию войти; одна из них называлась «Академия». Ее здания ярусами поднимались по склонам самых высоких гор. Огромная библиотека, лаборатории, превосходное научное оборудование, масса кабинетов и студий. Люди приходили туда учиться или учить – в зависимости от того, к чему они были готовы; занимались научными исследованиями – в одиночку или группами, по собственному выбору. Вечерами они собирались – те, кто этого хотел, – в большом зале, где горело несколько каминов, и обсуждали проблемы генетики и истории, проблемы сна и полимеров, рассуждали о возрасте вселенной. Если вам неинтересна была беседа у одного камина, вы могли перебраться к другому. Вечера на Торне всегда холодные. Но туманов нет на склонах гор, и постоянно дует ветер.
Но, увы! и Торн – это всего лишь мое прошлое. Я никогда не вернусь туда. Закрыты пути. Я, наконец, разобрался в самом себе. Мне предстояло закончить школу, затем учиться в университете штата – один год, другой, третий, и так далее. И вот ведь – превозмог я все это. Оказался куда крепче, чем думал сам. Даже слишком крепок. Человек из стали. Вытащили практически целехонького из разбитой вдрызг машины. Не могу сказать, что у меня есть особые причины продолжать существование, закончить школу, учиться в Штате, получить работу и прожить еще каких-нибудь пятьдесят лет, но я, кажется, так уж запрограммирован. Человек из стали действует согласно заложенной в него программе.
Описание этого отрезка моей жизни далеко от совершенства. Чего я не касаюсь в нем, чего я просто не могу передать словами, о чем я и думать боюсь – так это о том, насколько все случившееся было страшно. В течение долгих недель, каждое утро, когда я просыпался, и каждый вечер в постели мне хотелось плакать, потому что было невыносимо тяжко. Оказалось, что я способен вынести все это, но плакать я не мог. Не о чем мне было плакать.
И делать мне нечего больше было. Я предпринял две попытки. Одну – с Натали. Другую – с машиной. И обе не состоялись. Так и не удалось ничего изменить. И незачем было снова испытывать судьбу. Раз уж я друга удержать не сумел, что ж, обойдусь без друга. Раз уж я, по рассеянности скатившись в машине под откос, остался жив, что ж, буду жить. Одна попытка стоила другой: обе были глупые. Я знаю, мама беспокоилась обо мне, но меня это мало трогало. Ей хотелось, чтобы я был живой, нормальный. Я остался жив, и я делал почти все так, как она хотела. Если в результате и не всегда получалось как у «нормального», то это, по крайней мере, обеспечивало пятьдесят лет более или менее удачной имитации «нормальной жизни». А ее желание, чтобы я был счастлив, мне не по силам было выполнить. Я не безумствовал, не дулся, не затевал ссор, не прибегал к наркотикам, не отказывался от еды, от ее пирогов с яблоками, не вступил в коммунистическую партию, и вообще ничего такого не сделал. Я подолгу оставался в своей комнате, совсем один, но так бывало и прежде. Так что вряд ли я представлялся ей таким уж несчастным, – неважное настроение, и только. Я знаю, она догадывалась, что мое состояние как-то связано с Натали Филд. Но, я уже говорил, что моя мать – мудрая женщина. Ну и в конечном счете она определила мою болезнь как болезнь роста, мол, «детская любовь», и успокоилась – все в норме.
Мой отец, который явно не знал, чего от меня ждать, страдал из-за меня больше матери, хотя не думаю, что сам он сознавал это. Я понял это из того, как он разговаривал со мной. Формально и неуверенно. И не знал, что сказать мне. И я не знал, что сказать ему. И оба мы ничего с этим не могли поделать… Ну, и что из того?..
Одно я делал с удовольствием – принимал душ. Под душем, когда громко шумит вода, и вокруг полно пара, и весь ты окутан туманом, особенно полно чувствуешь свое одиночество. И потом – мы много ходили в кино с Майком и Джейсоном. Иногда я одалживал машину у отца, чтобы доехать до кинотеатра. Мы оба пришли к выводу, что мне как можно скорее нужно снова сесть за руль – это должно было помочь мне освободиться от комплекса неполноценности. Первые два выезда дались нелегко и мне и ему, а затем все пошло гладко (возможно, в результате частичного выпадения памяти у меня). Для отца в этом был проблеск надежды: может, Оуэн не совсем потерян. В конце концов, мало ли юнцов разбивают машины. Это ведь чуть ли не признак возмужалости – раскокать автомобиль.