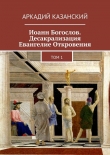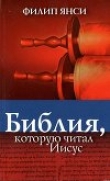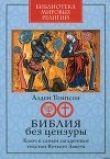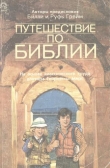Текст книги "Обзор Ветхого завета"
Автор книги: Уильям Ла Сор
Соавторы: Фредерик Буш,Дэвид Хаббард
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 49 страниц)
В Малой Азии в это время выдвигаются хетты – народ, говорящий на индоевропейском языке. В последней трети второго тысячелетия они переместились в центральную Малую Азию, где начали завоевывать господство среди городов-государств. К 1550 г. они основали царство в центре и на востоке Малой Азии, столицей которого был город Хаттусас (современный Богазкей), и вскоре пришли в столкновение с гуррским царством Митанни. Очень показательно то, что конец первой династии в Вавилоне в 1530 г. наступил не от местной силы, а от молниеносного похода Мурсилиса I, одного из ранних правителей Старого хеттского царства. Однако хетты еще не владели всей Малой Азией и еще целый век не могли стать на путь создания империи. Таким образом, немного спустя 1500 г. Месопотамия еще только выходила из периода раскола и хаоса; образовывались новые группировки, которые вскоре должны были начать борьбу за господство в регионе. Беспорядки, вызванные этими передвижениями народов не оставили в стороне даже Египет.
(2) Египет. Среднее царство – второй период культурного процветания и стабильности в Египте – достигло полного расцвета при двенадцатой династии, которая, сделав своей столицей Мемфис, правила Египтом более двухсот лет (около 1991–1786 гг.). Это был период процветания и великолепия. Литература, представленная большим количеством изречений мудрости и повествований и искусства достигли таких высот, на которые им уже редко удавалось подняться в последующие времена. К этому периоду относятся тексты проклятий и магических заклинаний против палестинских врагов Египта, начертанные на сосудах, которые разбивали для приведения заклинаний в исполнение. Собственные имена, встречающиеся в этих текстах указывают на то, что у Египта был некоторый, хотя и слабый, контроль над большей частью Палестины.
Однако во второй половине XVIII века соперничество династий (тринадцатой и четырнадцатой) привело к упадку Среднего царства. Страна была настолько ослабленной, что в нее стали проникать чужеземные народы из Палестины и южной Сирии, которые впоследствии захватили власть. Названные гиксами (египетское слово, означающее "иностранные вожди"; их точное происхождение до сих пор вызывает споры), они в своем большинстве определенно были западными семитами (хананеями или аморреями). Они перенесли свою столицу в Аварис на северо – востоке нильской дельты и в течение почти века (около 1650–1542 г.г.) правили Египтом и частью Палестины. Весьма вероятно, что именно в этот период Иосиф и его братья переселились в Египет.
Борьба за освобождение Египта от иностранного владычества началась на юге, в Верхнем Египте. Основатель восемнадцатой династии Амозис захватил Аварис, оттеснил гиксов в Палестину и после трехлетней осады захватил Шарухен, их основной оплот. Став снова независимым, Египет стал придерживаться принципа, что лучшая оборона это нападение, и впервые стал на имперский путь развития в Азии. Эта стратегия привела к конфликту с новыми державами, уже расположенными в ней, и борьбе за мировое господство. Эта борьба вызвала тот феномен, который Дж. Х.Брестед назвал "Первым интернационализмом" – период, наилучшим образом описанный в связи с Исходом.
(3) Сирия-Палестина. Свидетельства этого периода о состоянии Сирии и Палестины ничтожны по сравнению с таковыми об основных культурных центрах – Египте и Месопотамии. Частью это может быть объяснено случайностью находок, но в основном это вызвано особенностями истории и материальной культуры самой Палестины. По словам У.Г.Девера:
"Теперь, когда мы располагаем более представительным взглядом на Палестину в контексте всего древнего Ближнего Востока, становится ясным, что эта страна всегда была в культурном застое, убогая не только с художественной точки зрения, но и экономически. Более того, ее бурная политическая история часто приводила к грабежам, разрушениям и последующим восстановлением различными народами, принадлежащими к различным культурам, что делает сложным разграничение культурных слоев грунта Палестины и не способствует сохранности материальных свидетельств. И, наконец, сочетание влажного климата центральной Палестины и того факта, что материалом для письма служили непрочный папируса и пергамент, лишает нас многих письменных свидетельств (в этом ряду Библия является исключением). Даже когда нам удается получить фрагменты литературных текстов, они оказываются такими отрывочными, что их соотнесение с материальными свидетельствами представляет большую сложность. Короче говоря, в противоположность соседним культурам, большая часть палестинской «археологии» предизраильского периода представляет собой настоящий "доисторический период".[138]138
«The Patriarchal Traditions» в кн. « Israelite and Judeam History», J.H. Hayes, J.M.Miller, eds. OTL (Philadelphia: 1977) p.74 и далее.
[Закрыть]
Соответственно, история Палестины этого периода не может быть написана вообще, и следует довольствоваться самыми общими утверждениями.
Вслед за темным промежуточным периодом в конце третьего тысячелетия, обычно именуемым Средней Бронзой I (СБ I),[139]139
СБ I является одним из самых оспариваемых с археологической точки зрения периодов раннепалестинской эры. Даже наименование этого периода не является твердо установленным. В своем определении У.Ф.Олбрайт указывает, что он понимает этот период как отделенный от Ранней Бронзы и связанный с последующим СБ II. Однако на основании своих раскопок у Иерихона, К.М.Кеньон установила полный культурный разрыв между «СБ I» как с предыдущим периодом РБ, так и последующим периодом СБ II, и таким образом установила «промежуточный период между РБ и СБ». Другие возражали и останавливали свой выбор на наименовании «РБ IV», т. к. казалось, что его отношения с предыдущим периодом ближе.
Нынешнее состояние толкования этого периода описано Девером следующим образом:
"В заключение следует отметить, что в течение последних двух десятилетий фактически произошел взрыв в изучении СБ I, вызванный обилием новых археологических находок, а также всплеском творческого теоретизирования. Однако следует предупредить, что археологи все еще не могут нарисовать исчерпывающую картину культуры СБ I в целом, не говоря уже об определении ее происхождения и этнических передвижениях, которые могут быть связаны с ее появлением в Палестине. Имеющийся в нашем распоряжении материал слишком скуден и непредставителен. Согласие существует лишь о связях СБ I с раннебронзовым, а не со среднебронзовым периодом; склонность подчеркивать ее полуоседлый характер больше, чем ее кочевые стороны; и предпочтение датировать ее на век раньше, чем датировка Олбрайта, т. е. около 2200–2000 гг. до Р.Х."; "Israelite and Judean History", p. 84. Как и Олбрайт, де Во и Кеньон, Девер приводит доводы в пользу того, что эта культура была принесена в Сирию-Палестину аморреями. Подробное рассмотрение этого периода, толкующее имеющиеся свидетельства как доказывающие скорее оседлый, нежели кочевой характер этой культуры и ее возникновение в результате процессов, происходящих в самой Палестине, а не привнесение ее из Сирии см. T.L.Thompson "The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Histirical Abraham" BZAW 133 (1974): 144–171. Критику взглядов Томпсона, которая поддерживает аморрейскую версию см. J.E.Huesman "Archeology and Early Israel: The Scene Today" CBQ37(1975): 1-16.
[Закрыть] возник новый культурный синтез, породивший развитую городскую цивилизацию. Ввиду отсутствия письменных материалов, эту цивилизацию лучше называть ее археологическим обозначением Средняя Бронза II, хотя последнее часто дублируется названием «ханаанская», взятым из наименования этой местности в поздних текстах.[140]140
Короткое, но полное обсуждение, насыщенное библиографией cM.Dever «Israelite and Judean History», pp.84–89.
[Закрыть] На основании стиля гончарных изделий этот период разделяется на два подпериода: СБ ПА (2000/1950-1800 гг.) – фаза становления культуры, и СБ НБ (1800–1550/1500 гг.)[141]141
Наименование СБ НБ-В дано для примирения разрыва в периоде, о котором говорят керамика и стратиграфия некоторых раскопок. Это является мелким вопросом, не относящимся к настоящему рассмотрению.
[Закрыть] – Этот второй период, представляющий собой продолжение развития СБ ПА, принес с собой процветание «ханаанской» цивилизации, которое породило те богатые и могущественные города-государства Сирии-Палестины, которые обнаружены во второй части периода, после 1600 г. г. На основании археологических данных ученые пришли к выводу, что в культурном отношении Палестина этого периода представляла собой одно целое с Великой Сирией. В настоящее время не вызывает сомнений, что представители этой городской цивилизации принадлежали в своем большинстве к гиксам – народу, правившему Египтом в течение Второго промежуточного периода. Они также оказывали наибольшое сопротивление созданию Египетской империи в Азии при фараонах восемнадцатой династии, правивших после гиксов.
В связи с тем, что палестинские тексты данного периода отсутствуют, вопрос о том, какой народ произвел эти культурные памятники, остается открытым. Однако, основываясь в своих выводах на очевидном сходстве между керамикой этой культуры и керамикой современной ей Сирии,[142]142
Девер следующим образом подводит итог современного состояния интерпретации археологических данных: «Самый занимательный вопрос, относящийся к этому периоду, касается происхождения материальной культуры СБ II и возможности соотнесения ее внешнего вида с перемещением народов. Этот вопрос пока не имеет ответа, но уже существует согласие относительно направления будущих исследований. Несмотря на то, что уже делались попытки соотнести керамику с предыдущим периодом, в настоящее время ясно, что в целом материальная культура СБ II не может быть выведена из СБ I. Поразительным в этой культуре является то, что она появилась в Палестине неожиданно, без местных предпосылок… Более того, хотя подробные сравнения невозможны из-за отсутствия надежного материала, можно согласиться с тем, что палестинская керамика ближе стоит к сирийской периода СБ ИА, чем к керамике любого другого периода в истории страны. Эти наблюдения наводят на мысль, что после подрыва жизни в Палестине в конце третьего тысячелетия (РБ IV-СБ I) имел место свежий культурный импульс из Сирии, приведший к образованию однородной мощной городской культуры, которая в середине Бронзового века доминировала во всем сиро-палестинском регионе. В связи с тем, что в верхней Месопотамии и Сирии этот период отмечен нашествием аморреев, почти все ученые сегодня отождествляют СБ ПА с приходом и обоснованием аморреев…»; «Israelite and Judean History», p.85 и далее.
Проблематичная природа современного состояния интерпретации проявляется в том, что аморреи рассматривались как виновники зарождения двух поразительно различных материальных культур – СБ I и СБ НА. Попытки объяснить это разными стадиями в культурном развитии этого народа (как, например, это делает Dever, стр.869) вряд ли кажутся убедительными. Ср. также De Vaux, "Early History", стр.63 и далее.
[Закрыть] на установленном тождестве между именами собственными из Палестины этого периода, встречающихся в египетских текстах-проклятиях,[143]143
Эти тексты состоят из трех групп проклятий, насылаемых на врагов фараона, начертанных египетскими иероглифами на сосудах и статуэтках, которые разбивались для приведения их в исполнение. Значительное их количество называют врагов фараона в Палестине и датируются периодом между 1875 и 1750 гг. Об этих текстах вообще и их отношении к аморрейским именам из Месопотамии см. Thompson, «Historicity…», pp.89-117.
[Закрыть] и аморрейскими именами, найденными в современных текстах из Сирии и Месопотамии, большинство ученых приписывает культуру СБ II в Палестине прибытию в этот регион аморреев,[144]144
CM.G.Posener, J.Bottero, Keyon, « Syria and Palestine c.2160–1780 B.C.», САН 1/2: 532–594; de Vaux, «Early History», pp.66–71.
[Закрыть] отмечая широкомасштабное этническое переселение из северной и центральной Сирии в Палестину.[145]145
Этот взгляд широко распространен благодаря книге J.Bright, «A History of Israel», 3d ed. (Philadelphia: 1981), pp.55 и далее, 96.
[Закрыть] Такое общее заключение невозможно сделать на основании имеющихся в настоящее время свидетельств.[146]146
Справедливо заметить, что само слово «аморреи», использованное для обозначения этих народов, способствует выработке гораздо более унифицированного взгляда на их историю и этническую принадлежность, чем это позволяют сделать свидетельства. Гораздо лучшим и менее пагубным термином был бы: «ранние западные семиты». Кроме того, собственно этническими переселениями, которые в настоящее время подтверждены текстами, являются: (1) из северной сиро-аравийской пустыни на восток и юг в Вавилонию в период Ура III (2060–1950 гг.); (2) из того же района на север через Ефрат в северо-западную Месопотамию в старовавилонский период, приблизительно два века спустя. Определенно не существует никаких текстуальных доказательств переселения «аморреев» из южной Вавилонии в северо-западную Месопотамию или из северо-западной Месопотамии в Палестину. См. Thompson, «Historicity…», pp.67-165.
[Закрыть] Во-первых, по своей природе археологические свидетельства немы и, хотя убедительны, но не окончательны.[147]147
Обратите внимание на незначительность выводов, приводимых Dever выше. Он указывает, что подробное сравнение палестинской керамики и сирийской затруднительно (в виду того, что в Сирии найдено очень мало посуды, относящейся к этому периоду).
[Закрыть] Вполне возможно, что стиль керамики, который появился так неожиданно в Палестине в СБ ПА и кажется так близко связанным с Сирией, появился в результате распространения и заимствования гончарных приемов посредством торговли и других контактов, например, посредством распространения культуры, а не этнической миграции.[148]148
По вопросу отождествления заметных изменений в манере и разнообразии гончарных изделий с изменениями населения без привлечения подтверждающих свидетельств в связи с интерпретацией СБ I CM.Thompson, « Historicity…» pp.145 и далее. Те же замечания относятся и кСБИ.
[Закрыть]
Во-вторых, что касается связи между именами из Палестины и аморрейскими именами из Месопотамии, установленное тождество является преждевременным выводом.[149]149
Это тождество основано на видимом сходстве двух комплектов имен (см. например, W.F. Allbright, «From the Stone Age to Christianity», 2nd ed.(Garden City: 1957, p. 164), которое не было подтверждено последующими исследованиями. Так, в «The Early History of the West Semitic Peoples», CS 15 (1961): 39, I.J. Gelb писал: "Насколько я могу судить о ситуации, в настоящее время невозможно выбрать между двумя выводами, один из которых утверждает, что язык имен в текстах-проклятиях сохраняет характерные черты старого западно-семитского языка, а именно аморрейского, а другой гласит, что он проявляет черты нововведений ханаанского языка. Кроме того, приводятся некоторые свидетельства того, что два набора имен представляют два различных диалекта, но существует слишком много неясностей для каких-либо выводов. CM.W.L.Moran «The Hebrew Language in its Northwest Semitic Background», BANE, p.78 сноска 29; и особенно Thompson, « Historicity…», стр.91–97.
[Закрыть] Далее, даже если эта основная идентичность и будет установлена, она не будет доказывать наличие этнического переселения из Месопотамии в Палестину. Существуют солидные доказательства того, что ранние западные семиты уже присутствовали в Палестине и на финикийском побережье задолго до их проникновения в Сирию (и северо-западную Месопотамию), поэтому выявление западно-семитских пришельцев среди уже существующего западносемитского населения представляется весьма проблематичным.[150]150
Географические названия известны своей консервативностью и сохраняют память об этнической картине гораздо более старшей, чем период, в котором они встречаются. (Сравните то, как современные арабские названия мест в Палестине часто сохраняют имена доарабского периода, часто восходя к Ветхому Завету и даже ранее). В свете этого представляется немаловажным то, что почти все географические названия в Палестине, восходящие к началу второго тысячелетия, являются западно-семитскими, в противоположность Сирии, где древнейшие географические названия не являются семитскими. См. Gelb. JCS 15 (1961): 41; Thompson, «Historicity…», pp.92, 319. Кроме того, тексты Эблы из Телл Мардиха могут пролить значительный свет на эту картину, поскольку утверждается, что местный язык являлся западно-семитским диалектом, ближайшими аналогами которого были ханаанские языки первого тысячелетия, включая древнееврейский!. Однако это еще нужно доказать; см. Gelb "Thoughts about Ibla: A Preliminary Evaluation, March, 1977 " Syro-Mesopotamian 1 (1977): 17–27.
[Закрыть] По крайней мере очевидно, что в настоящее время не существует данных в поддержку гипотезы о широкомасштабном переселении аморреев из северной и центральной Сирии. Далее, если даже гипотеза о переселении западных семитов в Палестину будет подкреплена археологическими и лингвистическими данными, то гораздо более вероятным представляется их переселение из районов юго-западной Сирии непосредственно к северу,[151]151
См. также De Vaux, «Early History», p.68.
[Закрыть] или из сирийской степи к северо-востоку от Палестины.
И наконец, к концу эры СБ II гуррские и индо-европейские имена появляются в текстах из этого региона, который назывался "Землей Гурру" египтянами восемнадцатой и девятнадцатой династии, показывая тем самым, что Палестина находилась под влиянием того же движения этих этнических групп, о котором сказано выше, когда речь шла о северо-западной Месопотамии. Вопрос о том, насколько глубоким было это влияние, и как скоро оно началось, остается спорным, однако представляется маловероятным, чтобы эта дата намного предшествовала пятнадцатому веку.[152]152
Обсуждение гуррского проникновения в Сирию и Палестину см. F.W.Bush, «Hurrians» IDBS, pp.423 и далее. Более подробное рассмотрение даты и степени проникновения гурров в Палестину см. de Vaux, «Les Hurrites de l'historie et les Horites de la Bible» Revue biblique 74 (1967):481–503.
[Закрыть]
ДАТА И ИСТОРИЧНОСТЬ ПАТРИАРХАЛЬНЫХ ПОВЕСТВОВАНИЙ
Все ветхозаветные традиции единодушно в помещают патриархальную эру перед исходом из Египта,[153]153
По этому вопросу см. D.J. Weisman, «Abraham Reassessed» pp. 149 и далее в кн. "Essays on the Patriarchal Narratives " под ред. A.R.Millard and D.J. Weisman (Leicester: 1980).
[Закрыть] т. е. где-то в вышеописанном периоде. Как родовая история группы людей, по всей вероятности ведших образ жизни кочевых скотоводов, патриархальное предание не приводит каких-либо данных, которые бы позволили связать людей или события, описанные в нем, с политической историей современных им государств или народов; исключением является нападение четырех царей, описанное в Быт. 14. Однако это событие до сих пор не поддается соотнесению с какими-либо внебиблейскими событиями. Учитывая также то, что почти все события патриархальных повествований происходили внутри самой Палестины, а, как было указано выше, наши знания об этой территории в течение этого периода весьма ограничены (и, судя по природе самих свидетельств, будут продолжать оставаться таковыми,[154]154
См. предыдущий раздел и особенно цитату Dever.
[Закрыть] точное определение места патриархов внутри этого периода представляется крайне сложным. Поэтому, попытки ученых осуществить это были такими долгими, трудными и часто вызывающими страстные споры, что в настоящей работе можно сделать лишь их краткий обзор.
В свете последних археологических открытий в области основных культурных районов Ближнего Востока периода второго тысячелетия до Р.Х., оценка исторической ценности патриархальных повествований выглядит гораздо более высокой, чем та, которая существовала в начале века (см. выше). Ряд исследований обобщили имеющиеся свидетельства и позволили достичь широкого консенсуса.[155]155
Наилучшие обзоры принадлежат De Vaux, «Les Patriarches Hebreux et les decouvertes modernes», RB 53 1946): 321–348; «The Hebrew Patriarches and Hystory», стр.111–121 в кн. De Vaux «The Bible and Ancient Near East» (London: 1971); и Н.Н. Rowley «Recent Discovery and the Patriarchal Age», pp.281–328 в кн. «The Servant of the Lord».
[Закрыть] Наиболее способным выразителем этого взгляда был W.F. Allbright,[156]156
Самой важной его разработкой является глава «Hebrew Beginnings» стр. 1–9 в кн. «The Biblical Period from Abraham to Ezra» (New York: 1963). Другими его разработками являются «The Hebrew Backgrounds of Israelite Origins», pp.236–249 в кн. «From the Stone Age to Christianity»; «Abram the Hebrew: A New Archeologicai Interpretation», SO BASOR 163 (1961): 36–54; «The Patriarchal Backgrounds of Israels Faith» pp.53-110 в кн." Yahweh and the Gods of Canaan" (1968: repr. Winona Lake: 1978); и изданная после его смерти «From Patriarchs to Moses: 1. From Abraham to Joseph» BA 36 (1973): 5-33.
[Закрыть] хотя классическая формулировка была дана J. Bright.[157]157
«History…» pp.77-103.
[Закрыть] Несмотря на разницу в деталях между взглядами различных ученых на историчность патриархов и датировку этого периода, по крайней мере в англо-язычном мире,[158]158
В Германии A.Alt и M.Noth поддерживают гораздо менее позитивную оценку исторической ценности Быт. 12–50. В «The History of Israel», Нот писал: «…кроме того, что уже было сказано, мы не имеем других доказательств для каких-либо определенных исторических утверждений о времени и месте, предпосылках и обстоятельствах жизни патриархов как живых людей. Даже первоначальное предание о патриархах в основном не касалось их как личностей, а рассматривало их в свете сделанных им Божественных обетовании» 2nd ed, (New York: 1960), стр.123. Alt и Noth, хотя и не игнорировали археологические данные, все же интересовались преимущественно изучением предлитературной истории повествований и устным преданием, из которого эти повествования возникли; для этого они использовали литературную технику «Gattungsgeschichte» (нем. «история жанров») и «Redaktionsgeschichte» (нем. «история редактирования»). Allbright и его последователи, не избегая методологии и результатов литературной критики, значительно большее внимание уделяли параллелям между библейскими текстами и небиблейским материалом. Эти два подхода столкнулись в ряде журнальных статей и обзоров. В своей работе «Early Israel and in Recent History Writing» Bright критикует методологию Noth, в частности, его отрицательные выводы об истинности преданий, связанные с тем, что он не принимает во внимание археологические свидетельства, и неспособность его взглядов надлежащим образом объяснить ни происхождение Израиля, ни его веру. Noth более подробно останавливается на археологии в своих работах «Hat die Bible doch Recht?» рр.7-22,в «Festschrift fur Gunther Dehn» (Neukirchen: 1957); и «Beitrag der Archeologie zur Geshichte Israels», VTS 7 (1960): 262–282; cp. «Der Urschprunge Israels im Lichte neuer Qellen» (Cologne: 1961).
Взаимная критика привела к некоторому смягчению крайних позиций, что было обобщено в работах De Vaux: "Method in the Study of Early Hebrew History", pp. 15–29 в кн. "The Bible in Modern Scholarship " под ред. J.P. Hyat (Nashville: 1965); "The Bible and Ancient Near East", pp.111–121; и "On Right and Wrong Uses of Archaeology", pp.64–80 в KH."Neam Eastern Archaeology" под ред. J.A.Sanders (Garden City: 1970). См. также J.A, Soggin "Ancient Biblical Tradicions and Modern Archaeological Discoveries" BA 23 (1960): 95-100.
De Vaux приходит к заключению, что "в конце концов, Noth, похоже, принимает все то, что принимает Bright относительно истории патриархов"; "The Bible and the Ancient Near East", p. 119. Такое утверждение несомненно является преувеличенным и в некоторой степени вводящим в заблуждение. Создается впечатление, что в утверждениях Noth почти содержится невольное признание всех параллелей и связей. Он постулирует лишь самую общую историчность в смысле того, что патриархи действительно существовали, но чувствует, что ничего более конкретного сказать нельзя. Тем не менее, Нот настолько изменил свою позицию, что смог сказать: "Мне кажется вполне определенным, что истоки Израиля уходят корнями в исторические условия, существование которых в середине второго тысячелетия доказано археологическими открытиями"; "Der Beitrag der Archaeologie zur Geshichte Israels", VTS 7 (1960): 269. Можно сказать, что в этих значительных пределах консенсус включает также и немецкую школу.
[Закрыть] принята общая точка зрения, которая хорошо сформулирована Албрайтом:
"…в целом, картина, изображенная в Книге Бытия является историчной, и нет никаких оснований сомневаться в точности биографических деталей и личностных очерков, которые придают патриархам жизненность, несравнимую с каким бы то ни было небиблейским персонажем всей обширной литературы древнего Ближнего Востока".[159]159
«Biblical Period», p.5.
[Закрыть]
Хотя Албрайт никогда не оставлял попыток увидеть период Средней Бронзы I как век патриархов,[160]160
Это было основано на его взгляде на этот период как на кочевническую интерлюдию между двумя городскими культурами РБШ и СБП и на том, что он датировал его 1800 г. Оба эти условия уже опровергнуты. См. выше; также Thompson, «Historicity…», pp.144–186; и особенно Dever, «Israelite and Judean History», pp.82 и далее, 93–95.
[Закрыть] большинство ученых помещают их в начале общей эры СБИ (т. е. в первых веках второго тысячелетия) и связывают их с предполагаемым аморрейским переселением.[161]161
Например, Bright, «History…», p.85; E.A.Speiser, «Patriarchs and Their Social Background» в кн. «Patriarchs and Judges. The World History of the Jewish People» под ред. B.Mazar, 1-я серия 2 (Brunswick, N.J.: 1971); S.Yeivin, «The Patriarchs in the Land of Canaan», там же; G.E.Mendenhall, «Biblical Hystory in Transition», pp.36–38 в BANE; D.N.Freedman, «Archaeology and the Future of Biblical Studies: the Biblical Languages», pp.297 в KH.Hyatt, «The Bible in Modern Scholarship». Очень полезный обзор основных воззрений и аргументов в их защиту см. de Vaux «Early History»,pp.259–263.
[Закрыть] Эта точка зрения тщательно и убедительно аргументирована R. De Vaux.[162]162
«Early History», p. 257–266.
[Закрыть] Почти каждая строчка свидетельств и аргументации, использованных для достижения этого консенсуса, серьезно оспаривалась в течение последних лет,[163]163
Хотя всегда были ученые, которые не придерживались позиции большинства (например, Mazar "The Historical Background the Book of Genesis " TNES 28 [1969]: 73–83), основной шквал вопросов, ставящих под сомнение буквально каждую строчку свидетельств в пользу историчности, был поднят Thompson в книге «Historicity…» и J. Van Seters в книге «Abraham in History and Tradition» (New Haven: 1975). Обе книги стремятся показать, что консенсус большинства лишен какой бы то ни было убедительности вообще. Thompson заявляет: «Результаты моих собственных исследований, если они в своем большинстве представляются убедительными, кажутся достаточно существенными для того, чтобы требовать полного пересмотра существующего взгляда на исторический характер патриархальных повествований. Эти результаты поддерживают позицию меньшинства, которое утверждает, что текст Книги Бытия не является историческим документом»; «Historicity…» р.2.
Хотя основном суждение Томпсона об историчности патриархов основано на литературной оценке текстов, как не претендующих на историографичность (стр.3), большая часть книги посвящена подробной и тщательно аргументированной попытке продемонстрировать неубедительность основных моментов обоснования историчности патриархальных повествований, базирующихся на археологических, эпиграфических и социо-юридических данных. Он считает, что эти тексты не имеют исторической ценности и датирует предания, заключенные в них, IX–VIII веками до Р.Х..
Van Seters также считает патриархальные повествования полностью неисторичными. Используя радикальную методологию "истории редактирования", он критикует литературные аргументы датирования их IX–VIII веками и, со своей стороны, датирует их периодами Пленения и после Пленения. Как дальнейшее подтверждение своей датировки, он пытается показать, что аргументы, основанные на общественных обычаях, кочевничестве и т. д. более подходят к концу первого тысячелетия, чем к началу второго.
Также в кн. "Israelite and Judean History" под. ред. Hayes и Miller, Dever проводит тщательное и усиленно подкрепленное документами рассмотрение археологического фона второго тысячелетия, в то время как W.M.Clark исследует сами библейские предания (pp.70-148). Оба придерживаются мнения о том, что если и можно приписывать библейским повествованиям историческую достоверность, то весьма в малой степени.
Полезное рассмотрение работ Thompson и Van Seters см. в M.J.Selman, "Comparative Customs of the Patriarchal Age", pp.99-108; в кн. " Essays on Patriarchal Narratives" под ред. Millard и Wiseman; и J.T.Luke, "Abraham and the Iron Age: Reflection on the New Patriarchal Studies", TSOT 4 (1977): 35–47.
[Закрыть] в связи с чем многие ученые уже не считают эту точку зрения достаточно убедительной.[164]164
Dever снимает весь вопрос одним предложением: «…Датировка СБ1, установленная Allbright, а также другие даты второго тысячелетия до Р.Х. исключаются недавними исследованиями Thompson и Van Seters»; «Israelite and Judean History», p. 94 и далее.
[Закрыть] Несмотря на то, что эти сомнения показали неубедительность некоторых свидетельств, используемых для установления историчности патриархальных преданий, существует более чем достаточно доказательств как в Библии, так и во вне-библейских текстах, что противоположный вывод – в пользу историчности повествований о патриархах является достаточно убедительным.
Во-первых, как поверхностное чтение, так и литературное изучение патриархальных повествований показывает их историографическую природу и назначение.[165]165
Полезное рассмотрение исторической природы и назначения патриархальных повествований, CM.Selman, «Essayes on the Patriarchal Narratives», pp.103–105; K.A.Kitchen, "The Bible in Its World " (London: 1978), pp.61–65; Luke JSOT 4 (1977): 35–38; и W.W.Hallo, « Biblical History in Its Near Eastern Setting: the Contextual Approach», pp. 1-26 в кн. «Scripture in Context: Essays on the Comparative Method» под ред. C.D.Evans, Hallo и J.B. White (Pittsburgh: 1980).
[Закрыть]
Если допустить, что повествования о патриархах не являются ни автобиографическими, ни биографическими; что их основные темы и нравственный смысл носят чисто богословский характер; что они дошли до нас через длинный ряд устной и письменной передачи – то, ни по основной идее, ни по форме, они не являются историей в современном смысле слова (см. ниже).[166]166
см. Bright, «History…» pp.75 и далее.
[Закрыть] Тем не менее, их форма и назначение ясно (и очевидно) определяются литературными и богословскими мотивами, уходящими корнями в пережитое прошлое общества, в исторически подкрепляемые предания.[167]167
см. Luke, TSOT 4 (1977): 36.
[Закрыть] Далее, сравнение их с другими древними ближневосточными повествовательными произведениями показывает, что по литературному типу они очень близки к исторически подкрепляемым повествованиям.[168]168
См. Kitchen, «The Bible in Its World», pp.61 и далее.
[Закрыть] В свете этого важно подчеркнуть, что библейские предания единодушно помещают время патриархов значительно раньше Исхода; два независимых предания определяют этот интервал порядком 400 лет.[169]169
Быт.15.13иИсх.12.40.
[Закрыть] В связи с тем, что стела Меренпты (см. ниже) датирует израильское присутствие в Палестине приблизительно 1220 годом,[170]170
Стела Мернепты датируется пятым годом царствования этого фараона; этот год должен находиться между 1220 и 1209 гг.; см. Kitchen, «The Bible in Its World», p.144 сноска 46.
[Закрыть] а Исход состоялся значительно раньше этой даты, по библейским данным эпоха патриархов завершилась как минимум в 1700 году до Р.Х.
Во-вторых, существенным для установления этой производной даты через соотношение библейских хронологий[171]171
Очевидно, что определение точкой отсчета 1700 года предполагает то, что Израиль, упомянутый в стеле Мернепты, относится к тем израильским коленам, которые вышли из Египта. Конечно это не поддается доказательству, но является широко распространенным предположением, позволяющим определить ближайшую дату окончания патриархального периода, основанную на библейских данных. Если 480 лет, названные в ЗЦар.6.1, следует понимать буквально, тогда библейские данные помещают Исход около 1450 г., а окончание патриархального периода около 1850 г. В любом случае, интересующая нас дата принадлежит первым векам второго тысячелетия.
[Закрыть] является существование значительных свидетельств того, что патриархальные повествования достоверно отражают условия, существовавшие на древнем Ближнем Востоке в начале второго тысячелетия. Основные положения этих свидетельств приведены ниже:
(1) Имена патриархов были широко распространены среди аморрейского населения того периода[172]172
CM.Bright, «History…», pp.77 и далее; de Vaux, «Early History», pp.193–200, 264; Kitchen, «The Bible in Its World», p.68.
[Закрыть] и могут быть определены как раннезападносемитские,[173]173
По поводу определения распространения западносемитских языков во втором тысячелетии, до этнических перемещений в его конце, которые породили «классические» и широко известные западносемитские языки первого тысячелетия и более позднего периода (особенно древнееврейский и арамейский) CM.Thompson, «Historicity…», рр.70–75. Принятие этой гораздо менее пагубной терминологии привело бы к заметному прояснению дискуссии.
[Закрыть] т. е. принадлежащие к языкам западносемитской группы, существовавшим во втором тысячелетии, в отличие от первого.[174]174
Thompson, там же, стр. 17–51, проводит исчерпывающее исследование параллелей между древними ближневосточными именами и именами патриархальных повествований в попытке доказать, что они характерны не только для второго, но и для первого тысячелетия, и что «можно встретить их везде, где мы находим имена западносемитских народов»; р.318. Хронологический разрыв, описанный ниже, существенно изменяет это утверждение. Далее, Thompson не предоставляет убедительных аргументов в пользу того, что эти имена могут «быть типологически классифицированы как раннезападносемитские» (р.317), особенно в свете своего рассмотрения терминологии (р. 72 и далее), где он отдает предпочтение термину «раннезападносемитские» для того, чтобы отличить «эти группы (т. е. аморреев) от поздних более известных языков и народов» (р.72), очевидно имея в виду ханаанские, арамейские и арабские языковые группы первого тысячелетия. Это кажется значительно более существенным явлением, чем то, что можно найти параллели с арамейскими и южноарабскими именами второй половины первого тысячелетия!
[Закрыть] Далее, исследование имен этого типа, которые все-таки встречаются в первом тысячелетии, выявляет существенный хронологический разрыв засвидетельствованный как в библейских, так и в небиблейских материалах. Так, имена этого типа встречаются среди небиблейских ранних западных семитов вплоть до конца второго тысячелетия,[175]175
Имена похожие на Абрам, Израиль и Иаков могут быть найдены начиная от текстов Мари (XVIII век) и до саркофага Ахирама (ХШ-Х век).
[Закрыть] а среди библейских имен, – от патриархального периода и, через век Моисея, вплоть до времени Давида[176]176
См. примечания к книге Нота "Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung. BWANT 10 (Stuttgart: 1928): 28. Сравните с аналогичными замечаниями относительно имени «Исаак», сделанными в KH.De Vaux « Early History…», p. 198, сноска 80.
[Закрыть] Затем, они не встречаются ни в одних текстах вплоть до времени классического арамейского преобладания, начинающегося в конце VIII – начале VII вв.[177]177
Внимательный анализ исследований Thompson (см. выше) показывает, что после 1000 г. для имени «Абрам» он может привести лишь четыре формально похожих имени из ассирийских текстов конца VIII начала VII (стр.30–35); для имен «Израиль» и «Иаков» он в состоянии привести лишь примеры похожих имен из арамейских диалектов Пальмиры и Элефантина, из эпиграфического южноарабского, и из еврейских имен в вавилонских текстах, датируемых пятым веком, взятых из Нота, «Израильские имена собственные». См. также De Voux, «Early History», p.206.
[Закрыть] В свете этого важно отметить, что упомянутый тип имен не встречается среди арамейских имен в текстах от X до VII вв,[178]178
Их известно около пятидесяти; cM.M.Liverani, «Antecedenti dell' onomastica aramaica antica», Rivista degli Studi Orienali 37 (1962): 65–76. См. De Vaux, «Early History», p.206.
[Закрыть] хотя они иногда встречаются в поздних арамейских диалектах. И наконец, вряд ли случайно то, что эти имена крайне редко встречаются среди ханаанских народов первого тысячелетия, а разрыв в засвидетельствовании (X–VII вв.) приходится на период ханаанского преобладания (т. е. период Израильской и Финикийской «империй» и их доминирующего влияния). Это хронологическое распределение является сильным аргументом в пользу того, что патриархальный период должен быть отнесен ко второму тысячелетию.[179]179
Оно делает крайне сложным отнесение их к периоду, указанному Thompson, – Железному веку, или точнее, – IX вв.; см. «Historicity…», стр.316–326.
[Закрыть]
(2) Путешествие Авраама из северо-западной Месопотамии (Харрана) в Ханаан сопутствуется условиями, относящимися к СБП А (2000/1950-1800). В этот новый, стабильный, мирный и процветающий период Ханаан находился в стадии высокого развития, независимо от того, пришли ли его создатели из Сирии, или это были палестинские туземцы, находящиеся под влиянием крупной культуры с севера.[180]180
См. исторический обзор выше.
[Закрыть] В частности, были открыты пути между Ханааном и севро-западной Месопотамией. В этот период были основаны или уже существовали большинство городов, упомянутых в патриархальных повествованиях, например, Сихем, Вефиль, Хеврон, Дофан и Иерусалим (если это был тот Салим, о котором упоминается в Быт. 14). Спорным моментом в этой теории является то, что местность Негев, один из основных пунктов путешествия Авраама, пока что не имеет никаких свидетельств своего существования в эпоху СБП, однако широко представлена в эпоху СБ1.[181]181
Подробный обзор археологических свидетельств, а также вывод о том, что Негев отсутствовал в период СБП, время Авраама следует отнести к концу СБ1, а Иакова к СБП, CM.J.J.Bimson, « Archaeological Data and the Dating of the Patriarchs» pp.59–92 в кн. « Essays on the Patryarchal Narratives» под ред. Millard и Wiseman.
[Закрыть]
Рассматривая эту теорию важно отметить, что она не указывает на этническое переселение аморреев из северо-западной Месопотамии в Ханаан в СБ1 или СБ II как исторический контекст переселения Авраама из Харрана в Ханаан. Кроме того, что такое переселение аморреев является чрезвычайно спорным (см. исторический обзор выше), оно не придает большей вероятности библейскому повествованию, просто потому, что в библейском тексте ничего не сказано о крупно-масштабном переселении, в котором бы участвовали Авраам и его спутники.[182]182
См. комментарии N.M. Sarna в «Biblical Archaeological Revew» 4 (1978): 52.
[Закрыть] Авраам переселяется не вместе со своим народом и даже не вместе со своим племенем); с ним странствуют лишь члены его семьи.[183]183
В Быт. 12.1 сказано: «Пойди из земли твоей, от родства твоего [т. е. племенной или подплеменной группы, связанной кровными узами] и из дома отца твоего [т. е. семьи в широком смысле]…»
[Закрыть] Все последующее повествование ясно указывает на то, что народ Авраама и все его родственники остались жить в северо-западной Месопотамии,[184]184
Так, Авраам посылает туда своего слугу, чтобы взять жену для своего сына Исаака (Быт.24); Ревекка посылает Иакова к его дяде Лавану в Арам Нахараим (северо-западная Месопотамия), чтобы ему избежать мщения Исава, чье первородство он тайком получил (27.41 и далее).
[Закрыть] в то время как он переселяется в Ханаан как чужестранец (др. евр. ger).
(3) Образ жизни кочевых скотоводов, который вели патриархи, полностью соответствует культурной среде начала второго тысячелетия. Понятие о номадизме на древнем Ближнем Востоке было коренным образом преобразовано недавними исследованиями природы кочевничества, проведенными современными антропологами. Уже нельзя слепо принимать за образец тот образ жизни, который вели значительно более поздние арабы-бедуины с их беспрерывными набегами на оседлые народы цивилизованных земель.[185]185
Арабский бедуинский номадизм основан на использовании верблюдов, которые одни могут пересечь центральную сиро-аравийскую пустыню Нефуд. Приручение верблюдов началось на Ближнем Востоке не раньше, чем около 1200 г.; см. Luke, «Pastoralism and Politics in Mari Period» (неопубликованная докт. дисс, Univercity of Michigan, 1965), pp.42 и далее.
[Закрыть] Напротив, кочевники-скотоводы полуорошаемой степи между пустыней и обрабатываемой землей[186]186
В Месопотамии, Сирии и Палестине эта степь, получающая около 10–25 см. ежегодных осадков, расположена большим полукругом между пустынными и обрабатываемыми районами с более высоким уровнем осадков, проходя вверх по месолотамской долине, через центральную и южную Сирию, вниз к прибрежному району Палестины. См. карту в кн. Dever, « Israelite and Judean HistoryH», p.728.
[Закрыть] находились в постоянном контакте с земледельческими поселениями, образуя двойственное сообщество, в котором земледельцы и скотоводы являлись взаимозависимыми составными частями одной племенной общности.[187]187
Мнение о том, что кочевничество с одной стороны и оседлый образ жизни с возделыванием земли взаимно исключали друг друга должно быть откорректировано. Фактически археологические свидетельства из предисторических деревень ясно показывают что возделывание культурных растений развилось из примитивного собирания съедобных растений без каких либо эпизодов кочевничества. Однако колы и овцы были одомашнены непосредственно в деревнях, а потому кочевое скотоводство «выросло» из деревенских поселений. См. R.J.Braidwood, Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdestan. Studies in Ancient Oriental Civilisaton 31 (Chicago: 1960):170–184; а также Luke " Pastoralism and Politics "pp. 22 и далее.
[Закрыть] Данной местности было свойственно взаимное движение между оседлыми земледельческими сообществами и кочевниками, которые периодически вторгались в степь в поисках пастбищ. Постоянно возникающие конфликты были не столько стычками между скотоводами и земледельцами, сколько борьбой за политическую власть между организованными городам-государствами с их мощными урбанистическими центрами и независимыми племенными образованиями, возглавляемыми вождями.
Хотя подробное рассмотрение концепции номадизма и сравнение с библейскими текстами еще не произведены, образ жизни патриархов, похоже, отражает именно это «диморфное» общество.[188]188
См. Dever, «Israelite and Judean History», pp.112–117; de Vaux, «Early History»,pp.229–233; и N.K. Gottwald, «Were the Early Israelites Pastoral Nomads?», pp.223–225 в кн. «Rhetorical Criticism», под ред. J.J.Jackson и M.Kessler (Pitsburgh: 1974).
[Закрыть] Патриархи разбивают свои лагеря вблизи городов (напр., Быт.12.6–9; 33.18–20) и даже проживают в качестве чужестранцев в самих городах (напр., Быт.20.1 и далее). Время от времени они занимаются сельским хозяйством (Быт.26.12 и далее); Лот «стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома» (Быт.13.12); и контрастирующий занятия Иакова и Исава (Быт.25.27–34) возможно отражают именно эту дихотомию. Однако, как и у Мари, патриархи являются пастухами, покрывая со своими стадами значительные расстояния; например, Иаков, проживая у Хеврона, посылает Иосифа навестить братьев у Сихема, но он обнаруживает, что они откочевали еще севернее к Дофану (Быт.37.12–17). Исследователи обнаружили использование параллельной терминологии Израилем и марийским обществом в областях племенного родства и кочевых стоянок.[189]189
De Vaux, «Early History», p.230 и далее; Dever, «Israelites and Judean History», p. 115 и далее.
[Закрыть] Совершенно ясно, что образ жизни, который вели библейские патриархи имеет ряд общих черт со скотоводческим номадизмом, описанным в марийских текстах, и что он вполне соответствует культурному контексту начала второго тысячелетия.[190]190
Здесь однако требуется еще значительное количество исследований. Обратите внимание на возражения, выдвигаемые Thompson против некритического принятия модели скотоводческого номадизма месопотамской степи для совершенно иной природной топографии Палестины; «The Background of the Patriarchs: A Reply to William Dever and Malcolm Clark», JSOT 9 (1978): 2-43, особ, стр.8-12.
[Закрыть]
(4) Различные социальные и юридические обычаи, встречающиеся в патриархальных повествованиях, могут быть сопоставлены с широким кругом социально-юридических обычаев, встречающихся как во втором, так и в первом тысячелетии, показывая, что эти повествования достоверно отражают давние традиции Ближнего Востока.[191]191
См. Bright, «History…», p.78 и далее; de Vaux, «Early History», p.241 и далее. Тщательный критический анализ см. Selman, «Essays on Patriarchal Narratives», pp.93-138.
[Закрыть] Эти социально-юридические параллели следует использовать с большой осторожностью. На этом основании часто делались попытки датировать эпоху патриархов первой половиной второго тысячелетия, указывая на параллели с текстами, относящимися к этому периоду, в частности, с текстами Нузи.[192]192
Подкрепленный документами отчет о развитии этой методологии см. Selman, там же, стр.93–99.
[Закрыть] Более свежие исследования показали необоснованность этой методологии по той простой причине, что период действия обычаев,[193]193
Вся эта процедура оказалась подверженной ошибкам, вызванным поверхностным сходством. Приводимые параллели часто базировались на толковании сложных текстов без выполнения соответствующих исследований, необходимых для получения убедительной интерпретации текстов, как библейских, так и небиблейских, в их собственном литературном и культурном обрамлении прежде, чем пытаться проводить параллели. Эта критика особенно верна для трактовок, касающихся текстов Нузи.
[Закрыть] оказался недостаточно точным хронологически, чтобы служить целям датировки. Обычай является хронологически значимым только в том случае, если может быть показана его принадлежность определенному периоду, однако социально-юридические обычаи древнего Ближнего Востока имели чаще всего очень длительный срок действия. В частности, следует отказаться[194]194
см. особ. Selman, «The Social Environment of the PatriarchsB», Tyndale Bulletin 27 (1976): 114–136; de Vaux, «Early History» pp.241–256; и Thompson, «Historicity…» стр.196–297.
[Закрыть] от особой связи между патриархальными повествованиями и характерной гуррской социокультурной средой, основанной на текстах Нузи, связи, которая часто преувеличивалась в аргументах, поддерживающих историчность патриархов.[195]195
Эти параллели с текстами Нузи часто считаются важными согласно гипотезе, что они объясняют черты, которые не встречаются далее в Ветхом Завете, или неправильно поняты последующими редакторами Пятикнижия. Далее, обычаи Нузи чаще всего определяются как гуррские на основании предполагаемой разницы между обычаями Нузи и обычаями общей ассиро-вавилонской культуры, которая по-иному сформировала ткань общества Нузи. Этот предполагаемый гуррский фон патриархальных обычаев получил особое значение в связи с тем, что основное местонахождение гурров в Месопотамии находилось в той самой местности, из которой Библия ведет происхождение патриархов, т. е. в окрестностях Харрана.
[Закрыть] Обычаи Нузи, использованные в сравнениях, были привлечены всего лишь из шести текстов от общей суммы около трехсот текстов семейных законов, найденных на месте раскопок, так что едва ли можно сказать, что они являются представительными даже для общества Нузи.[196]196
см. Selman, Tyndal Bulletin 27 (1976): 116.
[Закрыть] Во-вторых, обычаи Нузи демонстрируют гораздо больше схожести с социально-юридическими обычаями всего месопотамского мира вообще, чем это предполагалось ранее, и, следовательно, весь вопрос о самобытности гуррийской семейной жизни представляется крайне сомнительным.[197]197
Там же, стр.118.
[Закрыть] Тем не менее, значительное число действительных параллелей, найденных между патриархальными обычаями и обычаями древнего Ближнего Востока, доказывает, что патриархальные предания точно отражают то социальное и историческое обрамление, в которое их герои помещены Библией.[198]198
Список таких обычаев, основанный на здравой сравнительной методологии см. Selman, «Essays on Patriarchal Narratives», pp. 125–129.
[Закрыть]
(5) Общая картина патриархальной религии является ранней и достоверной.[199]199
См. рассуждения в KH.Bright," History…", pp. 100–103; де Vaux «Early History», pp.267–287; и особ. G.J. Wenham, «The Religion of the Patriarchs», pp.157–188 в кн. «Essays…», под ред. Millard и Wiseman.
[Закрыть] В частности, изображение Бога как личного Бога патриарха – главы клана (а не как Бога мест и святилищ, как это делалось у хананеев), заключающего односторонний завет и обещающего Божественную защиту, является достоверным. Далее, религия патриархов определенно не является «проекцией» в прошлое поздней Израильской веры. Некоторые черты, такие как регулярное использовние Божественного имени Ел вместо Яхве, полное отсутствие упоминаний или использования имени Ваал, непосредственность отношений Бога и патриархов (без посредничества священника, пророка или культа) и полное отсутствие упоминания об Иерусалиме,[200]200
Wenham, там же, pp. 184 и далее.
[Закрыть] четко указывают на это.
Другие линии доказательств менее очевидны.[201]201
Единственным местом в Быт. 12–50, которое можно связать с общей мировой историей является нападение четырех царей в гл.14. Хотя пока не найдено какой-либо связи с известными событиями, имена царей хорошо подходят к именам второго тысячелетия. «Амрафел» может, вероятно, быть интерпретирован как «аморрей»; «Ариох» вероятно «гурр» («Arriyuk» или «Arriwik» текстов Нузи); «Фидал» является древнееврейской формой «Тудхалиас» – имени четырех хеттских царей; а «Кедорлаомер» четко содержит два Еламских именных корня, пока еще не найденных вместе в других местах. По поводу «прото-арамейского» фона патриархальных повествований и спорного вопроса их отношения к Hapiru/Apiru, см. Bright, «History…», pp.90–95; de Vaux, «Early History», pp.200–209.
[Закрыть] Однако представленных свидетельств вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они были историческими фигурами. Это не значит, что хотя бы одно лицо или событие из патриархальных повествований было найдено во внебиблейских источниках; и вряд ли оно будет найдено, по той простой причине, что патриархальные повествования являются родовой историей. Сами патриархи были вождями полукочевых родов, чья жизнь мало кого интересовала вне их родового круга.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР ПАТРИАРХАЛЬНЫХ ПОВЕСТВОВАНИЙ
Хотя открытие заново древнего мира показало, что патриархальные повествования достоверно отражают тот период, в который Библия их помещает, означает ли это, что они являются «историей» в современном смысле слова? Всякое историческое произведение основано на реальных событиях в пространстве и времени. Между этими событиями и тем, что называется «историей» стоят две большие проблемы. Первая – это проблема знания. Каковы факты и как они сохранились? Если историк обладает докуметальными свидетельствами, каков промежуток времени между с-обытием и датой его записи? Если этот промежуток покрывается устным преданием, то существовали ли условия для точного сохранения фактов, такие как наличие связанной с ними социальной группы и исторической последовательности? Многое зависит от того, каким образом историк узнает о записываемых им событиях.
Вторая проблема – это значимость. Невозможно записать все, что происходит. Кроме того, многие события незначительны и бессмысленны для достижения определенной цели или удовлетворения определенных интересов. Для политического историка брачный контракт между простыми людьми не представляет интереса, в то время как для социального историка он представляет первичный интерес. Исторические записи не являются простой летописью событий, а требуют выбора, соотнесения событий друг с другом и выявления причинно-следственных отношений между ними. Таким образом, вопрос о целях автора, на основании которых он выбирает данные, приобретает первостепенное значение.
Библейские писатели не являются исключением, т. к. они также руководствовались этими двумя соображениями. Их богодухновенное писание (см. выше гл.2) не предполагает каких-либо изменений их человеческих, материальных знаний о прошлом. Как видно из библейских текстов, богодухновенность не давала им новой информации, чтобы прояснить непонятное. Они часто упоминают свои источники (Числ.21.14; Ис. Нав.10.12 и далее; 3 Цар.14.19), а сравнение различных мест указывает на то, что их знания о прошлом были различны. Рассказ о престолонаследии Соломона (З Цар.1–2) признается почти всеми учеными достоверным рассказом очевидца событий. Значительная часть текста написана одновременно, или почти одновременно с описываемыми событиями. Далее, текст происходит из такого периода израильской истории – монархии, – в котором социальные интституты обладали кадрами, техникой и материалами для увековечивания событий. С Книгой Судей ситуация иная. Как показывает Суд.21.25, автор жил значительно позже описываемых событий. Это был период борьбы и неустойчивости, сопровождающийся большими социальными потрясениями, а временами, и полной анархией. При таких условиях знания о прошлом являются разрозненными и случайными. Автор Книги Судей волей-неволей прибегает к систематизации (Суд.2.11–19) и вкладывает все свои исторические данные в богословские рамки.[202]202
См. Renckens, «Israel's Concept of the Beginning», pp.20–31.
[Закрыть] Далее, цели библейских авторов были в первую очередь богословскими, поэтому выбор и представление материала определяются их религиозным мировоззрением. Их в основном интересует участие Бога в человеческой истории, а не ее события. Они пересказывают историю таким образом, чтобы проповедовать свое богословие, независимо от того, что факты искупительной истории или некоторые богословские истины могут быть не так близко связаны с историей вообще. Они не искажают и не фальсифициуют историю; просто очень часто они выбирают только те факты, которые необходимы для достижения их целей.[203]203
Кое-кому с целями, отличающимися от наших, это, временами, может казаться искажением, но это уже вопрос взглядов. См. далее J.R.Porter, «Old Testament Historiography» pp. 124 и далее, в кн. «Tradicion and Interpretation» под peд. J.W.Anderson.
[Закрыть]
Что в свете этого можно сказать об историческом жанре патриархальных повествований? Во-первых, они являются историей рода, и ограничиваются описанием жизни рода, не заботясь о связи своего рассказа с иными событиями того времени. Как таковые, они передавались преимущественно через устное предание. Кочевники-скотоводы не ведут письменных летописей и сами рассказы обильно указывают на это. Они сгруппированы в три рассказа (происходящих из патриархальных родословий), редакционно отмеченных "формулой toledoth". Они часто дают лишь общее указание хронологических отношений; если хронология стеснена, то возникают серьезные проблемы. Например, в Быт.21.14 Авраам кладет Измаила на плечо Агари и отправляет ее в пустыню. Если хронология переходит из одной главы в другую как история, то Измаилу было уже 16 лет (Быт. 16.16; 21.5) Иаков родился, когда Исааку было 60 лет (Быт.25.26), а Исаак умер в 180 лет (Быт.35.28). Если придерживаться этой хронологии в всех связанных между собой главах, тогда Ревекка беспокоится по поводу жены для Иакова (Быт.27.46), когда его возраст между 80 и 100 годами!
Толкование этих глав как истории в современном смысле порождает и другие проблемы. В Быт.2 °Cарра в 90 лет является столь красивой женщиной, что Авраам, опасаясь за свою жизнь, выдает ее за свою сестру, в результате чего она оказывается в гареме Авимелеха, царя Герарского. Однако в гл. 18, когда Сарра смеется, услышав, что у нее родится сын, повествование указывает на то, что она была уже в летах преклонных, и "обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось" (ст. И). Дело не в цифре, которая указана для ее возраста, а в том, что целая серия рассказов признает, что она очень стара. Аналогичным образом, Авраам представлен мужем довольно преклонного возраста в 100 лет (Быт.18.11; ср. 24.1); он смеется, услышав о возможности иметь сына (Быт. 17.17), но все же чудесным образом становится отцом (Быт.21.7). Однако в Быт.25.1–6, лаконичным образом сказано о том, что после смерти Сарры (Быт.23) он берет себе еще одну жену и имеет множество сыновей. Затем он умирает в возрасте 175 лет.
Некоторые предания крайне сложно согласовать с историей. Как Мадиан, так и Измаил являются внучатыми дядями Иосифа, однако Мадианитяне и Измаильтяне появляются в его детстве в качестве караванных купцов, которые вели торговлю между Заиорданьем и Египтом (Быт.37.26–28). Амалик был внуком Исава (Быт.36.12), внука Авраама, однако во времена Авраама, Амаликитяне проживали в южной Палестине (Быт. 14.7).
Эти данные являются проблемой только в том случае, если эти циклы толкуются как история в современном определении. Однако их основным назначением является богословие, о чем сказано в начальных стихах, которые связывают Божественное обетование о спасении с призванием Авраама (Быт.12.1–3). Это обетование господствует над всеми последующими главами, которые намерены показать, как оно выполняется, не смотря на отсутствие наследника у Авраама. Такого рода «историческое произведение» должно быть определено как «хранимое прошлое» – коллективная память народа. Разница между повествованиями о патриархах и историческими произведениями Израильской монархии не опреляется исторической реальностью события, а лишь способом передачи. Через века был протянут мост устного предания[204]204
Похоже, не вызывает никаких возражений то, что эти предания были впервые записаны во времена Моисея (и скорее всего по его настоянию). В виду того, что различные договоры, в частности брачные, являются очень древними, разумно предположить наличие некоторых письменных документов. Далее, широкое распространение отчеств (Абрам бен Фарра и т. п.) делают написание родословных списков относительно несложным.
[Закрыть] В простых сообществах, среди, в основном, безграмотных людей, устное предание является значительно более точным и цепким, чем современный западный читатель может себе представить.[205]205
По поводу цепкости устного предания см. Allbright, «From the Stone Age to Christianity», pp.64–76, особ. 72 и далее.
[Закрыть] Кроме того, патриархальная культура обеспечивала идеальные условия для точной и достоверной передачи преданий: для нее была характерна закрытость, скрепленная кровными узами и религией (первоначально – одна семья, затем – многочисленный народ), патриархальное общество держалось вместе, благодаря изоляции и притеснениям извне. Таким образом, патриархальные повествования представляются народными преданиями, сохраненными коллективной памятью Израиля и сотканными вместе одаренными немногочисленными мастерами-рассказчиками.